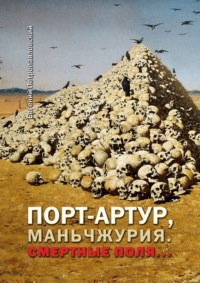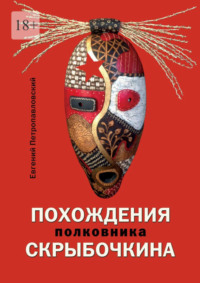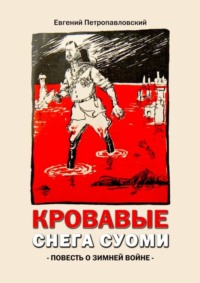Полная версия
Венеция. Пандемиозо
Вот как всё относительно.
Тем не менее город без автомобилей – это круто, мечтать о подобном сегодня, вероятно, мало кому даже в голову может прийти. Если же этот город вдобавок к отсутствию таратаек внутреннего сгорания ещё и людей куда-то попрятал, и ты можешь разгуливать по нему, как по заколдованному лесу, ощущая себя хозяином всего окружающего воздуха – это вообще сказка.
– Интересно, как они завозят продукты в магазины? – спросил я Анхен, когда мы ещё только собирались в Венецию и штудировали форумы и блоги с рассказами бывалых туристов о ней. – Там же, кроме местных, тусуется тьма приезжего народа, всех надо кормить каждый день. Кроме магазинов, есть ещё рестораны и кафе. Да и разные хозяйственные грузы: мебель, например, стройматериалы… И мусор вывозить – тоже необходимость каждодневная.
– Всё по воде везут, – пожала она плечами. – Специальными грузовыми катерами.
– Да это же целый катерный флот надо содержать для обслуживания города. Дорогое удовольствие.
– Значит, содержат катерный флот, куда им деваться. Приспособились за сотни лет. Видимо, туризмом всё окупается…
И теперь, оказавшись на борту отчалившего от берега вапоретто, я удобно откинулся на спинку сиденья и первым делом попытался оценить интенсивность движения по Гранд-каналу. К моему удивлению, ничего похожего на перегруженный трафик здесь не наблюдалось. Изредка встречались частники на маломерных моторках, ещё реже – одинокие медлительные судёнышки покрупнее. Позже (не только в этот, но и в последующие дни) мне всё же довелось узреть бороздившие воды Большого канала полицейские, санитарные, грузовые и разнокалиберные прогулочные катера. Правда, не случилось встретить плавучих мусоровозок и пожарных. Однако это вполне объяснимо: первые, вероятно, справляют свои служебные надобности в неурочные часы, пока население сплетается извилинами с Гипносом и Ониросом или, может, с Морфеем, Фантасом и Фобетором; а в огнеборцах просто не возникало необходимости ввиду отсутствия пожаров в пору нашего пребывания в Венеции.
Да, ещё катеров-катафалков я не видел, равно как и гондол аналогичного назначения. А они, естественно, существуют в этом водном мире, как же без них. Ну и слава богу, что не видел, на кой они мне сдались…
Между прочим, впоследствии, погуляв по Венеции, я понял, что любой транспорт, кроме водного, здесь действительно неуместен. Во-первых, потому что на тесных улочках зачастую не развернуться даже на велосипеде, и во-вторых, этот город сравнительно невелик, в нём на своих двоих вполне нормально себя ощущаешь, пока не заблудишься… Но это уже совсем другая история.
Мы двигались по главной водной артерии города, по своего рода его центральному проспекту; ели бутерброды с прошутто и глушили вирус проверенным народным способом – сами понимаете, каким.
Гранд-канал не имеет набережных: фасады зданий вырастают здесь прямо из воды. По круглому счёту, он не имеет ни малейшего морального права на собственное название, ибо это вовсе не рукотворный канал, а естественная протока (по-латыни «глубокий проток» звучит как «ривус альтус», отсюда и возникло название острова – Риальто).
Полуторатысячелетняя история окружала нас, проплывала за бортами вапоретто, материализуясь в образах дворцов и особняков Серениссимы: вот слева – палаццо Вендрамин-Калерджи (у дверей этого дворца сердечный приступ скосил Рихарда Вагнера, и композитор испустил дух на руках у гондольера), а справа – Фондако деи Турки с обращёнными к воде крытыми галереями (это бывшее турецкое подворье, а ныне – Музей естественной истории), и по соседству с ним – Фондако дель Меджио, старинное зернохранилище со львами святого Марка на фасаде, и палаццо Беллони-Батталья с остроконечными башенками-обелисками на крыше; а дальше, всё так же одесную по ходу нашего движения – церковь Сан-Стае (этак полуаббревиатурно местные сократили имечко святого Евстафия, которому по легенде во время охоты явился Христос); а за церковью – белокаменно-внушительные Ка Пезаро и Ка Корнер делла Реджина, имеющие очевидное внешнее сходство, хотя построены они в разное время и разными архитекторами…
Охренеть и убиться об стену любого из этих зданий, каждое из которых подобно опущенной в воду резной шкатулке: красивая, а не поднять, не утащить к себе на хаус.
Когда я садился на борт вапоретто, Венеция представлялась мне этакой безобидной увядающей красоткой, полуодушевлённым пунктом вселенского поэтического транзита, своего рода промежуточной станцией между ренессансом и декадансом (а от декаданса уже и до небытия один шаг). Поначалу имело место даже опасливо-самозащитное чувство отъединённости – невольное, сродни врождённому рефлексу. Но во время плавания по Большому каналу кое-что изменилось. Вынырнув из подёрнутой туманом виртуальной реальности, город предстал передо мной въяве, с каждой минутой набирая объём, наливаясь красками, пропитываясь воздухом жизни – и пошла реакция взаимопроникновения, растворения, обоюдопостижения, не знаю, как ещё можно назвать всё то, что двигалось навстречу и струилось сквозь меня… Ныне конкретных очертаний Венеции в моей памяти сохранилось не так уж много, но они и не столь важны; главное – настроение. Всё происходит в головах, любые чудеса там возможны. Мы – паломники в страну вымысла и химер, а по сути, внутрь самих себя, где всё зыбко, но предсказуемо, где всё – ожидание. На сей счёт вполне определённо высказался Ги де Мопассан:
«Венеция! Одно это слово уже зажигает душу восторгом, оно возбуждает всё, что есть в нас поэтического, оно напрягает всю нашу способность к восхищению. И когда мы приезжаем в этот странный город, мы неминуемо смотрим на него глазами предубеждёнными и восхищёнными – глазами наших грёз.
Ведь человек, странствуя по свету, почти неизбежно скрашивает своей фантазией то, что он видит перед собою. Путешественников обвиняют в том, что они лгут и обманывают тех, кто читает их рассказы. Нет, они не лгут, но они гораздо больше видят мысленным взором, чем глазами. Нас очаровал роман, нас взволновал десяток-другой стихов, нас пленил рассказ – и вот нами овладевает своеобразная лирическая восторженность путешественников; мы заранее горим желанием увидеть ту или иную страну, и эта страна неотразимо нас очаровывает.
Ни один уголок земли не дал столько поводов, как Венеция для этого заговора энтузиастов. Когда мы впервые попадаем в её столь прославленные лагуны, мы почти не в силах бороться с нашим уже сложившимся заранее впечатлением, не в силах испытать разочарование. Человек, который читал, грезил, который знает историю того города, куда он приехал, человек, пропитанный мнениями всех тех, кто посетил этот город раньше него, – этот человек приезжает с почти готовым впечатлением: он знает, что ему надо любить, что презирать, чем восхищаться».
С одной стороны, Мопассан почти не погрешил против истины. С другой же – на кой мне увозить в памяти растиражированную копию чужих впечатлений? О нет, я считал себя путешественником достаточно искушённым, чтобы понимать: ожидания и предчувствия редко воплощаются в полной мере, искажения неизбежны, потому лучше не пытаться предвосхитить грядущее. Мы, послы собственного воображения, всё равно прибудем туда вовремя. Идеальный вариант – ожидание в образе tabula rasa, хотя для этого надо родиться полным идиотом… Как бы то ни было, я постарался учесть ошибки своих предшественников и не питать чрезмерных ожиданий.
Однако сейчас, проплывая по Гранд-каналу, понял: это мне удалось не в полной мере. Быть может, не удалось вообще.
Я вертел головой, разглядывая теснившиеся друг к другу палаццо то за одним, то за другим бортом вапоретто, и сознавал, что не успеваю, катастрофически не успеваю усваивать зрительную информацию. Мой мозг приближался к эйдетическому коллапсу; увиденное сбивалось в кучу и представлялось невоспроизводимым в памяти. Водное пространство несло меня мимо призрачных берегов, растворяло в себе контуры зыбкой реальности прошедших минут и оставляло доступным восприятию только настоящее, сиюмоментное. Века и эпохи, множество безвестных жизней и человеческий труд, воплощённый в камне – теперь всё это превратилось лишь в короткоживущие следы на воде. Я плыл по Большому каналу, наполненному до краёв чужими следами, и сам превращался в след, в отражение, в едва уловимую игру солнечных бликов под мартовским небом Венеции.
И ещё – было очень трудно поверить, что вся эта красота построена на соплях.
Нет, ну я читал, разумеется, что в болотистую муляку Венецианской лагуны вбито бессчётное количество заострённых стволов лиственниц и дубов, на которых покоятся основания городских строений: вся Венеция стоит на миллионах окаменевших деревянных свай. Однако знание данного факта никак не сообразуется с тем, что открывается взору, когда слева по борту навстречу тебе выплывает асимметричный кружевной Ка д'Оро, образец венецианской готики, а справа, наискосок от Ка д'Оро, появляется неоготическое здание рыбного рынка Пескерия со стилизованными аркадами (сюда приходил по утрам Хемингуэй, чтобы поесть устриц, запивая их водкой), и далее, ошую – изрядно покрытый грибком Ка да Мосто, самый старый дворец на берегу Большого канала, построенный в венето-византийском стиле; а затем прямо по курсу вырастает мост Риальто, обрамлённый с двух сторон дворцами деи Камерленги и Фондако деи Тедески…
Когда мы выплыли из-под моста, Валериан от избытка чувств принялся декламировать стихи Андрея Щербака-Жукова и Андрея Тодорцева.
Анхен и Элен вели съёмку окрестных красот, а заодно снимали на смартфоны и Валериана (по их мнению, он в эти красоты весьма органично вписывался).
Канал на всём своём протяжении изгибался, точно любовно приобнимал Серениссиму.
А мы с Сержио поначалу перебрасывались короткими фразами, обмениваясь впечатлениями относительно увиденного, а затем заспорили:
– Надо купить проездной билет на вапоретто, – говорил он. – Будем плавать каждый день туда-сюда сколько захотим.
– Зачем плавать, – не соглашался я. – На Гранд-канале мы сегодня осмотримся, а потом будем ходить по Венеции пешком, наслаждаться.
– А ещё, я слышал, есть какой-то общий билет на посещение всех музеев в городе, – не унимался он.
– Зачем тебе музеи? Вся Венеция – музей под открытым небом.
– Тёмный ты человек, Женя! Оказаться в таком месте и не пойти ни в один музей? Нет, это неправильно! И в театр обязательно надо сходить!
– Театры и музеи, скорее всего, закрыты, – предположил я. – Из-за вируса.
– Может, закрыты, а может, и нет, – упорствовал он. – Ты же не знаешь точно, мы должны проверить.
Некоторое время мы вяло препирались по поводу наших дальнейших венецианских планов. И сошлись на том, что если covid-19 скосит Сержио прежде меня, то он завещает мне свою кожаную кепку (с упомянутым головным атрибутом он не расставался на протяжении всего путешествия).
– В музее подцепить заразу легче, чем на свежем воздухе, – заметил я. – Так что домой мне, наверное, уже в твоей кепочке суждено возвратиться.
– Ладно, – махнул рукой Сержио. – А всё остальное пусть Валериан забирает, если что.
Мы умолкли и предались созерцанию кварталов, возвышавшихся вдоль берегов Большого канала. Впрочем, берегов-то здесь как раз не имелось; это было ущелье, отвесными склонами коего служили фасады отражавшихся в воде старинных палаццо: выйти через парадную дверь любого из них возможно только если тебя поджидает снаружи гондола или моторная лодка… На сей счёт забавный случай рассказывал друзьям поэт Аполлон Григорьев. Будучи в Венеции, он здесь едва не утонул, когда, пожелав прогуляться, отворил дверь своего отеля и шагнул прямо в воду. По счастью, ему удалось ухватиться за сваю, к которой привязывали гондолы – и прислуга, сбежавшаяся на крик незадачливого постояльца, успела его вытащить.
– Вода – не моя стихия, – посмеиваясь, вспоминал Григорьев. – Хлебнул я тогда водицы от души. Слава богу, обошлось, а то ведь плаваю как топор.
Всего двое суток провёл поэт в Венеции, причём в один из вечеров он нанял гондольера, и тот целую ночь катал его по каналам. Блистательный город на воде столь запал в душу Аполлону Григорьеву, что впоследствии он написал поэму «Venezia la bella»; и впечатления ночного катания на гондоле не миновали даром, перелившись в строки:
То не был сон. Я плыл в Риальто, жадноГлядя на лик встававших предо мнойУзорчатых палаццо. С безотрадной,Суровой скорбью памяти немойГляделся в волны мраморный и хладный,Запечатлённый мрачной красотой,Их старый лик, по-старому нарядный,Но плесенью подёрнутый сырой…Venezia la bella – позже это выражение стало крылатым среди наших поэтов и художников. Василий Поленов (который здесь написал несколько картин с городскими видами) вспоминал:
«Venezia la bella (Красавица Венеция) – и действительно красавица, но не в нашем смысле, т. е. не в смысле красоты городов XIX века, – она и грязна, и воздух в ней не всегда душист и свеж, но это ничего от её собственной красоты не отнимает, она так оригинальна со своими дворцами, церквами, каналами, чёрными красивыми гондолами, своей характерной архитектурой, что представляется проезжему путнику чем-то фантастическим, каким-то волшебным сном»…
Allora, мы двигались по Большому каналу, впадавшему в параллельные пространства, неописуемо далёкие от эстетического терроризма современной цивилизации. Мы плыли, и минувшие времена теснились невдалеке, нависали над водой, отчётливо отражались в ней.
Перед нами представали, выныривая из полиморфной сопредельности, возвышенный палаццо Гримани и палаццо Пападополи с двумя шпилями на крыше, палаццо Бернардо с шестиарочными лоджиями и палаццо Бенцон (в прошлом здесь был литературный салон графини Марины Кверини-Бенцон, который посещали Байрон, Стендаль и многие другие известные писатели; а об эксцентричной хозяйке дворца рассказывали, что она, приветствуя Наполеона, станцевала на пьяцца Сан-Марко в одной античной тунике, сквозь которую просвечивало обнажённое тело)…
Столько красоты сразу было трудно воспринимать, сознание уже переполнилось ею через край; стены иных зданий почернели в тех местах, где они выступали из воды, но это лишь напоминало об их возрасте и прибавляло подлинности восприятию. А навстречу продолжали плыть и плыть подобные нескончаемой череде миражей палаццо Корнер-Спинелли, палаццо Барбариго делла Терацца, палаццо Пизани-Моретта (здесь останавливались многие именитые персоны, в том числе русский император Павел I, жена Наполеона Жозефина Богарне и австрийский император Иосиф II), три дворца семьи Мочениго, семеро представителей которой были дожами (в одном из этих дворцов жил Джордано Бруно, пока обучал Джованни Мочениго, а тот впоследствии выдал учёного инквизиции), палаццо Контарини делле Фигуре со множеством скульптурных деталей, палаццо Бальби, увенчанный двумя остроконечными обелисками, дворец ка Фоскари, принадлежавший дожу Франческо Фоскари, палаццо Джустиниани, (здесь Вагнер создал оперу «Тристан и Изольда»), палаццо Грасси, величественный ка Реццонико, в котором ныне находится музей Венеции XVIII века, палаццо Джустиниан-Лолин (ещё один дворец с двумя шпилями на крыше). И далее, после моста Академии, снова – дворцы, дворцы, дворцы… Многие влиятельные венецианцы считали своим долгом построить родовое гнездо над Гранд-каналом, и в названиях большинства здешних палаццо остались увековеченными фамилии их былых владельцев.
Явно выраженной архитектурной доминанты здесь не существовало, здания контрастировали между собой, как разнаряженные дамы на великосветской тусовке: сменяли друг друга украшенные орнаментами и барельефами изобильные фасады с колоннами, балконами, пилястрами, арочными окнами, с разными декоративными стилями и пропорциями, подчас асимметричные, но странным образом не создававшие впечатления несоразмерности и рассогласованности; они толпились над водой и щеголяли наперебой чем бог послал, позабыв о своём изрядном возрасте, и эта эклектичная пестрота, к моему удивлению, представляла собой абсурдную гармонию избытка – примерно так она ощущалась. Хотя любые слова, которые я способен подобрать, окажутся неточными.
Любопытно, кто сегодня живёт во всех тех палаццо, которые ещё не успели превратить в гостиницы? Ведь наверняка теплится какая-то жизнь: обедневшие наследники былой венецианской знати, современные чудаковатые нувориши со своими жёнами и любовницами, мрачные морские бродяги, искавшие остров Буян и по ошибке приплывшие к берегам совсем другой сказки, ихтиандры, выползающие тихими южными ночами из парадных прямо в воду, чтобы смочить пересохшие жабры в мутной воде канала… Здесь можно далеко зайти, если дать волю фантазии; этот полуэфемерный водный мир предоставляет ей свободу во всех направлениях. А как там обстоит на самом деле – в сущности, не имеет значения, ибо правдой являются исключительно те жизненные сюжеты, в которые мы позволяем себе поверить.
От избытка впечатлений и всего остального я выходил из вапоретто на причал слегка пошатываясь. А перед моим мысленным взором продолжали плыть шедевры барочной и готической архитектуры: резные фасады, колонны, башенки, стрельчатые окна… Они сменяли друг друга и утрачивали свои имена, все эти нескончаемые дворцы, дворцы, дворцы – неодномерные и полуиллюзорные, являвшие собой воплощение невозможного. Непохожие один на другой, акварельно отражались они в зеркально неподвижной глади канала, срастаясь с ней и с гумилёвскими строками:
Город, как голос наяды,В призрачно-светлом былом,Кружев узорных аркады,Воды застыли стеклом…Более века миновало с тех пор, как Николай Гумилёв выходил на эту набережную вместе с Анной Ахматовой. В начале мая 1912 года они – через Болонью и Падую – приехали сюда из Флоренции. Очарованные городом на воде, Николай и Анна катались по каналам, плавали на острова и фланировали по венецианским набережным. Трещина, наметившаяся в браке двух своенравных поэтов, казалось, вот-вот зарастёт: Анна ждала ребёнка, и Николай был с ней ласков и предупредителен.
– Трудно вообразить, что во времена Сфорца и Медичи всё здесь выглядело так же, как теперь, – говорила она, устремив взор вдоль уходящей в перспективу шеренги старинных палаццо.
Гумилёв развивал её мысль:
– Полагаю, даже Марко Поло, вернись он из своего путешествия сегодня, без труда узнал бы родной город.
После этого они пускались в рассуждения о делах глубокой старины, о превратностях судеб разных народов и, конечно же, о дальних странствиях, продолжая неспешную прогулку среди других парочек, совершавших променад по набережной.
Исполненные иллюзий относительно своей будущности, Николай и Анна провели в Венеции десять безмятежный дней. Он написал здесь несколько стихотворений; а из-под её пера – спустя два месяца – тоже родятся известные строки об этом городе:
Золотая голубятня у воды,Ласковой и млеюще-зелёной;Заметает ветерок солёныйЧёрных лодок узкие следы.Сколько нежных, странных лиц в толпе.В каждой лавке яркие игрушки:С книгой лев на вышитой подушке,С книгой лев на мраморном столбе.Как на древнем, выцветшем холсте,Стынет небо тускло-голубое…Но не тесно в этой теснотеИ не душно в сырости и зное.Увы, время надежд истекало. Через пять месяцев Анна Ахматова родит сына, однако ребёнок не спасёт увядших чувств. Супруги станут стремительно отдаляться друг от друга, и у обоих появятся сердечные увлечения на стороне. Официальный развод случится в 1918 году, но акмеистско-символистская сказка развеется гораздо раньше. «Николай Степанович всегда был холост, – будет вспоминать Ахматова в сердцах. – Я не представляю себе его женатым. Скоро после рождения Лёвы мы молча дали друг другу полную свободу и перестали интересоваться интимной стороной жизни друг друга».
…Впрочем, я изрядно отклонился от избранного маршрута; пора возвращаться из несиюминутности в достоверность – в близкорасположенный март две тысячи двадцатого.
Что ж, мы впятером, покинув борт вапоретто, отнюдь не помышляли заглядывать в своё будущее далее того, что нам предстояло через несколько минут. День знакомства с Венецией продолжался; нас ждала пьяцца Сан-Марко, до неё от причала было рукой подать, и мы, не мешкая, направили свои стопы в сторону упомянутой площади.
Кто бывал на Сан-Марко, тот может себе представить обширную площадь с непрестанным густонародным присутствием, разноязыким шелестом туристического тростника и зомбовато лыбящимися селфоманами на каждом шагу. Ещё голуби, разумеется, куда ж от них денешься.
Однако совсем не такую картину довелось нам увидеть. Туристов на пьяцца Сан-Марко было не более двух десятков (оказалось, это ещё не предел: явившись сюда через несколько дней, мы вообще могли по пальцам пересчитать своих собратьев по пофигизму, да и тех вежливо выгоняли полицейские).
Собор Святого Марка соседствует с Дворцом дожей, а напротив дворца расположена библиотека Сан-Марко. Вкупе с отдельно стоящей высоченной кампанилой эти строения обрамляют главную городскую площадь и весьма впечатляют – собственно, для того и построены, чтобы приводить в восторг разную приблудную деревенщину наподобие нас, грешных.
С собором связана история двух весёлых и находчивых венецианских купцов Буоно и Рустико, кои в начале девятого века приплыли в Египет и узнали, что сарацины повсеместно разрушают христианские церкви. Вознамерившись спасти от поругания мощи евангелиста Марка, хранившиеся в одном из александрийских храмов, ретивые купцы выкрали их и перенесли на свой корабль в большой корзине со свининой. При таможенном досмотре сарацины брезгливо поморщились: «Харам, харам!» – и не решились прикоснуться к свиным тушам, под которыми лежали останки апостола. Так святой Марк отправился в своё последнее морское путешествие и – долго ли коротко – достиг берегов Венеции. Здесь построили храм Святого Марка и перенесли в него мощи евангелиста, который с тех пор считается небесным покровителем города.
Какую ещё историю можно назвать более свинской, нежели эту? В хорошем смысле слова, конечно. Хотя сарацины вряд ли со мной согласились бы…
Увы, в связи с пандемией нынче в собор не пускали, потому нам не удалось увидеть ни его золотой алтарь, ни квадригу из позолоченной бронзы (единственную сохранившуюся скульптуру греческого мастера Лисиппа), ни сокровищницу со всеми теми предметами, кои венецианцы привезли сюда, разграбив Константинополь, ни Саломею с головой Иоанна Крестителя – мозаику в баптистерии Сан-Марко, вдохновившую Александра Блока на стихотворение – вот это:
Холодный ветер от лагуны.Гондол безмолвные гроба.Я в эту ночь – больной и юный —Простёрт у львиного столба.На башне, с песнию чугунной,Гиганты бьют полночный час.Марк утопил в лагуне луннойУзорный свой иконостас.В тени дворцовой галереи,Чуть озарённая луной,Таясь, проходит СаломеяС моей кровавой головой.Всё спит – дворцы, каналы, люди,Лишь призрака скользящий шаг,Лишь голова на чёрном блюдеГлядит с тоской в окрестный мрак.«Львиный столб», подле которого «простёрт» лирический герой поэта, слава богу, закрыть от моего взора не смог никакой коронавирус («Блоку путешествие по Италии навеяло большой стихотворный цикл, – думалось мне. – Так, может, Венеция и в мои мозги надует что-нибудь стоящее?»). Да и копию квадриги Лисиппа, возвышавшуюся над главным порталом собора, я наверняка не сумел бы отличить от укрытого под его сводами оригинала… А вот Дворец Дожей и обзорная площадка на кампаниле тоже оказались закрытыми. Впрочем, возможно, это и к лучшему. Потому что объём полученных впечатлений приближался к критическому, и мой мозг был близок к тому, чтобы потребовать если не апгрейда, то как минимум перезагрузки.
И всё же удивительно, насколько несходным бывает восприятие разными людьми одних и тех же культурных объектов. Ни похожий на огромную каменную шкатулку Дворец дожей, ни по-византийски затейливый собор Святого Марка не пробудили во мне ассоциаций с эпохой «архитектурно элементарной», «грубой» и «варварской», как это произошло с Василием Розановым – после чего он написал:
«Palazzo Ducale и св. Марк строились в эпоху столь архитектурно элементарную, во всех отношениях грубую, варварскую (как и готические соборы в такую же пору строились), что строителям едва ли и в голову приходило: „построить красиво“ или: „вещь, которую мы строим, будет красива“. У Пушкина стихи выходили не те красивы, какие он хотел, чтобы были красивы, а которые просто так вышли. Поэт иногда поёт вельможу – и скверно, а запоёт жаворонка – и выйдет отлично. Хотя о вельможе он старается больше, чем о жаворонке. И в архитектуре закон этот действует: хотят великолепное построить – выйдет претенциозное, холодное, деланное, нравственно убогое. Но дикарь-архитектор строит дикарю-герцогу: вдруг выходит тепло, осмысленно, воздушно – выходит единственная вещь в свете!».
Allora, осмотреть изнутри помещения дворца и собора нам не удалось, однако ничто не могло омрачить нашего настроения. Мы бродили по площади, обозревая окрестное великолепие, да изредка восклицали нечто восхищённое – типа: