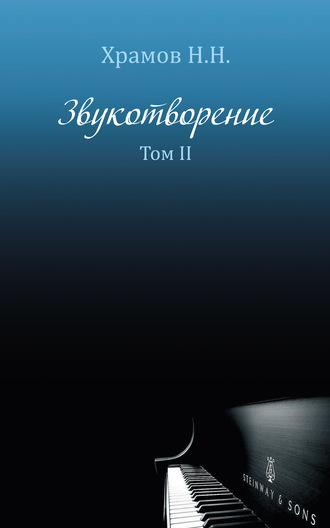
Полная версия
Звукотворение. Роман-мечта. Том 2
И – кому это хорошо, ежели действительно хорошо?!
…Всю жизнь он мучился. Почти каждый день, каждый миг! раздирал в кровь грудь, обнажал сердце. Был гоним. Его чурались, он слыл изгоем, не умел жить в коллективах (и не только в школе-интернате, но и много позже…], приспосабливаться к обыденности, к серости. Непонятый, страдающий… И даже привык к подобной несправедливости – имел одну-единственную отдушину, отдушинку – музыку.
И ещё – встречи…
О-о, благодаря им-то и познакомился с Наташей, с Наташенькой!.. Девушка поразила своей красотой, отзывчивостью, всепониманием. Он растворялся в её душе, уходил в себя, в бесконечность нечуждую, приветную и… боялся сделать предложение руки и сердца, болезненно, ранимо избегал разговоров на эту тему, ибо прекрасно знал, наперёд, что совершенно не приспособлен к семейной жизни, что, в конечном счёте, загубит на корню их светлую взаимность, поскольку он – эгоист, потому как по-настоящему нужна ему одна только музыка. Интуитивно прозрел в себе это! Ничего не мог поделать с таким положением вещей! Мучился сам и мучил её, Наташеньку святую, жертвенную, мудрую… Очень мудрую.
Жуткое и страшное: он вообще не умел строить долговременные отношения с людьми, с кем бы то ни было! Или фальшивил, притворялся, напяливал эдакую маску или откровенно уходил в себя – прочь, не заботясь совершенно о производимом впечатлении, только тяготясь безмерно и безумно, эгоистично желая уединиться. Зато встречи выручали! В огромном городе, где началась его исполнительская карьера, где обрёл постоянное место жительства, они, встречи эти, служили бальзамом, ненадолго исцеляли душевный недуг, доставшийся (знал это! знал, но ничего поделать с собой, изменить не мог, немог\) от поезда, который когда-то напугал до полусмерти. Почти каждый день знакомился с очаровательными девушками, откровенничал с ними, помогал каждой советом, делом, иногда и материально – лишь бы вобрать по крупице в душу измочаленную флюиды нежности, участия, отзывчивости, чьи-то сердечные тайны и чьё-то редкостное понимание именно его, Сергея Бородина, проблем… забот… Жил этим! Запасался впрок впечатлениями и откровениями, упоением взаимной, пусть и не очень долгой, но предельно искренней и насыщенной, честной дружбы с налётом амурным, интимным… хотя любая, каждая из прелестниц милых нужна была прежде всего физически, физически, ну, хоть ты тресни! Он просто не умел, стеснялся, боялся «быть, как все», дабы соблазнять, ему даже некогда было этим заниматься: уйму времени отнимала Музыка. Лучше всех, ближе и роднее всех стала именно она – Гармония. Сергей изучал огромное количество произведений различных по стилю, почерку, духу авторов – здесь наличествовали шедевры столпов ушедших эпох, гении сравнительно недавнего прошлого, непохожие друг на друга современники. Иногда Бородин невольно сравнивал свои ощущения, так сказать, палитру чувств, возникающие при знакомстве с новым дивом музыкальным и в ходе очередного ухаживания за юной красавицей, во время очередной встречи… И первое, и второе побуждало жить без оглядки, радуясь учащённому пульсу, с надеждой и нетерпением ожидая завтрашний день…
От Наташи у него не было секретов. Рассказывал ей о своих встречах, рассказывал обо всём. Самое страшное, заветное, хранящееся в интимнейших уголках души выложил перед ней – на её суд. («СБУД?..») И она приняла его таким, какой он есть. Одержимым, одиноким, «накручивающим самого себя» (так говорила!) идеалистом и эгоистом, да, да – эгоистом! Уважала в нём только одно: несёт свой крест, а не перекладывает спуд-гнёт на хрупкие плечи страдалиц и скиталиц по дорогам жизни, горемычно чистых, наивных – целомудренных и милосердных! Понимала: ему нужно общение, нужно постоянное разнообразие, поскольку ищет некий собирательный образ, лепит мозаичное полотно из счастливых надежд, часто разбивающихся вдребезги и до слёз царапающих его. Это – вторая натура Серёжи, Сергея. Нет-нет, не вторая – первая, главная. Ревность же, мелочная опека – они только убьют, разрушат идиллическую связь между ними, взаимное родство душ. Знала умом: права! Хотя сердечко нашёптывало, конечно, много чего ещё…
Подобно тому, как Клава в своё время удивительно прозрела творческую сущность, судьбу творческую Глазова, шестым чувством уразумела, насколько долог и тяжек, неблагодарен путь созидания, Наташа Родионова внезапным просветлением мысли постигла насквозь и личность Бородина – её Сергея Бородина… Достаточно было один-единственный раз послушать его исполнение «ЛУННОЙ», увидеть глаза молодого человека, пальцы, колдующие над клавиатурой и словно вылепливающие из невидимого материала звуки, звуки, звуки… ах! какие звуки… и слова-то не подберёшь, какие звуки! чтобы понять: он не от мира сего. Почему единственный раз?? Потому что она с поры той тщательно избегала присутствовать на его концертах – было больно за него, невыносимо больно было ей видеть, в каких корчах телесных, нравственных извлекает он чудесные стоны, подголоски, звоны и шорохи почти… – о, разве к таким людям подходят с обычными мерками? Конечно же, нет, НЕТ!!! Главное: чтобы никто из них не испытывал остро отрешённость, неприкаянность, некую ущербность. Не чувствовал, что к ним относятся иначе, хотя… Хотя (о, милое женское начало!) почему? Неужели есть что-то постыдное в элементарной жалости? Трудно поверить: человеку не хочется прислониться к родной душе, к душе другого человека, любимого, дорогого, дабы испытать психологический комфорт, уют, отдарить их сторицей – своею нежностью, заботой, признательным, бережным прикосновением ответным… плюс новыми великолепными достижениями в деле, которому посвятил себя и которое, без сомнения, нужно всем-всем-всем и возвышает в нас именно лучшие, сокровенные начала. Трудно предположить!
И ещё одно, касаемо Наташи. Ей стало очевидно – эти девушки нужны ему по мере того, как изучает он новые произведения. Немыслимым образом помогают Сергею, то попадая в унисон его распахнуто рвущейся встречь прекрасному душе, то «сглаживая углы» – диссонансы и шероховатости, неприятие им, исполнителем, авторской, композиторской! самобытности, почерка, стиля… Да в конце концов, просто что-то в тексте очередного нового музыкального произведения, осваиваемого на момент встречи, также новой, очередной, не даётся, не получается – технически проработано идеально, досконально, а в плане художественном – загвоздочка… так вот, тогда-то и уходит он в никуда, ищет, ищет место себе, гонимый, но не отторгнутый Музой и смутно, подспудно влекомый чувством уже и не шестым, а седьмым в объятия возбуждающие, вожделённые… В объятия не столько плотские, сколько – душевные, задушевные, где ещё одним чувством неизъяснимым постигает высокое, обретает успокоение, подсказку небесную: исполнять следует та-ак, автор задумал во-от что, тебе лишь поначалу это казалось странным, неприемлемым, однако теперь ведь ты и сам понял, принял, как естественное, убедился в правильности заложенной концепции… Подсказка та – это… чудо: чей-то взгляд, тёплый, внимательно-сочувствующий, чьё-то слово доброжелательное, чьё-то прикосновение – лёгкое, тихое, доверчивое… Родное… и вот – кризис преодолён! Можно снова набрасываться на клавиатуру, на нотный стан… Эгоизм? Вампиризм?! Девушка не думала, не желала думать в такой плоскости. Знала: что когда-то взято, с лихвой будет возвращено! Эту мудрость подсказало ей любящее сердце, ведь она – ДЕВУШКА ЕГО МЕЧТЫ.
…Сейчас, у окна в летний московский рай, вспоминая, держа в руках несколько первых, верхних, уже проигранных в ознакомительном порядке листков из довольно толстой пачки, присланной Глазовым, Сергей Бородин чувствовал глубочайшую признательность Наташе, десяткам других красавиц, носящих чудесные имена и подаривших ему столько возможностей, вдохновений, творческих сил – ставших подлинными Музами для него! Прошлое загодя, впрок подготавливало пианиста к главному в жизни. Эх, если бы он сумел использовать всё это! Те встречи, разговоры на вокзалах, где люди особенно откровенны друг с другом, помогание милым, зачастую беспомощным, непосредственным девушкам – вот он таскает их чемоданы, сумки, на ходу даёт советы, предостерегает… вот просто подходит к обиженной кем-то-чем-то-на-что-то незнакомке, в потерянной позе одиноко и брошенно пропадающей средь людской толчеи, в эпицентре, кажется, человеческого водоворота, подходит со словами «Если вам надо поплакать, поплачьте у меня на груди…», а она, и!! она бросается-таки ему на грудь, неудержимо, горько вырыдывает накопившееся… он же прикрывает бедняжечку от сторонних казённых, косых, порой неодобрительных, завистливых взоров, нежно-заботливо поглаживает девчушку, нашёптывает ей смешные нелепицы, чуть ли не сюсюкает, испытывая при этом чисто отцовские чувства… а вот…
На память пришло грозное военное время. Молодой музыкант, он, верный себе, знакомится с миловидной женщиной, лет около 30, которая, выяснилось, получила на днях «похоронку» и стала вдовой – с Валентиной Шурыгиной. Первые минуты диалога выглядят странно, он чувствует: не просто тягостен собеседнице, но и отталкивает её – она держится натянуто, отчуждённо и вместе с тем будто ждёт, чтобы… приласкали. Вскоре узнаёт о постигшем, свалившемся горе…
– Господи, да за что же мне такое наказание?
– …
– Как жить? Как теперь жить?!
– …
Он видит: жгут, мучают невыплаканные слёзы, которые запеклись внутри, и только ждут, ждут случая, чтобы содралась корка и можно было хлынуть из глаз в чьи-то склонённые души… подставленные незримо плечи надёжные и – в ладошеньки… Жгут, мучают! Прогорклостью сухой, зноящейи И, словно страшным обручем, сдавливается со всех боков ожидание это, выдавливает его, спрессовывая попутно до комочка нестерпимого, где, в почке словно, вызревает, произрастает облегчение – катарсис! Она, Валя, (имя потом узнал, как и то, что была сиротой круглой), собственно, даже и не слышала его, Бородина – пребывала в состоянии, близком к прострации. Ничем не отличалась от сотен, тысяч соотечественниц, получивших извещение трагическое, казённо-скупое – сначала поплакала, порыдала, потом стиснула было зубы, занялась делами-хлопотами своими, чтобы отвлечься, утопить в реке времени безысходность, скорбинушку: глядишь, пообвыкнет душа, утихнет горюшко-то… ан, нет, нет! В непредсказуемый миг взорвалось пространство внутри, рученьки-ноженьки ватными сделались, отказали – видать, настоящие, большие слёзы впереди были, журавлиным кликом опалить грозились – она их еще не вырыдала, думала: пролились в закутке, уединялась когда с треугольничком страшным, так ведь нет, нет! Нет!! Цветочки то были первые, на помин лёгонькие, цветочечки-точечки многоточия, после которого – господи! подумать-представить жутко, не по себе становится!
…И тогда он за руку приводит её к себе, приводит, не понимающую, чумную будто, гордую, беззащитную, прекрасную, надломленную и возвышенную сразу, усаживает в креслице и начинает играть, играть…
…и теперь уже иное видит: она оживает, взгляд становится целеустремлённым, сосредоточенным… В лице что-то изменяется – черты его нежно смягчаются, а «стена плача», которою было оно окружено незримо, становится прозрачнее, невесомее, исчезает вовсе – невидимое исчезает… вовсе…
– Господи! – Срывается к ней, падает на колени, целует её ноги… Ведь так было, было!! Заклинает:
– Простите меня, простите, что это не меня убили, что я жив…
Ему в мгновение следующее и также непредсказуемое стало невыносимо стыдно за всю свою жизнь до сих пор, гадко и мерзко, пакостно стало, хоть сквозь землю провались, а она, Валентина, великая душа, подымаясь над горем собственным, немеряным, чёрным, находила чуточку теплоты душевной и для него, Сергея, могущего фортепианными звуками перевернуть представления человеческие о человеческих же возможностях! Начала плакать, и он плакал вместе с ней, – плакал откровенно, радостно, не стесняясь слёз, даже напротив, ему нравилось, что они столь обильно, щедро льются из глаз, смешиваются с её влагой неутешной, горклой… нравилось, что оба находятся сейчас (тогда] в каком-то пронзительном, запредельном и для других недоступном мире, в мире, замешенном на боли рвущей-ревущей и вспоротом лезвием обоюдоострым, и они шагают ступнями босыми по ножевищу сквозь бездну мрака, а над головами – высокий светоносный щит, который бы взять… за которым бы укрыться… в том числе и от себя самих…
Откуда черпают силы внутренние такие люди, как Валентина – в тягчайшую из минут жизни враз порушенной, чадной женским крылышком пренежным укрыла и его, эгоиста, самовлюблённого талантишку, подарила незнакомому фактически человеку – свой мир… Не является ли горюшко безмерное эдакой кладезью, родником вечно бьющим истинного самоотречения и самопожертвования – единственного средства, вышибая клин не! клином, стать сильнее, мудрее, бескорыстнее, не пасть духом, а возродить в груди, приумножить добрые чувства, начала?! И не отступают ли в мгновения некие бренной нашей повседневности, не пропадают ли пропадом такие сущности, явления, вещи, в основе коих – ревность, зависть, злопамятство… самость?!! Минут часы, дни, недели… Уляжется сумбур. Дымка рассеется. Чистый, обжигающий свет пробьётся лучемётно и лучедатно – укажет истинный путь, а совесть живоносная наставит на него. И не будет стыдно Валентине за то, что разделила боль щемящую с посторонним человеком – и не надо тут больше слов никаких…
Эти встречи, встречи, ах! Эти не назначенные и преднамеренные встречи – тайные, памятные, следующие одна за другой столь необычным образом, что превращались в нечто единоцельное, бесконечное, без расставаний и разлук! Эти встречи-речи, эти встречи-раны, что легли на плечи поздно или рано и согрели еле… всё-таки согрели!
Но как же Наташа, спросите вы?
Однажды он сделал ей предложение.
И тогда она сказала в ответ… Слова девушки он помнил почти наизусть. Повторял их, словно молитву, мольбу! Повторял бездумно, свято, крылато…
– Брак убьёт нашу любовь. Давай останемся вечными любовниками. Пройдут годы, ты женишься, может быть, разведёшься, у тебя будут дети, внуки… станешь большой знаменитостью! Всё будет! Болезни, соседи, командировки, отпуска, свои проблемы, неудачи, достижения, утраты… Всё, как у всех. Я сказала, может быть, разведёшься… Это не от того, что желаю тебе несчастий, желаю развестись. Просто знаю тебя, твою неугомонную влюбчивую натуру. Так вот, милый, родной Серёжечка, если мы поженимся, то, считай, загробим, погубим всё светлое, доброе, что соединяет нас, пойми! А одними воспоминаниями сыт не будешь. Мы быстро насладимся близостью, исчерпаем себя, наши чувства, наши взаимные пристрастия. Выпьем до дна, осушим самоё души друг друга и тогда настанет такая тоска, хоть глаза выколи! А я… я предлагаю тебе сохранить нас для ближнего – ты для меня и я для тебя. Раз в году, ну, может, два раза в год мы будем видеться, будем встречаться… И выговариваться, делиться наболевшим, накипевшим. Будем постоянно жить с ощущением, со знанием того, что я есть у тебя, а ты – у меня. Самое сокровенное, позатайное, интимное будем доверять только друг другу, будем советоваться, помогать словом и делом ты – мне, а я – тебе. Станем эдакими отдушниками друг для дружки, настоящим берегом, тёплым, родным, желанным и приимным! Привыкнем к долгим разлукам… к предвкушению! Научимся выделять самое существенное и важное из общей массы жизненных впечатлений, проблем, а потом станем решать: стоит ли выносить это на суд родного человечка, на мой, либо на твой, соответственно, суд, чтобы не омрачать короткие минуты наших встреч, понимаешь? Зато мы никогда не загубим на корню редчайший дар судьбы – счастье любить и быть любимым… Согласен, нет? Всегда останемся нынешними! И обретём опыт преодоления в одиночку неурядиц наших, причём, ведь никто не обязывает нас крепиться под тяжестью тех или иных забот, горестей… А по глазам, по вздохам и угадываемой недоговоренности некой впоследствии будем читать глубинные мысли, невысказанное, будем расти над собой, совершенствоваться в постижении так называемых потёмок вообще всех! человеческих душ, понимаешь? Для нас не останется чужих душ!! Согласен?
Что мог он ответить ей – тогда?
Смотрел, прощаясь, на родимые чёрточки лица её, запоминая чуть заметные складки на коже, малюсенькую родинку рядышком с левым ухом, лёгкий, невидимый почти пушочек под нижней губой… отдавая отчёт в том, что вот сейчас выйдет из комнаты – на улицу, в суету сует и немедленно начнёт выискивать глазами новый объект для знакомства, флирта, романтических отношений, дабы с кем-то неутолимо откровенничать, кого-то задабривать, надеясь уже по привычке, безвольно, эгоистично склонить красавицу очередную к последующей близости – не только духовной, при этом тщательно скрывая, маскируя очевидное: домогается женщины, её ласк прикосновенных, страсти безоглядной, душевных шагов навстречу ему, такому безалаберному, постоянно в себе копающемуся – нет, не копающемуся, но роющемуся и вечно одинокому, ибо кроме музыки у него никого и ничего нет. Потому что (и в оном не признавался ни единой душе, кроме Наташи, конечно) остался невостребованным образ далёкой девочки Оли с румяным яблочком или с кринкой молочка парного в руке и теперь он, по сути, всё тот же мальчик Серёжа, сирота, невольно ищет её в каждой, да, в каждой, встречной, дабы заполнить невыносимую пустоту в груди. Пустоту, где хлещут одни только волны великой музыки земли…
…Они расстались вскоре. Разъехались, страна-то огромная! И потом регулярно виделись, как и было условлено, раз-два в году на несколько дней. И действительно, теряли голову: объятия, ласки их были отчаянными, жадными, разговоры велись на самые трудные, «запретные» темы (запретные в смысле и глубоко интимном – открывались до конца перед ближним… ближней… и в плане чисто политическом, социальном: обсуждали такие события, моменты, которые в те годы считались опасными, прилюдно поднимались крайне редко, шёпотом, с соблюдением бдительности, осторожности…] Наверно, так опытный врач-психолог общается со своими пациентами, да и то далеко не каждый – лишь тот, кому завтра на пенсию… кто уже сегодня заживо похоронил себя…
Оба ждали очередной встречи, загодя к ней готовились. Помехой двум любящим сердцам не стала даже Великая Отечественная война.
Он часто выступал с сольными концертами «на фронтах сражений» и поистине причащался боевым будням доблестных сынов и дочерей огромной Отчизны, людей, которые в минуты исполнения им классических и просто популярных произведений, в том числе и всенародных песен, становились самыми обыкновенными слушателями, никак не героическими командирами, комиссарами, солдатами, благодаря чему забывал об опасностях: артобстрелах, пулях-дурах шальных, бомбёжках и переносился мысленно под своды актовых залов, на открытые сцены больших городов… Несколько раз в пёстрой, многоликой массе пришедших на встречи эти музыкальные с ним видел, (по крайней мере, хотел видеть…] знакомые до боли глаза, причёску… Потом оказывалось, что обознался, однако ощущение огромного, приливающего волной внезапной счастья уносил с собой, лелеял, чтобы после, спустя некоторое время, слившись с Наташенькой в безумном поцелуе, на выдохе страстном поинтересоваться, не была ли она там-то и там-то…
Он так и не женился. Наталья выходила замуж, но развелась, одна воспитывала дочурку – Светланку. Всё как у всех, ну, не у всех – у многих, очень-очень многих… Кроме того, что у неё был Он, а у него – Она. Вечные любовники! Любовники… Слово-то какое! Отдаёт средневековым цинизмом и дешёвой, заплесневелой романтикой времён безвременных, случающихся наперекор… Не любовники – две половиночки, две вселенные, рвущиеся друг другу навстречу, но соединяющиеся лишь на считанные часы, дни и ночи, чтобы вновь разойтись по своим прозаическим орбитам, потонуть в извечности буден, в хаосе и бесплодии неприкаянного бытия… Им так мыслилось, мечталось… Бежали друг от друга, но ещё быстрее неслось время – не безвременье, а именно сроки назначенные, поры жизни ли, дожития…
А однажды… Однажды она не пришла к условленному месту и тогда Сергей Павлович понял: её не стало. Долго стоял у парапета одного из мостов через Неву, тускло глядел на воды седой, холодной реки и вдруг остро понял, что метался, искал некий собирательный образ, дабы утопить в фата-моргане прекрасной угловатую, выдолбленную душу свою, душу, опустошённую давным-давно, душу, мечущуюся бездарно в поисках другого, наверно, хозяина, не такого, каким являлся он, изгой, подлец, тряпка, замахнувшийся на божественное, на музыку, музыку, принадлежащую вовсе не ему, бывшую не его музыкой, о, не-ет – других великомучеников, святых, полубогов… Тех, кто мужественно творил, искал (в отличие от него!), кто не перемежался, как он, не убегал во встречи, не возвращался оттуда, из них, самообольщённый, и при том возвращался (относится к нему, к Сергею Павловичу!) не целиком, весь, а кусками, кусками, кусками в безуют, в иллюзию – к роялю… да-да, возвращался кусками, поскольку разрывался постоянно на части и неведомо ещё было, что же именно вернулось, а что бродит вовне, осело навсегда на стороне, то ли найдя, то ли окончательно потеряв беспокойный покой?!. Порывистый ледяной ветер с севера вдруг стал похож на эти самые куски – налетал, обдавал студеностью, промозглостью, напоминал сухой, потрескавшийся наждак, но не тот, о который шлифуют какие-либо поверхности, а который сам нуждался в очищении, настолько порист, упругорыхл и несказанен был. Настолько занозил неприкаянностью собственной и требовал ответной ласки, участия… они были одним целым тогда – он, Бородин, и ветер жестокий, израненный, бросающийся на первого встречного, на него, исполнителя, глядящего с моста в невский свинец. Бездомные, грубо выхваченные из лона общего, земного, брошенные в никуда. В ни во что… Оба возвращались – и не могли возвратиться; один, человек, – в прежнее состояние, ведь так много человеческого, пусть и кусков, реяло где-то средь людей, а другой – ветрище, стихия и, представьте себе, здесь также были куски, пускай свои, но куски, куски, будь они трижды неладны… здесь были такие куски, что в своё время обнимали, ластились к чьим-то (ведомо к чьим!) устам, очам, овевали нежно-небрежно чьи-то(!..) прелестные черты… Тогда и осенила его простая до жути мысль: «Разве они, великие композиторы эпох, простили бы мне такое вот отношение моё к творчеству… к постоянной глубинной сути звукотворений своих? Простили бы мне, человеку без святости, без идеалов, без цельности и уважения как минимум к самому же себе??»
Тогда-то и началась переоценка его жизненных ориентиров, ценностей… Но это уже отдельная глава…
…которая органично связана с предыдущей жизнью Сергея Павловича Бородина.
Тогда, в Питере, простояв половину вторую дня над хмурой позднеоктябрьской Невой, продрогнув, отвернувшись от прохожих – не дай Бог, признают в застывшей изваянно фигуре всемирно известного исполнителя, он думал, думал, думал о тёмной стороне преунылой судьбы своей: единственное, что поддерживало, это надежда, тлеющая и потому теплющаяся, но тающая, тающая, увы… Призрачное упование, что уж сегодня, теперь! непременно донесёт до Наташеньки невыносимость одиночества, постоянного ожидания самой главной – последней – встречи, встречи… что не растеряет слова – такое случалось с ним прежде, не забудет мысли, идеи, заготовленные фразы (не общие, нет!), но обстоятельно и последовательно поговорит с женщиной об их взаимных чувствах, о дальнейших планах на жизнь… Убедит её: довольно, мол, поиграли в романтику – и хватит, давай жить вместе, как все нормальные люди… Дочурку приму, ведь не чужая, как и ты…
Ветер высекал слёзы, пробирал до косточек, редкие солнечные лучики не успевали приветить, приласкать то, что таилось под одёжкой и ещё глубже… В минуты отдельные Бородин… проклинал Наталью, жалел себя, но всего более попасть хотел в комфортабельный гостиничный номер на двоих, чтобы распить с ней за встречу (встречу…] шампанское, согреться, утонуть в её очах, растворить в женщине по толичке накопившееся – сумятицу чувств, бред, боль, угрызения совести и непонимание ни-че-го в жизни… Он ненавидел и тут же боготворил, благословлял!! И совершенно не представлял себе, что будет делать один в этом самом номере… Боялся возвращаться туда, где полагал, не-ет, где должен был провести эту, возможно, и следующую ночь. Бродил кругами, бурно-взволнованно, хотя внешне и неприметно, внутренне вздрагивал, завидя в отдаленье сколь-нибудь похожую на её, Наташи, фигуру, всё надеялся, надеялся и уже как будто слышал знакомые шаги, уже бросался навстречу любимой с распростёртыми объятиями, ощущал на губах своих вкус Наташиных – что-то, отдающее мятой и изысканным импортным бальзамом, слегка шокирующим сладковатостью приторной, томностью, обещанием… да, долгожданным, таким родным, тёплым, возбуждающим… колдовским…


