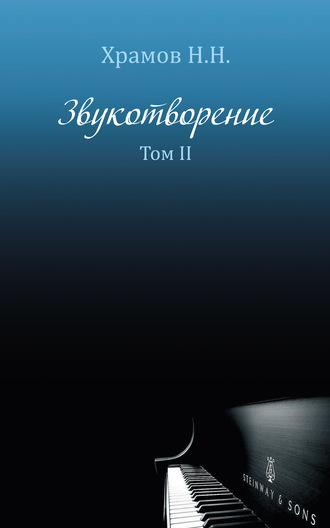
Полная версия
Звукотворение. Роман-мечта. Том 2
И всё же…
…как запутанно, сложно и, действительно, гениально просто в мире!
В какой-то момент он принялся вспоминать собственную жизнь, сравнивать её с судьбой Композитора – почти фантастической, нереальной, похожей на живую легенду. И – судить себя. От имени Бога, не иначе, а скорее всего, от лица того нового самого себя, избранного Глазовым, каким почувствовал «Я» своё вскоре по ознакомлении первичном, беглом со страницами первыми «ЗЕМНОЙ». Судить себя… Ибо в противном случае творец незаметно превращается в обывателя, довольного всем на свете. Судить, а не критиковать. Судить, втайне надеясь, что многое в его жизни ещё изменится к лучшему. Хотя и отдавая отчёт в том, что такой судьбы, как у Анатолия Фёдоровича, таких потрясений он в отпущенный ему век никогда не испытает. Конечно, бурная, полная впечатляющих событий жизнь вовсе не означает, что конкретная личность станет мудрой, целеустремлённой, сильной, добьётся успехов и свернёт горы на творческом (применительно, опять-таки, к нему, к исполнителю!) пути.
И всё же… «Одним абзацем» если…
Сергей Павлович знал, что в детстве Глазова чуть не забили до смерти и лишь редчайшей силы бурелом спас его, с ним ещё несколько мужиков от мученической гибели под розгами, плетьми да шомполами в руках озверевших выродков. Знал, что потом долгое время был Глазов эдакой «игрушкой», реально же – единственным и наиродимейшим другом для дочери миллионера сибирского, первостатейного, который собственное же дитя похотливо развращал. Откуда знал? ведь сам Анатолий Фёдорович отличался и немногословием, и тактом природным… А вот откуда. Довелось как-то Бородину побывать на одном «великосветском» приёме, где, в числе прочих, присутствовал некто Николай Рубан, подвизавшийся на ниве не то музыкальной, не то напрямую связанной с органами государственной цензуры в сфере культурной, более того – с органами чуть ли не безопасности – что здесь преобладало, не поймёшь. Так вот, когда собравшиеся назюзюкались, и кулуарно, перекуривая в биллиардной, о всяком-разном лёгкий трёп завели, кому не лень косточки перемывая, живчик сей поделился «по секрету» информацией небезынтересной, касающейся личности Глазова. Тем более, что Анатолий Фёдорович вызывал у подавляющего большинства людей противоположные чувства, кои подогревались искусно некомпетентностью общей, загадочностью и необъятностью, что ли, фигуры композитора плюс досужими сплетнями, слухами, вымыслом… Но о последнем ниже. Итак, побывав «игрушкой» при дочери миллионера, впоследствии убитого «взбунтовавшимися мужиками» (по выражению того же Рубана), Глазов затем долго носился с идеей какого-то там памятника – предлагал оный в форме гигантского барельефа высечь на одной из сопок – на манер скульптурного, в Соединённых Штатах, увековечения американских президентов и обстоятельством сим не преминули воспользоваться давние недоброжелатели сибиряка, самородка: по телефону беспроводному представили грандиозный замысел этот в невыгодном свете, после чего таковым странным (мягко говоря!), отдающим запашком прозападным, был он доложен Хозяину… (Мы помним, что в столице нашлись и порядочные, трезвые головы, нашедшие проект удачным, что позволило композитору «набрать очки»…) Далее – «антиреснее»: завёл Глазов шашни, роман, то бишь, с дочерью репрессированного генерала какого-то московского… Бог ему судья! И не только Бог(!] Вот здесь и пошли сплетни да выдумки, Бородин тогда их мимо ушей пропустил, – что ему до отношений любовных двух тоскующих сердец! Однако краем уха уловил последующие разглагольствования Рубана и таким образом наслышен стал об относительно более поздних годах жизни Глазова, которого оставили в покое по той лишь причине, что не поступило никаких категоричных и жёстких указаний в его адрес сверху… Видимо, что-то в «затее» композитора сибирского вызывало на самом верху и положительные эмоции. Сам же Анатолий Фёдорович стал автором нескольких пьес, названных им «ПРЕДТЕЧАМИ», создал знаменитый на весь белый свет «РЕКВИЕМ», несколько интересных миниатюр. Накануне Великой Отечественной войны приглашён был в Германию, где его принимали с почётом, с уважением люди, относящие себя к музыкальному искусству и принадлежащие к ближайшему окружению главного рупора фашистской пропаганды – Геббельса. Незадолго до поездки памятной оной с официальным визитом там, в третьем Рейхе, побывал советский министр иностранных дел Молотов и подписал в логове врага, в Берлине, акт о ненападении взаимном… Тогда, на волне эйфории непонятной, раздутой активно в известных целях, реализовывалась установка – всячески пресекать панические настроения, могущие по тем или иным причинам возникнуть у населения, в нужном свете показывать отношения между СССР и Германией, наконец, учить людей революционной бдительности, чтобы не поддавались они провокационным выходкам со стороны нежелательных элементов. На волне всезахлёбывающей веры народной в непогрешимость вождя многим казалось, что война с фашизмом отодвинулась лет на пять-семь, хотя трезвомыслящие головы, истинные патриоты понимали и предостерегали, нередко во вред себе же: столкновения не избежать и столкновения, судя по наглеющим гитлеровцам, скорого. В такой обстановке, многосложной, насыщенной и оптимизмом осторожным, и шапкозакидательством («Воевать будем на территории врага!»), и даже высокомерным отношением к стране, захватившей практически Европу! и отбыл Глазов на родину Вагнера, Гейне, Гёте… разумеется, подробностей и деталей не ведает никто, подробности событий не так давно минувших дней известны одному Анатолию Фёдоровичу, он же не «особливо охоч» (с его, кстати, слов!) откровенничать. Ясно было одно: фашисты показали ему железную мощь и несокрушимость рейха, фанатизм и мистический почти (по образному выражению асов геббельсовской пропаганды) дух Шикльгруббера и при этом попросили Глазова написать Гимн Гитлеровской Германии!! Создали ему прекрасные условия для работы. В Саксонской Швейцарии, посреди живописнейших озёр, венециеобразно соединённых протоками, каналами, на зеленотенистом бережку выделили домичек с прислугой из переодетых гестаповцев – твори, гений! Предложили иные – назовём вещи своими именами – интимные развлечения – да осенит, мол, Тебя её величество Муза!! Тебе, Тебе по плечу сверхзадача! От услуг оных, последних, Анатолий Фёдорович решительно отказался (произнося это, Рубан от себя добавил: «якобы»): душа не лежит. Немцы, опытные психологи, не настаивали, не торопили, выделив, правда, в услужение композитору красавицу Гертруду. Единственно что – постарались, насколько возможно было, надёжно изолировать его от внешнего мира, от войны, разразившейся в ночь на 22-е июня 1941-го. Танковые армады Гудериана, воздушные акробаты Геринга саранчесвастиковой лавиной двинулись отовсюду к столице первого в истории человечества государства рабочих и крестьян, а также на север и на юг СССР… Глазов же (тут Рубан опять с неохотцей в голосе добавил «якобы») ничего этого не знал, окружённый заботой, вниманием приставленных к нему «телохранителей» и поварят с Гертрудой. Он отдыхал, работал над какими-то новыми «ПРЕДТЕЧАМИ»… Пока однажды случайно совершенно не увидел наших граждан, захваченных по большей части силой и вывезенных в Германию для выполнения рабских работ и, чего скрывать, медицинских исследований… Произошло это в начале сентября того же 41-го – близился к концу срок, отведённый (предварительно пока, только предварительно] теми, кто «заказал музыку», ибо по плану «БАРБАРОССА» вот-вот должна была пасть Москва и Гитлер желал услышать величайший из гимнов, находясь на Красной площади города, обречённого им в будущем на затопление… Цинизм, верх самонадеянности и варварства. Но всё враз изменилось. Великан вырвался на свободу, сокрушил охрану, голыми руками заломал невесть сколько эсэсовцев… И – начались его скитания по чужой земле… Гигант рвался на Родину, к линии фронта, по пути освободил небольшую группу военнопленных, которых, словно скотину, гнали на заклание. Несколько раз ему помогали немецкие антифашисты, у которых надёжно прятался в, казалось бы, безысходных, тупиковых ситуациях… – однако заветная линия фронта отодвигалась дальше, дальше, на восток. Уж больно мощно и неудержимо наседали фрицы, захватчики. Ещё знал Бородин (и не только от Рубана, у исполнителя имелись и свои источники информации!]: Глазову удалось пробиться к своим, вызывали его в соответствующие органы, где долго и занудливо допрашивали и не поверили ни единому слову композитора. Его арестовали, но богатырь, верный слову собственному в полон боле не попадать, вторично вырвался на волю, разбросав несколько, на сей раз своих, конвоиров (не до смерти шуганул их – помял слегка…] – и… исчез. Его искали, прочёсывали лес, для чего выделены были специальные подразделения, суровое наказание понесли и лица, прямо виновные в недогляде, в том, что упустили Анатолия Фёдоровича. Военный трибунал судил и вынес суровейший приговор особистам армейского звена, которые допрашивали композитора и при этом ничего толкового, конкретного от него не добились, наоборот, побудили к побегу столь необычным, отчаянно бесстрашным образом. Да и бессовестным, к тому же. (Бородин не знал и не мог знать, что в ситуации этой также подсуетился знакомец наш давнишний Рубан-младший, проклятый впоследствии и музыкальной богемой, и вообще всеми советскими людьми – вылил ушат грязи на бывшего сокурсника по консерватории, попомнил заодно и Анну Шипилову, наговорил того, чего в помине не было. Завистник, сволочная душонка, одним словом! На что рассчитывал? Сделать шажочек очередной в карьере?) Да, бессовестным, что поразило всех, кто знал Глазова… Искали же Анатолия Фёдоровича долго, но безрезультатно. Пропал бесследно иголкой в стогу сена! И никто не догадывался, предположить не мог, что Глазов ночами, ползком, питаясь чем попало, опять же совершая дерзкие в одиночку налёты на ненавистных врагов (зазевавшихся, оторвавшихся от своих подразделений, частей по причинам объективного и субъективного порядка), помогая партизанам, мирным жителям, остающимся на оккупированной немцами территории снова, как недавно, самостоятельно, поскольку ни с кем ему, к сожалению, не было по пути, продвигался в родную тайгу, к Яркам и Беловодью, дабы там, найдя Зарудного, добиться правды, истинного правосудия! Вот они – судьба и суд. Суд и судьба. А теперь начинается самое невероятное. Потом, позже, он, Глазов, неохотно и весьма скупо объяснял кому следовало (также и журналистской братии!), что совершенно случайно оказался в подземных жилищах странных, давным давно отошедших от жизни мирской людей – чудей; несколько десятков этих несчастных долгие-долгие годы, а практически десятилетия и века, поколениями не видят света дневного, обитают в глухомани, в отрытых ещё предками «ихними» глубоких норах, а иначе-то местопребывание публики сей крохотной не определишь! Чудями назвал народец оный малочисленный, изгоев поневоле? нет ли? Иван Зарудный и назвал так, ссылаясь на легенды забытые, небылицы, ещё его матерью рассказанные ему в детстве, а она, оказывается, при жизни многое знавала такого, о чём шёпотом только посвящённые друг с другом уединённо говорят… Словом, на многие годы осел в краях тех Глазов, почему-то изменивший решение своё добиваться с помощью Зарудного полной для себя реабилитации, отказавшись даже, в случае попадания в штрафное подразделение, громить ненавистного врага и кровью смывать позор, вымещая горе народное, внося посильную лепту в Победу грядущую и несомненную. Там, у чудей, повстречал он и какую-то знакомую давнишнюю, монахиню, имени её никому не открыл, сообщив единственно, что последовал совету её, остался с подземцами и в урочный час готов понести любое наказание за всё, что совершил. Когда же Глазова спросили, каким образом доставал он бумагу, чернила, иные принадлежности для написания эпохального произведения своего (создавал ведь «ЗЕМНУЮ СОНАТУ» свою он у чудей, да!], композитор ответил, что была у него помощница, только вот имени её «ни в жисть, под угрозой смерти страшной» не назовёт. А потом… потом настала оттепель, его, осуждённого, приговорённого к скольким-то годам, амнистировали и это произошло не заочно, как при вынесении приговора, а в присутствии сына Фёдора, немного, но странно изменившегося внешне, и стало событие данное знаменательным, поскольку наглядно продемонстрировало высокий гуманизм советского социалистического правосудия. (Хотя, чего греха таить, сам композитор наверняка воспринял такое решение Верховного суда СССР в качестве подарка судьбы… им вряд ли заслуженного!] «ЧТО СУДЬБА СКАЖЕТ, ХОТЬ ПРАВОСУД, ХОТЬ КРИВОСУД, А ТАК ТОМУ И БЫТЬ!» Теперь зато поубавилось слухов, сплетней, распускаемых длинными, без костей, языками злопыхателей, завистников, давящихся от распираемой их ненависти к озарённому светом гению. Поубавилось в количественном отношении – содержание же наговоров смутных и пересудов, кочующих от одних «сливок общества» к другим, оставалось неизменным: струсил, предал, нет ему прощения! У бабонек да чудей всяких отсиживался, пока герои кровь за святое дело проливали!
…Но можно ли одним абзацем, раскрыть душу и жизнь одного человека? Одним исследованием – даже многотомным – вынести вердикт, а одной лебединою песней списать грехи, постигнуть причины, мотивы, оправдать?.. Один одному не указ. Один против мира не сголдишь[4]! И все мы – не одного ли поля ягоды??? Разве человек виноват в том, что судьба его складывается именно так, не иначе? Ведь, что ни говори, как ни крути, а человек – вот он, живёт и живёт каждый божий день, следовательно так или иначе созидает собственную судьбу. Самоё жизнью, существованием!
И всё же: разве можно простить до конца?\
На смертном одре дано оглянуться нам назад и окинуть мысленным взором, постичь нерукотворный монумент своей судьбы, и вымолить последним, одним «прощай-прости» все семь не смертных грехов, ибо на поверку смертным оказывается лишь один – пребывание под Богом слепым, то есть, вся жизнь наша – твоя, моя. Не покаявшись, не исповедавшись, тяжко, ох, как тяжко уходить навсегда за черту, отделяющую каждого от вечности слепоглухонемой… «А что я? – Сергею Павловичу подумалось. – Что я и кто я? Мне ли судить?»
Человеку свойственно постоянно вспоминать прошлое, как и свойственно дышать. Помимо воли, инстинктивно погружается он в былое, заново переживает невозвратимое, поскольку оно пребывает в нём, неотделимо от него, является тенью души его…
Детства Бородин почти не помнил… Из случайных, хаотических источников знал, что отец был офицером царской армии, дворянином умер, пересекая границу, эмигрируя из новой, Советской! России, которую не сумел принять, полюбить. (Кто являлся настоящим отцом, ведь Катюша приняла малютку «заместо» умершего собственного дитяти, так и осталось неразгаданной тайной. Ведомо же: всякая тайна грудью крыта, а грудь – подоплекой.) О матери чуточку больше ведал: руки её, улыбку красивую, нежность песенную к нему, тогда ещё только-только начинающему делать первые шажки. Врезалось навечно в память детскую что-то, как из сна страшенного: темень предутренняя… паника в доме, где жили… какие-то люди, люди – соседи?., его мама сидит, заботливо поддерживаемая с обеих сторон чьими-то руками, опустив ноги в таз с водой… И – всё. Потом в воспоминаниях обрыв, крах… Потом – без мамы… И без многочисленных дядей-тётей – маминых братцев-сестричек, коих, по-правде ежели, он с годами смешал-перепутал в одну многоликую, пёструю и голосисто-назойливую кучу-не-мал у…
У семи нянек дитя без присмотру?
Права мудрость народная?
Именно, что права, увы. Оттого-то, а главным образом по причине голода повсеместного, и остался мальчик совершенно один: сородичи разбрелись кто куда – распалась семья без Катеньки… Уроки же её прижизненные да наставления ребятишки сберегли-сохранили в умах и сердечках, руководствовались оными, аки напутствиями, в последующие годы свои, но про то иной сказ…
И наверняка бы сгинул, погиб в безвременье лихом, наполовину диком, когда новое лишь брало разгон сквозь шелуху-коросту отживающего, одначе подвезло: приютил некто Герасим Афанасьевич Строгов – дед Герасим. Жил выше по Волге, на отшибе, в домишечке махоньком, выходящем оконцами двумя на реку… До деревеньки ближайшей с полторы версты…
И было в человеке этом что-то былинное, как и в Волге-реке, на берегах которой и начинал свой жизненный путь Сергей Бородин. Всякая судьба, говорят, сбудется: «судб» и «сбуд» (Как и суд…)
Бородин понятия не имел, что покойная мать его, да и не мать-то вовсе – мачеха, в годы далёкие-близкие полюбила со взаимностью начальника конвоя, который раскрыл ей душу свою мятежную и пошёл на преступление государственное за во имя чувств неимоверных тех (а может, детей её ради?!), стал дезертиром натуральным и помог ей скрыться в степях заволжских опосля ноченек безумных, отчаянных… и что вскорости расстреляли человеколюбца служилого без суда и следствия, а спасённая им, из удавки раскулачивания вынутая мамочка (язык не поворачивается такую женщину мачехой называть!), всем пригожая наша Екатерина Дмитриевна, по следу, проложенному назад, в сторону Малыклы подалась было, да не дошла… передумала… документишки, имела какие, припрятала надёжно, чтобы, значит, с листа белого, чистого жизнь продолжить-начать… сама же вверх свернула, течения супротив недалёкой уже Волги, по дыханию могучему угадываемой, вверх, направо то бишь, где с «кучей малой» и прибилась нечаянно к случайным людям добрым… Поняли те, не поняли, кто в края их забрёл, только приняли сразу, накормили, хотя и сами с корки на корку перебивались, пусть во дни иные по присловью выходило – «не всё с рыбкою, ино с репкою», так вот, приняли, накормили, за что спасибочки им русское, с поклоном поясным! А погоня Екатерину Дмитриевну не догнала, не-ет: ловко-умело обставил побег начальник конвоя (об Опутине речь…) и не менее «чётко», «грамотно» организованы были поиск так называемый – не состоялась поимка-то! Неизвестны Бородину были и другие подробности: недолго прожила беженка-возвращенка – скончалась от внезапного сердечного ли приступа, кровоизлияния? Детей всех, больших и малых, раскидала судьба, да подобрала власть Советская, не загинули чтобы… Опять судьба! Судьбинушка-дубинушка, что по головке гладит. Не зря буковки переставляют в народе: «судб» – «сбуд»!
Зато помнил Сергей Павлович старого Герасима!
Белоседого, морщинистого, с бородою в аршин дедомо-розовской, неулыбчивого. Не запамятовал, как в сапожищах высоких-рыбацких заходил тот в воду, кланялся-здоровкался с простором синим, чистоплеским, широко-нагрудно крестился – по-своему и очень торжественно, необычайно медленно, словно нащупывая, нащупав! некий ритм Волги и опасаясь, что не подладится под него, упустит с таким трудом найденное… Размыкал уста – эх, да чего уж там, до сих ведь пор звучит в сознании, в ушах Бородина строговское «Волга-Волженька-Волжища!..» и тотчас предстаёт взору мысленному пианиста фигура статная, в обносках застиранных-серых, волгаря Герасима, коий, когда ещё! на свой счёт парнишке сказывался – дескать, судовщиком с полвека, почитай, вверх-вниз хаживал, полюбил незакатной любовью реку… и потому, как сейчас, видит музыкант: вот «вшагиват», за бреднем будто, на глубину Герасим, застынет… перекрестится величаво, низкие поклоны отдаст… кругом тишь… только блики солнечные, сдаётся, поблёскивают мирно… Вдруг, чу!., доносится с дуновением благостным лёгкий басок хриплый-окающий, неразборчивый… что кажет? с кем общий язык сыскал?.. Минута-другая сплывут… и раздаётся завершающее, венчающее «Волга-Волженька-Волжища!!», после чего круто поворачивает дед… на берег поднимается, под стать Черномору пушкинскому, только без витязей прекрасных числом в тридцать – назад сам-один идёт-возвра-щается! И сбегает, искрясь, водица с него и просветлён лик… Разве забудешь такое! Обряд сей странный Герасим Афанасьевич совершал регулярно, в погоду любую. Ну, а лёд или шуга на поверхности, – взбирался в гору недалече, на взлобочек всходил, и оттуда, грозный, непостижимый, слал молитвы-заклинания, таинство творил сокровенное. Казалось, незримой пуповиной связан с рекой, борода вся – словно из пены взбитой, что вот-вот осядет с шипением неслышимым почти, а потом с утёса приглянувшегося того ручеёчечками масипусенькими в подгорье и стечёт – будто сотни волосинок с бороды окладистой вниз серебрецом окатят… И ещё помнил Сергей Павлович шторм на реке, когда ходуном ходили, друг за дружку держась, земля и небо, а домичек их дрожал под ветром выгонным, северным и страшно было наружу нос высунуть… (И что-то смутно вставало, поминалось-не вспоминалось из пучин прошлого, а что – неведомо…)
– Нище, с копылков не слетим! – перекрывал грохотанье окрестное деда Герасима бас, а он, пацан, хватался за одёжку убогую, солёным потом выбеленную, за сапоги, 46-го, небось, размера(!) и вечно рыбой пахнущие – словно за мамаку несуществующую хватался: зарыться с головой, спастись! Скорее бы кончилась не сказка ужасная!!
Деревенька, неподалёку от которой обитал старый Герасим, ничего особенного собой не представляла и мало чем с Малыклой разнилась: такие же подворья убогие, избы, соломой крытые, журавель колодезный, часовенка на виду – отмолить боль-беду. Только Малыклу Серёжа, понятное дело, не помнил по причине малолетства, в деревнюшку же эту хаживал впоследствии нередко, посылаемый «дедой» за хлебом-солью-молоком… есть про что рассказать будет. И ярчайшим в калейдоскопе детства был осколочек, сердце маленькое подзадевший: Оля. Девчушка тая очаровывала своей непосредственностью, весёлым постоянством, чем-то ещё невыразимым, родным, одному детству присущим. Глядел на неё и столбенел Серёжа наш: будто всегда знавал её, и словно многое с нею связано было… Своя в доску! Дивился немо, а заговорить, «поспрошать» не решался. Кроме «Приветик!», «здрассс…», «снова ты?!» да «как живёшь?» и, напослед, «Ну, я пошёл!» – ничего. Общались мало, односложно, ибо и она в ответ «Пришёл?», «не запылился?» («Запылился, поди!»), «счастливенько!..» – и точка. Возвращаясь обратно, к деду Герасиму, Серёжа уносил в груди острое, непонятное желание вновь увидеть Оленьку, чтобы заполнить какую-то пустоту, какую-то нишу в себе, унять нойку, свербящую тихо, сладко и позатайно… А потом, дома, вспоминал, вспоминал, ждал завтрашней или послезавтрашней встречи, радуясь небу, Волге, новому дню…
Она частенько угощала его – то яблочками из крохотного садика, то молочком парным ли, вчерашним-вечерним от бурёнки, которую каждое утро ласково провожала на выгон; добрые и умные, с поволокой-печалинкой глаза коровы также навсегда врезались в память сердца мальчишечки, не отпускали на протяжении долгих последующих лет, как знак доброго и щемящего единения со всем миром сразу, как ниточка, связывающая обрывочное, пёстрое, сходящее год от года на нет…
Тонюсенькая, миловидная Оля с прутиком в руках: нежно постёгивает-поглаживает бочок лоснящийся бурёнушки, бредущей косогором солнечным, в ромашках да в тенях легчайших что… слепящая сталь реки… в синьке выполосканная простынь, сохнущая прямо над головой… безбрежье лесостепное… тишина – чистая, сквозная и до звона в ушах напоенная непонятным, радостным ожиданием… удивительно пригожее облачко, бестеневое, дремлющее себе в постельке широкой… – эти ранние впечатления не оборвались с годами, оставили в душе непреходящий свет, неизбывное тепло, вечную доброту… доброту мира, часто злого, несправедливого, требовательно взыскующего, но всегда гармоничного и готового отдарить отмолить, отворить… Впрочем, было ещё одно. Вздрагивающие, худенькие плечики Оли, когда оплакивала маму, безвременно ушедшую от болезни страшной в мир иной… Он, несмышлёныш, остро хотел подойти к девочке, утешить прикосновением душевным, сокровенным, однако стеснялся, потому наматывал круги неровные, бросая недоумённые, растерянные взгляды на чужое горева-нье навзрыд. Была какая-то черта, жирная, хотя и невидимая, отделяющая его от неё, и переступить эту черту – значило бы для обоих приподнять завесу над тайной, которую носил в груди, которая дала знать о существовании своём только сейчас и которая была родником, дающим начало странному чувству, что он, Серёжа, знал Оленьку и прежде… знал всегда.
Потом, по истечении десятков лет, Сергей Павлович будет горячо сожалеть о несбывшемся, несостоявшемся… Не с того ли момента начнёт преследовать Бородина неотвязное ощущение зряшности, неполноценности, ущербности сиюминутно проживаемых и переживаемых дел, поступков, событий, вещей… До болезненности ярко и нервно станет вспоминать он былое, когда упустил шанс, не сделал правильный выбор, а вернуться и исправить содеянное, увы, нельзя: необратим ход времени, необратимо и содеянное. Что же до Оленьки… Девочка, полагал он, наверняка обиделась на него! И обиделась не в тот момент наигорчайший, когда выписывал он нерешительно кренделя, боясь к ней подойти, нет-нет, – гораздо позже! Ведь ищейка-память выудит из бездонности своей до мельчайших подробностей всё: последние слова умирающей, причитания бабок, отпевание, погребение, поминки… и, главное, кто и как успокаивал, чья душа была более распахнута ей, Оле, чтобы могла бедняжечка уткнуться в сострадание, в участие тёплое, живое, чтобы выплакалась скорее и тогда горюшко немеряное отпустит чуточку… Он же, как пить дать, вроде лучика в её буднях серых-не серых был… Лучика, которому давала она нехитрые угощеньица и который наверняка теперь сгас для неё – внезапно, скоро… и даже не погас, тлея, просто скользнул мимо, не посветил маленько… Не обогрел. Хотя… До того ли ей было? Но всё-таки есть в человеке нечто, не дающее покоя совести его, постоянно терзающее, изводящее душу! Безымянное – изначальное. Нечто, простирающееся на долгие-долгие годы вперёд и не просто сопровождающее нас по жизненному пути, но отчасти этот самый путь указующее, выстилающее его то на ощупь, то наперекор, то по воле волн… Именно оно, это самое нечто, подскажет, не раз, Сергею Павловичу, что нужно, нужно было подойти тогда к Оле, что обиделась она на него за робость проявленную. За невнимание… Подскажет – и «занозицей крохотной во ретивом сердце» останется до дней конца.


