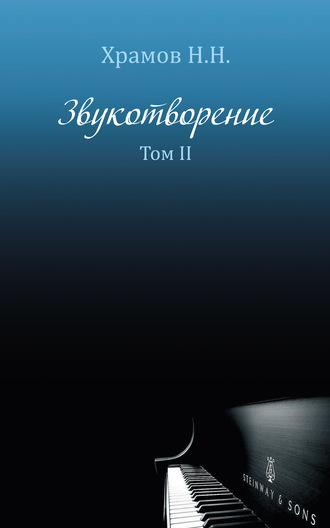
Полная версия
Звукотворение. Роман-мечта. Том 2
Тогда, в Питере, поняв, что она не придёт, что случилось нечто из ряда вон выходящее, непоправимое, роковое, Сергей Павлович лишь к вечеру медленно двинулся вдоль набережной куда глаза глядят… Сам себя утешал, мол, никакой Наташеньки не было, он всё придумал, а здесь оказался просто так, но спустя буквально минуту скрежетал зубами в отчаянном бессилии перед свершившимся (чего нельзя было не признать!] фактом. Пройдя метров двести, развернулся и чуть ли не бегом бросился назад…
Ни души.
Ветер усиливался, сбивал с ног, огромные чёрные тучи дополняли картину полнейшего краха в жизни – двигались грозно, мрачно и под стать им неслись безжалостные, хищные волны – такою жуткой и зловещей он Неву не знал. Казалось, весь мир ополчился против него… Мир превратился в некое огромное живое существо, которое изгоняло музыканта – прочь, прочь! Вон!! И старчески пришаркивая, подняв воротник пальто, обиженно шмыгая носом, он поплёлся-таки обратно, оставляя навсегда это место условленное, скромный пятачок возле перил одного из многочисленных ленинградских мостов. Родным, заветным было оно в гигантском городе, известном ещё, как Северная Пальмира. Единственным родненьким в колоссальном этом нагромождении дворцов, колонн, каменных львов и мостов. Словно кладбище – клочок суши, островочек махонький, где твой дом… Ибо лежат там папа с мамой, да и сам пропишешься там же – навечно. И по мере того, как удалялся он от притина своего невымышленного, в сознании двоились, множились клавиатуры и длинные, тёмные тени, будто пальцы слепые, тыкались в октавы, и не октавы вовсе, а в расползшиеся струны… Тыкались упрямо, ломкими молоточечками издавая немые, мёртвые звуки. Страшно…
Свечерело. Зажглись лампы, фонари, окна… Он всё бродил, бродил… В гостиничный номер возвращаться сил не было. И вот тогда впервые не захотелось ему ни с кем встречаться, мнимо облегчать душу свою… свою за чей-то невосполнимый счёт. Самая мысль эта была противна. И может быть, в момент, когда почувствовал он и щемящее, и злое сразу неприятие идеи беглого знакомства, дабы не оставаться одному в казённых апартаментах люкс, когда аж передёрнуло его от подобных в прошлом занятий и удовольствий – и стала выкристаллизовываться в уголках сознания блуждающего, измочаленного совестливая переоценка прежнего образа жизни… возникли первые намётки грандиозного плана – побывать во всех тех местах, где в лета минувшие виделись они, любили друг друга… пережить вновь негасимое счастье иллюзий, человеческих иллюзий, в основе коих преданность и память души. Конечно, сначала нужно было убедиться в том, что Натальи действительно нет больше на свете, что она ушла навсегда.
Вспоминать обо всём сейчас, по истечении нескольких лет, стоя у окна в зелёно-голубой ликующий мир не хотелось. Бородин отмахнулся было от той полосы в судьбе – серой, суетно-смурной, переполненной хлопотами, звонками, телеграммами, почтовыми корреспонденциями и так далее, и тому… Не удалось. Память всеядна. И далеко не всегда избирательна.
…«Кем вы приходились покойной?» – обычно именно так вопрошали многочисленные голоса, маски, внешне любезные, соболезнующие, внимательные к горю ближне-го-не ближнего, однако – человека! Выяснилось, что у Родионовой немало родственников, что не особенно они её баловали заботой, общением, относились к ней настороженно: мол, и чего одна, нет бы замуж… семью создать… Подумаешь, один раз не сложилась личная жизнь! Так ведь дочь на руках, значит, отец нужен, чтобы рядом был, чтобы мужская рука в доме чувствовалась… Кстати, видел Сергей Павлович и дочуру, Светланку – ничего девица: самостоятельная, сильная, привлекательная. На мать похожа. Побывал и на могилке – Света отвела, сама тактично в сторону отошла, пока незнакомый ей мужчина, говорят, знаменитый музыкант, неловко с ноги на ногу переминаясь, возлагал и поправлял роскошные цветы на дёрне и долго-долго затуманенными глазами смотрел на фотокарточку с изображением умершей (едва узнавая лицо на снимке!) – памятника не было, дочери одной трудно приходилось – работала и училась, всё сразу, перебиваясь от стипендии до получки. Откладывать гроши откладывала, да без посторонней помощи вряд ли осилила бы задачу на памятник накопить… Главное произошло днём позже, в том же провинциальном городишке, где закончила жизненный путь его Наташа. Переночевав в дешёвенькой с клопами гостинице (Света предлагала остановиться у неё, но он решительно отказался), наутро опять отправился на кладбище, чтобы теперь уже одному без свидетелей, попрощаться с той, кто была… и не была для него… и мамой, и сестрой, и женою, и любовницей – нет-нет, возлюбленной, и даже дочуркой в минуты особенной нежности – нежности целомудренной… И – ДРУГОМ.
Стояло солнечное предзимье. Тишина обволакивала «ниву божию», заливала весь белый свет… Редкие листики облетающие подчёркивали скорбное безмолвие и величие ПОГОСТЬЯ ЕДИНОСУЩНОГО… Бородин тяжко вздохнул, присел на скамеечку подле насыпи-бугорка… потом встал, дотянулся до крестика, зачем-то потрогал дерево – мягко и чу-уть-чуть шершаво… ответила поверхность на прикосновение ласковое, благоговейное… Будто он ЕЁ погладил кончиками пальцев музыкальных – не крестик, а её, как когда-то, когда-то… И будто хотела, да уже не могла ОНА согреть…
Так и стоял, заливаясь слезами, ощущая связь тонюсенькую с той, кто была и возле, и бесконечно далеко… Он не давал никаких обещаний, слов нерушимых – просто понял, что перерождается, что обязательно, немедленно! приступит к воплощению в жизнь задуманного тогда, там, на мосту питерском, – посетит места, где встречался с НЕЮ.
Солнышко тихо, покойно струило пушистенькие золотиночки в угловатую, тоскующую душу – оно словно перебирало на самом её донышке что-то невидимое, трепетное, дающее знать о себе крохотными покалываниями сердечными, глубинными из неведомого произрастания толчками… Почему-то отчётливо подумалось в минуты отрешённости долгожданной, что если бы появилось музыкальное произведение, вобравшее в ткань свою всю историю человечества, скорбей и взлётов, радостей и страданий, страхов, надежд, противоречий и смут людских, то он, Бородин, сумел бы исполнить звукотворение сие необычно – мужественно, мудро, с колокольной яростью и ослепительным накалом… Он исполнил бы просто потрясающе тот несозданный до сих пор шедевр – в память о Наташе… Наташеньке…
Солнышко продолжало тем временем сугревно обнимати щёки… подбородок… лоб…
Слова, давно и недавно (а что такое вообще – течение времени? Ход мыслей, фон?!] ЕЮ произнесённые, начали всплывать на поверхность бренного прозябания (так двойнику внутреннему не могло не казаться!] Бородина не иначе как под воздействием теплоносного света немеркнущего, света, идущего от запечатлённого навеки образа любимой, и слова эти озаряли, возрождали всё лучшее в Сергее Павловиче. Слова! Одинаковые, одни и те же, об одном и том же, почему будоражат чувства, вызывают дрожь, слёзы, смех, раскаяние? Отчего люди не могут привыкнуть к ним настолько, чтобы относиться к букворождённым нейтрально, спокойно? Не от того ли, что важны не сами по себе, а энергетикой того, кому принадлежат, кем посланы в полёт, на помощь, если хотите – на беду?! (А может быть, они, слова эти, являются ключом неким к закоулкам глубинным родовой памяти нашей и пробуждают древние, как жизни древо, ассоциации о забытых истинах, что ИЗ ТИНЫ минувшего…] Наташины слова, ровные, продуманные, звучали с материнской прозорливостью, озабоченностью, она больше беспокоилась о нём, о Сергее, чем о себе. Только сейчас, здесь, на могилке её скромной, понял он, что каждым последующим словом своим, взглядом, жестом и прикосновением она просила его простить её за мысль остаться вечными любовниками, сохранив друг для друга лучшие качества души, – мысль, которую когда-то высказала в ответ на его предложение руки и сердца. Вспоминая слова её, обыкновеннейшие самые, самые простые, он вспоминал и тон, каким произносились они, и выражение лица, прежде всего – глаз, то лихорадочно горящих, то измученных негой, то страдающих безмерно… песенно… Её милых очей!!
«…когда тебе особенно плохо, старайся приносить людям, хотя бы кому-нибудь одному, больше радости, добра, счастья – говорила она – увидишь, что сразу и тебе станет легче, всё волшебным образом переиначится, приобретёт знак плюс».
«…когда невыносимо ждать, не на что элементарно отвлечься, ничто не впрок, думай о том, что и мне плохо, слышишь, родной! Плохо, очень плохо, а ведь я женщина и это вовсе не означает, что выносливее, мужественней тебя. Отнюдь, хотя последнее время именно подобную чушь начинают насаждать в иные умы и сердца!»
«…веди дневник. Записывай туда самое сокровенное, тайное… При очередной нашей встрече мы обменяемся дневниками – ведь я давно уже помещаю там свои мысли, чувства – поверь, это помогает! Очень. И ещё: если полюбишь какую-нибудь девушку, не открывайся ей до конца, не откровенничай – возможно, вы создадите семью, будете жить вместе не один и не два года. Так вот, поверь, наступит такой момент, когда тебе станет неловко за свои бывшие слёзы, клятвы, признания, ты почувствуешь, что настежь, нараспашку стоишь перед ней, что буквально обнажён!! И тогда невольно станешь избегать былых слов, страстей… Замкнёшься, будешь страдать, играть надуманную роль… И между вами возникнет трещина… стена…»
«…старайся не болеть, не простужаться! Береги себя. Не выходи потный на сквозняк, если мучает бессонница, попей на ночь чайку, только не крепкого, или отваров каких…»
Господи, что же ещё она советовала, предлагала? Ах, да, сходить в церквушку неброскую, тихую и просто побыть там немного… «Не веруешь в Бога – не нужно, это ведь сугубо добровольное дело! Но постоять перед распятием, перед иконкой, возжечь и поставить свечу за здравие дорогих людей – так естественно, хорошо… И враз осенит нечто, и душой отдохнёшь… Будто прислонишься к чему-то надёжному, благодати и милости почерпнёшь… Сам оценишь – я не умею говорить красно…»
«…для меня Бог – всеобщая доброта. Для тебя – твоя Музыка!»
Он возразил было: «Она не моя, я ничего не создал, только пытаюсь передать людям чужие сокровища, хочу обогатить и себя, и других… Даже не знаю, как правильно выразить потребность такую! Мне вообще кажется иногда, что я эгоист! Хуже – вампир! Питаюсь энергией, которую вложили в звуки величайшие композиторы мира и благодаря этому существую… Иначе бы физически не смог прожить ни дня. Ладно, преувеличиваю, конечно, умереть бы не умер, только и жил бы как отщепенец, как самый последний доходяга… нищий…» И Наташа сказала: «Ни ты, ни я, никто не знает, на что способен, пригоден… Блаженны нищие духом! Смиренномудрие – наш крест земной. Заповедь. Ликование во спасение! Разве прежде догадывался ты, что, выходя на сцену, будешь получать от слушателей массу положительной энергии, что подпитка эта поможет тебе создать великое триединство: композитор – исполнитель – слушатель? Ладно, придёт час, вспомнишь меня – поймёшь…» Наташа словно заведомо пророчила ему сегодняшний день…
Что, что ещё она говорила?..
А дневниками они менялись. Но сейчас Бородину важны были не её записи, а живые слова! Не тот голос, который начинал звучать в нём по мере погружения в аккуратные строчки толстых тетрадей, скреплённых, сшитых из обыкновенных школьных, а незабываемые, мудрые и доброжелательные напутствия любимого человека, женщины – предвидения, заветы, ласковые речи… Он сидел подле небольшого холмика, а внизу, в земле, сравнительно недалеко реально находилась, покоилась та, кого он справедливо считал девушкой его мечты… Но разве можно, мыслимо похоронить мечту??
Сам того не замечая, от тихо, горько плакал. И не знал, что Светлана в эти минуты наблюдает за ним. Когда увидела, что незнакомый мужчина вот-вот разрыдается, что слёзки робко, жалостливо скапывают на его брюки, обшлага рукавов, на землю, то подошла, присела рядышком, достала из сумочки носовой платочек и начала осторожно промокать им глаза чужого совершенно человека, который столь трогательно и беспомощно горюет по её маме.
Почувствовав участие этой девушки, оказывается, не просто похожей на усопшую Наталью, – являющейся вылитой почти копией последней, девушки, девочки! встречи с которой он не искал, ибо с недавних пор вообще не искал никаких встреч, почувствовав прикосновения тёплые к щекам, к колену… вдруг обнаружив, что она и голосом, и манерой поведения и ещё чем-то необъяснимым до невозможности напоминает, возвращает\ ему Наталью, он не выдержал – затрясся всем телом и ткнулся обессиленно в плечо подставленное, и обхватил стан девушки… и было Сергею Павловичу сразу и горько, и благостно, и зло его всего обуяло, и обида взяла на то, что незадачливо, неприспособленно живёт-существует, что сиротинушка ведь… «Простите!» «Прости…» – а рыдания не прекращались – «Никому не рассказывайте!» «Всё!..» «Сейчас… сейчас!..» – и продолжал низвергаться в душеспасительный водоворот… Кому теперь он нужен? Кому, кроме музыки, которую, как и мечту, похоронить нельзя.
Переоценка жизненных ориентиров, ценностей. Что это? Нужна ли она? Каковы её мотивы, первопричины, последствия? Механизм?! И ко всем ли приходит?! С чем сравнить, сопоставить внутреннюю душевную ломку, борьбу – с неудовлетворённостью, угрызениями совести, покаянием?? А не разновидность ли это всё тех же самообольщений, когда, обуреваемый гордостью? гордыней… ничтожной? выдаёшь желаемое за действительное и «сам обманываться рад»!
…Из всех поездок по многочисленным местам, где встречался с Наташей, наиболее взволновало Бородина ещё одно, второе, и, увы, без неё, свидание с небольшим подмосковным городочком Абрамцево, в котором уютно, на закраинке живописнейшей, расположена была усадьба бывшего российского капиталиста, мецената Саввы Мамонтова, вложившего немало средств в развитие и края, и талантов отечественных, а также с деревней Мутовки, расположенной неподалёку. Ранее Абрамцево называлось «Обрамцево», от слова «обрамление», поскольку поистине художественно, красочно обрамляли построечки реденькие величаво завороженные леса, взгорки, поляны, озёра… Затем по причине московского аканья «О» сменилось на «А» и название, чуть изменённое, дошло до наших дней.
Стоял солнечный, январский денёк. Деревья, кусты – в сверкающих балдахинах, под густыми белыми шапками, покровами – словно сребропенной волной охваченные от макушек до пят и застывшие так вместе с ней… Всё пронизано умиротворяющим, тихим звоном – лучи дрожащие предстают в воображении туго НАтянутыми, невесомыми струнами, божественной дланью ПРОтянутыми для того именно, чтобы разносить по свету белому торжественный благовест, и ПРОтянутыми к Солнцу-Колоколу из воздетых к Богу сердец. Легко чем-то мелодичным в унисон вышним звукам отдавал наст, по которому хрустко раздавались одинокие шаги его, пустынника аки, Бородина… Раздавались? – может, раздаются, ибо по сию пору слышится ему тот с печалинкой хруст – будто потрескивала плоть ледяная… видится Фаворский свет… Он, свет этот, негасим, он соединяет, он вечно соединять будет пылающую мозаику мгновений мира и невесомые струны в осязаемый дивный пучок… Сергей Павлович медленно движется как бы параллельно сказочной аллейке – видит её, садовую, со стороны и мнится ему: видит и себя с Наташенькой, бредущими, за руки взявшись, по утоптанной до него земле вниз, к мостику, поскольку в данный момент не ощущает собственного присутствия здесь: он гость из разлуки навечной, его подпитывает одно лишь видение ожившее – как они с Наташенькой гуляли тогда… Внезапно задирает голову – что это? Озарённая солнышком, верхушка ели в шапке песцово-снежной превращается… превратилась в сияющее облачко, в ангельские оперения, в… Он продолжает спуск, любуясь окружающим, вдыхая волнительный аромат воспоминаний… Малохожеными тропами затерянно-не потерянно оба они отдавались райской белизне и чистоте ликующей подмосковного белозимья, когда в очередной раз встретились после почти годовой муки – терпеть и ждать. Он ловил в тишине зыбкой её голос – высокий, нежный… Ему тогда было трепетно жаль отлетающие с паром изо рта звуки, хотелось по одному ловить, хватать эти восклицания, фразы, смех, вздохи радостные, чмоканье поцелуев, часто воздушных, в его адрес… и богатства всё новые, новые те, несказанные, заключать в объятия, потому что просто недоставало живой Наташеньки рядом, настолько пронзителен и заразителен был каждый миг с ней… Предчувствовал ли неминучее скорое – беду? Сейчас, как и тогда, ответа не существовало.
Господи, Боже мой!.. Как давно и как недавно это было… было ведь!!
– Чёрт, в-во здорово!!! – вырвалось даже.
– Никогда не думала, что открою вдруг и так полюблю русскую зимушку-зиму, Серёжа! Кто бы сказал – не поверила бы!! Будто в пушкинской сказке очутилась! Столько впечатлений! Ты только посмотри, посмотри – во-он там, видишь, словно волчонок маленький, пенёчек и рядом ветка-хвостик в снегу! Ночью, кстати, при НЕВЕРНОМ ЛУННОМ СВЕТЕ, (она тогда закатила глаза – выглядело потешно, он запомнил – и голосом изменившимся, жутким говорить стала], ведь и напужаться можно, да ещё как напужаться!
– А давай придём! Захватим с собой пару бутылочек, бутербродики!
– Шутишь, Серёженька? Я ведь ужасная трусишка и ещё ужаснее хочу тебя, ХОЧУ-У ТЕБЯ-Я… СЪЕСТЬ!!!!!!
– Родненькая моя, только не сейчас, а то волчонку с ма-мой-волчицей ничего не достанется! Слушай, а ты не оборотень случайно? А то вот встречаюсь с тобой, встречаюсь и не знаю… А однажды в полнолуние окажется вдруг, что ты ликантроп, берендей… в юбке!! и тогда…
– Что и тебя пробрало?? Да в такой день!!
– Ох, пробрало, только не это… Знаешь, с тобой ведь только и живу. Почему так? Какая-то запруда во мне рухнула и я превратился в слабое существо: плачу, смеюсь… Мне хорошо, естественно… Столько натерпеться и – полное расслабление. Иногда я не ощущаю себя – я и не я. Кто-то другой, параллельный мне, ходит, разговаривает… Вот и сейчас… Какой я на самом-то деле? Хорошо мне? радостно, неповторимо? Или…
– У меня тоже так бывает, родной. Это вполне нормально, ничего странного в этом не нахожу. Главное – не думать часто об этом, не зацикливаться…
– Как? как?!! не зацикливаться, если я с рождения самого ощущаю собственную какую-то неполноценность, понимаешь? Не раздвоение личности, а именно неполноценность! Хоть убей, хоть тресни, Наташенька, девочка моя, не живу – продираюсь сквозь что-то чужое, костлявое. Взъерошенное и ощетинившееся… сквозь особый какой-то состав из душ бездушных, времени полозучего-загребущего, собственного непотребства! Чёрт бы всё это подрал!!! Наташенька, деточка, девушка моя крохотная! Ласковочка! Господи! почему люди так несчастны, так скудны и убоги друг с другом! Я сейчас заплачу, в последнее время стал частенько плакать… Знаешь, что-то прорвалось-таки!
– Не плачь, родной!.. Или – поплачь, иди сюда! Положи голову мне на плечо и порыдай даже… Здесь можно, кроме меня никого… Я вберу в себя твои слёзки! Тебе сразу и полегчает, вот увидишь! Ну, иди же, иди ко мне… Родной мой… не стесняйся… Я тоже всплакну… смешно?! Пришли любоваться природой – и нате вам, два дурачка, несмеян и несмеяна, расхныкались, всех белочек перепугали!
– Мне хорошо. Я просто счастлив. Просто счастлив. Я не знаю, кто я и что я, и какой… Не знаю… В эти вот самые мгновения с тобой меня… НЕТ!!!
И он громко, истерично почти разрыдался, обнял Наташеньку свою, которая легонечко-нежно поглаживала его ладошкой в умилительно-голубенькой и мягенько-пушистой варежке, совсем детской, – поглаживала по щекам, плечам, спине… и опять по лицу, смахивая бисеринки жгучие и улыбаясь задумчиво, грустно, ясно, улыбаясь сразу всему человеческому, что проступало наружу и что нельзя было спрятать в карман. Ибо не носовой оно платок!
– Это ничего, ничего, что ты плачешь! Почему-то принято считать, что мужчины не должны плакать, а это не правильно. Они ведь такие же люди. Маленькие, беззащитные перед мировым океаном страданий, скорбей, тоски, удушающего одиночества… Я много об этом думала, родной мой… и знаешь, если бы мужчины не стеснялись плакать, то и мир наш был бы лучше, чище: да-да! Я в этом убеждена. И было бы меньше женских слёз! Ага.
…Ноет, ноет сердце Сергея Павловича – медленными шагами приблизился исполнитель к тому самому месту, где тогда стояли они, склонив головы друг к другу, обливаясь очищающими слезами. Читатель, милый! Прости авторскую сентиментальность, прости и слёзы его главных героев – можно было бы обойтись и без эмоций страдательных, можно было бы… – да вот нельзя! Потому что слёзы человеческие – это, по сути, ненайденные, невысказанные слова, невыразимые звуки… Души осенней, наболевшей о, непостыдная капель!..
…Ноет, ноет сердце. Наверно, тогда впервые почувствовал он, Бородин, что у него есть сердце, что и у него есть сердце! которое способно болеть, болеть ласково, мягко, однако не отпуская… удерживая в паутине ощутимого, вполне физического дискомфорта в груди душу уплотнившуюся, то обрывая на секунду-другую незримые, призрачные концы, чтобы срывалась она, душа, с места, не находила никогда, нигде и ни в чём покоя, то на паутинке оной лениво-сонно душу и покачивая, и колыхая, и баюкая… Как сейчас, здесь, когда навестил он прошлое… Ноет, ноет сердце! И тогда, в Абрамцево, Сергей Павлович предельно ясно, чётко осознал, что все его предыдущие «накручивания», (цитируя Наташеньку), самого себя – лишь цветочки, невинные цветочки, а здесь что-то действительно обрамляло, что-то обрамило – заточило будто навек, навсегда и отныне пребывать ему в сладостно-жёстких тисках не названных ещё чувств, ощущений, сравнимых разве что с теми, кои переживает ольха, когда на её сквозных, тонюсеньких веточках дрожат… свисают… срываются одна за другой серёжки… Родина – вот что окружало Бородина в те благоговейные и радостные минуты. Сергей Павлович словно припал существом своим к отеческой земле, вобрал в грудь колыбельный воздух родимых широт… И даже это было не всё. Горе потери любимой женщины, личные неурядицы, самобичевания, некое выпадание из жизни, из ауры общечеловеческой становилось выносимее, легче, ибо уже не шестым, не седьмым, а непонятно каким чувством прозревал он в мгновения долгие пребывания тут истину высочайшую: музыкой, только великой музыкой завтрашнего дня можно и нужно передать непередаваемое нечто, обрамившее сейчас, в усадьбе абрамцевской, его, исполнителя – обрамившее и обострённо возвысившее пианиста над самим собой.
НО КТО И КОГДА СОЗДАСТ ТАКУЮ МУЗЫКУ??!
Вот он подошёл к небольшому тому мостику, где когда-то, прислонившись друг к другу, пребывали в молчании солидарном, восторженном оба и на котором вскоре утешала она его – Серёжу! – замер… застыл в окружении бездыханной и напоенной солнечной свежестью лепоты, сам весь в стеклянных слезах, сквозь которые, как и тогда, глядит на мир, и, ничего не понимая, трогает слегка покосившееся, ветхое огражденьице – сподручник… ему и больно, и счастливо, и одиноко. Вновь отдаётся видению проступившему, прежнему: оба рядом, взирают молча на ручеёк, еле пробивающийся под льдистой корочкой, она отрешённо улыбается… Может быть, в те именно минуточки принимала решение какое-то или уже знала о недуге своём, предчувствовала: оставит его, навсегда, но сообщать об этом заранее не следует – зачем тревожить, ещё, глядишь, всё обойдётся… Затем он тяжело, не спеша поднимается по собственным следам обратно, сворачивает к церквушке махонькой, входит под сень приимную, предварительно сняв шапку, попадает в перекрестье взглядов с иконок, созданных в разные годы великими русскими художниками-передвижниками, ставит свечечку «о упокоении», не забывает подать милостыню… А слёзки не высыхают, он смотрит сквозь них, как через окно морозное, только вместо ледяного узора – прозрачный воск сплошной, и нельзя, нельзя смахнуть патоку солёную…
Вот он думает. Думает, а точнее, правильнее – не думает, это ему только представляется, что мысли колобродят в нём. Зачем насиловать душу свою? От себя не убежишь. Он ещё не знает, что вскоре начнёт страдать сильнейшей бессонницей и никакие советы-ухищрения медиков не помогут, не исцелят. Он не размышляет в привычном нашем понимании – живёт мигом, пытается свыкнуться со случившимся, представить грядущее и… всё чего-то ждёт… Словно возникнет в отдаленье ОНА, его Наташенька, и они отправятся дальше и продолжат беседу о главном… Всплывает вдруг в памяти, как она, вселив в него энергию, жизнь! слегка занемогла – то ли атмосферное давление в день тот какой-то упало резко, то ли он действительно уподобился энергетическому вампиру, о чём с замиранием сердца её же и немедленно вопросил, а успокоился лишь, получив отрицательный, подкреплённый светозарной улыбкой, ответ… Так или иначе, но пришлось им тогда отложить посещение небольшой деревушки, Мутовок, где в своё время проживал поэт Борис Пастернак, ею, Наташенькой, любимый… Бедняжечке так хотелось попасть туда, однако рисковать не стали и единодушно поход перенесли. Эх! другие заботы, впечатления, хлопоты приятные за разговорами бесконечными навалились прямо из рога изобилия на обоих… и кто кого хотел отвлечь от хворобы летучей?!. А потом они расстались… Теперь же, сейчас, в это его вторичное, без неё, посещение дорогих сердцу мест подмосковных он просто обязан, обязан! побывать в Мутовках. В память о Наталье. Она будет незримо присутствовать там… ибо всегда с ним, всегда в нём, в его испепелённой душе.


