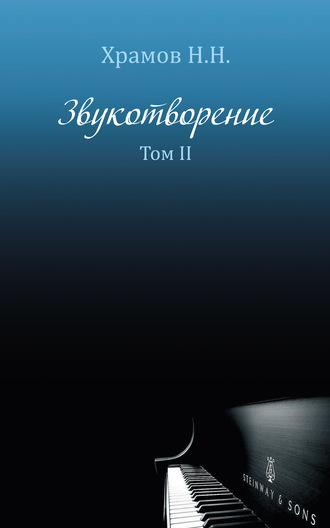
Полная версия
Звукотворение. Роман-мечта. Том 2
Спустя какое-то время он ещё несколько раз встречал девочку, но отводил при этом глаза. Она тоже смотрела странно… А потом – провал в памяти… И – школа… другой город – огромный… иные впечатления, воспоминания, чувства… Они, наслоения новые, обрушивались вал за валом, притупляли боль раннюю, то, казалось бы, забываемую, то поднимающуюся вдруг из глубин разбуженных и он убеждался, что благодаря именно первым самым кирпичикам всё здание судьбы и души его стоит незыблемо, ровно. (Хотя… кому – как?!)
Впрочем, школьные-то годы ничем особенно примечательны не были и являли собой сплошную в узлах-узелках да – местами – в хитросплетениях тонких рваную нить, в принципе не обрывающуюся, просто теряющуюся, застланную клубами однообразных в целом лет, событий, чувствований… нагромождений одного и того же на будни, будни, будни… Однажды…
…однажды его сильно напугал резким, громким гудком проезжающий мимо поезд: мальчик потерял сознание, потом долго заикался, картавил… Кто-то из врачей присоветовал повторять: «НА ГОРЕ АРАРАТ РАСТЁТ ЗРЕЛЫЙ ВИНОГРАД!» Были другие моменты. Весьма неоднозначно складывались его взаимоотношения со школьными товарищами: частенько восстанавливал против себя коллектив, бывал битым. Накапливал обиду, втемяшил себе в голову, что его никто не любит, никому он не нужен… Ну, и так далее, в том же ключе. Собственно, о периоде данном можно создать отдельное художественное произведение, весьма поучительное для пап, мам и самих ребятишек. На примере одного ребёнка, подростка, молодого человека заманчиво было бы проследить все этапы, стадии взросления, роста, дать определённые рекомендации и родителям, и педагогам, и ученикам… В планы автора сих строк оное не входит, ибо, растекшись мыслью по древу, трудно потом будет сконцентрировать внимание на главном, фундаментальном. Хотя наш Серёжа вывел для себя непреложную истину и абсурдной, фантастической она не кажется, посему заслуживает рассмотрения. Он вдруг осознал однажды, что человек, достигнув некоего возраста, скажем, 13–14 лет, потом уже не меняется – становится образованнее, сильнее, обрастает связями и друзьями, встречает свою любовь, творит судьбу и при этом внутренне остаётся точно таким же, каким был, каким знали его в те самые детские годы. И остаётся таким до глубокой старости… просто ему всё надоедает, он пресыщается жизнью, перестаёт изумляться окружающим краскам… Нежный период тот накладывает жирный и не всегда позитивный отпечаток на личности каждого из нас. Применительно к самому Серёже закон, им же выведенный, подходил как нельзя более. Он комплексовал, страдал, замыкался в себе, занимался самокопанием… Уединялся. Школа-интернат, а начальные годы жизни Сергея пришлись именно на неё, осталась в сердечке Серёжином чем-то холмистым и заросшим выжженной под палящим светилом травой сорной, посреди которой нет-нет, да попадались благоухающие цветы, встречались драгоценные перлы. Такое общее минорное настроение лично он впоследствии объяснял себе… поездом встречным и резким сигналом. Ему казалось, что все его беды шли оттуда… Подобная точка зрения, конечно же, не была бесспорной, однако и утешала в минуты горьких раздумий о превратностях и злокознях судьбы… Служила неким оправданием, что ли… А жизнь тем часом неумолимо бежала по стрелкам циферблата, по замкнутому кругу, по небосклону, по…
На каникулы летние пару-тройку раз наведывался в гости к деду Герасиму с надеждой тайной – сходит, как «в добрые, старые времена» в деревенечку рядышковую, повстречает Олю и угостит она его молочком только что надоенным, а потом поговорят о «ни о чём» они, поделятся воспоминаниями общими, сокровенными для них… Не сбылось, увы! – отец увёз дочурку в Самару, где устроился на крупном заводе, получил комнату в семейном общежитии, стал рабфаковцем да и Олечку свою пристроил в школу – учиться-то нужно. (Подробности такие стали известны Сергею значительно позже, только ничего это по сути не меняло!)
Тоска, хмарь в груди, а делать нечего, время не ждёт – поспешай и ты, отроче!
«По ступенькам поднимись и обратно вниз спустись» – до-ре-ми-фа-соль-ля-си… си-ля-соль-фа-ми-ре-до!
…В интернате имелось старое, задрипанное пианино, донельзя расстроенное, однако пригодное вполне для исполнения «собачьего вальса». Кому-то из педагогов-воспитателей загорелось открыть в стенах заведения музыкальную студию: пусть, мол, ребятня просвещается, не всё же пионербол, классики да голубей гонять! Глядишь, самородочек какой и отыщется-засияет в гуще беспризорников бывших! Детали Серёжа начисто забыл, однако память услужливая сохранила россыпь ярчайших миниатюр, из коих по кусочечку-кирпичику можно стало выложить дороженьку прямоезжую к более поздним высоким достижениям, вплоть до вершин покорённых… Сначала пришёл настройщик, невысокий, с залысиной… из себя ого-го, гусь, правда, дело своё знал крепко – инструментишко неважнецкий наладил по камертону за несколько часов нудной работы (впрочем, для кого нудной, а для кого и…] так, чтобы пианино этому не стыдно было представлять весь род струнных(!), потом кто-то обнаружил у Серёжи идеальный музыкальный слух, а раз идеальный, то сам Бог, говорится как, велел использовать дар природный – музыке обучаться… Дальше – больше, в смысле занятий первых, малоинтересных, организованных к тому же не лучшим образом, поскольку преподаватели были не старорежимные, а первые попавшиеся, неопытные и в нюансах профессиональных, психологических весьма несведущие… чего греха таить – так себе были преподаватели!
Гм-м… Кто знает, скажите на милость, насколько часто мы, люди, погружаемся в те или иные воспоминания? Как часто по велению сердца мудрого уходим от себя – в них, а скорее всего, сбегаем… чтобы также непредсказуемо вернуться обратно? Почему не отпускают нас они? Какими-такими узами, какой-такой томительной кровью неизбежно проросли в душах и почему, наконец, одни картинки былого-минувше-го неизменно притягивают всё новые и новые фрагменты, сцены, эпизоды и заставляют звучать голоса… ноты даже, сыгранные тобой в незабываемую пору, причём, «солянка сборная» эта нередко совершенно не связана с предыдущим всем, порядком подзабытым и возникшим чисто случайно? Происходит нечто вроде цепной реакции либо… неуправляемо-управляемого синтеза – каких-таких?! – неэлементарных частиц… Сергей Павлович Бородин «тыссчи» раз думал о причудах оных, и пристальным внутренним оком видел, рассматривал кусочки не приснившейся мозаики собственной судьбы.
…Им заинтересовалась как-то преподаватель словесности Анастасия Васильевна Бокова, сухопарая, высокая «леди-цапля», смешно «клюющая» носом, часто позёвывающая и от курения, конечно, от пагубы зловредной сей хрипло покашливающая в ладонь… очень-очень близорукая, в пенсне на длинном с горбинкой классической носу, обладающая пришаркивающей походкой и всегда в отутюженном, длиннющем сером платье, наверно, единственном «более-менее» в её гардеробе, поскольку не роскошествовала – а кто, скажите, шиковал тогда? Фамилии женщины сей он не помнил, не помнил ничего, кроме главного: она предложила ему перебраться жить к ней, благо собственных детишек не имела, а супруг не возражал: если в интернате пареньку худо, со всеми конфликтует, а музыкальные данные имеет отменные, то…
В гостиной у Анастасии Васильевны стояло точно такое же, как в интернате, фортепиано, только прекрасно сохранившееся и всё из себя необычайно воздушное… На немой вопрос Серёжин: «Почему же вы, Анастасия Васильевна, там ничего не играли, почему самолично не проводили занятия, передоверив их Бог знает кому?», отвечала она столь красноречивым взглядом, после которого подобные вопросы в голове Серёжиной не возникали. (До поры до времени!]
…Очередной камешек, осколочек яркий, очередное воспоминание: Анастасия Васильевна, согнав с лица выражение непередаваемое, вызванное незаданным вопросом мальчика, улыбается (впервые, пожалуй, за всё то время, что он знал её), затем движением домашним, приглашающим приподнимает крышку пианино, садится на стульчик-не стульчик кругленький, чёрный, на котором, оказывается, ещё и вращаться здорово, ибо сидение как бы вывинчивается, поднимается выше и выше от пола, чтобы можно было доставать руками до клавиш полированных… и начинает играть…
…и он вдруг обращает внимание на её пальцы, желтые от курения, но тонкие, длинные, быстро перебегающие с одной пластинки на другую, а потом смотрит на свою кисть и что-то нашёптывает ему: ты тоже так сможешь, сможешь… Не тогда ли исподволь зародилась в сердечке крохотном великая любовь и великая страсть, ставшие путеводными звёздоньками неразлучными, под коими шагал последующие годы к нынешним завоеваниям?.. Тернист и неоднозначен был путь. Вновь вспыхивают люминесцентно ярчайшие миниатюрки в недремлющем сознании: видения, видения, видения…
Брызги… Осколки… Туманные нагромождения…
Но – прослеживается судьба.
В городишечке (и не таким огромным тот населённый пункт вышел на поверку, что выяснилось позже, когда Серёжа попривык, пообвыкся в нём!), в городишечке, где закончилось детство, отзвенело радугой отрочество, худо-бедно закалялась юность, в городишке со странной планировкой улиц – на перекрёстках постоянно враждовали между собой ветруганы – его обучали музыке один за другим четыре или пять преподавателей, а не хозяйка дома, и каждый последующий с апломбом заявлял, что предшественник ребёнка испортил, ничего абсолютно ему не дал – ни в плане постановки рук, пальцев, ни элементарных технических навыков, ни теоретического багажа! Анастасия же Васильевна, отметить нужно, обучением мальчика не занималась, хотя и могла бы. Серёжа, памятуя красноречивый взгляд тот, спросить о причине самоустранения оного, понятно, не решился, ни разу. Догадки наивные оставил при себе – вряд ли могло отыскаться в них сколь-нибудь веское рациональное зерно. Зато выражение «не в коня корм» запомнил надолго. Прослышал же слова неприятные случайно – уразумел, что относились они к нему, обиделся… Принадлежала фраза, единственная, едкая, супругу Анастасии Васильевны, чьё имя-отчество не сохранил – впервые возненавидел взрослого человека, возненавидел до такой степени, что начисто забыл впоследствии всё, связанное с ним! Итак, обиделся, возненавидел, но сознавал, что продолжает есть чужой хлеб, под чужим кровом живёт-обитает и потому проглотил чувства свои негативные, запрятал глубоко внутрь. И тайное ни разу не сделал явным.
А ещё – возненавидел музыку. Сонаты и сонатины (особенно Клементи], этюды и скерцо, полонезы и мендельсоновские песни без слов, гавоты, фуги, польки вызывали в нём неприятие, раздражение – сухое, натянутое до предела, словно струна. Зато в пику перечисленному – не до конца – боготворил мальчик народные песни, лирические мелодии, мотивы… Ловил их, дышал ими, дышал немо, жадно, отчаянно и восторгался редчайшим по красоте звукам широкой русской души, русской печали напевной и удали сорви-головы!.. Обожал цыганские ритмы, гармонии, ускоряющиеся, ускоряющиеся и втягивающие в орбиту страсти роковой, нешуточной целые судьбы, жизни… Завороженно слушал революционные и комсомольские гимны, чудесные произведения советских композиторов…
В городе вскоре открылась своя музыкальная школа, и Сергей стал заниматься музыкой более регулярно, у профессионалов. Учился, однако, спустя рукава, хуже некуда, сольфеджио и теорию музыки вообще запустил. В этой музыкальной школе, как и положено, сияла своя «звезда» первой величины – некто Вургавтик, вечно прилизанный, прилежный, которому прочили блестящую будущность. Имени сего пай-мальчика Серёжа не знал, да оно его и не интересовало… Итак, с музыкальным образованием у Серёжи поначалу не всё было гладко. «Да, одарённый, да, способный, но…» – единогласно выносили безжалостный и справедливый вердикт многоопытные (и не очень, судя по отзывам Анастасии Васильевны супругу – на ушко, в спаленке…] педагоги, словно сговорившиеся единственно для того, чтобы дружно махнуть на «ученичка» рукой; обстоятельство это совершенно не удручало паренька, ибо, сидя за инструментом, постоянно раздваивался: с любовью исполнял медленные, лирические, в миноре звучавшие темы, гармонии и не принимал душой классику, «школу». Не считал приемлемым для себя отдаваться им безраздельно. Вероятно, всё так бы валиком и катилось вплоть до выпускного вечера-концерта, если бы не… Анастасия Васильевна, странная и непонятная, уловившая, к счастью, душевную раздвоенность Серёжи. Его импровизации, искренние, самозабвенные, его нежная и неудовлетворённая тяга к исполнительской, но не по программе, деятельности (а почему бы и не деятельности – труд ищущей души всегда сопряжён с чем-то запредельным, с архи…] не прошли мимо неё. «Не может быть, чтобы он вот так, за здорово живёшь, расстался с музыкой! – наверно, примерно в этом направлении думалось женщине в минуты иные, в минуты, наполненные меланхоличными, осенне-печальными звуками, которые извлекал мальчик из ф-но, – неужели всё пойдёт насмарку! Нельзя допустить такое!» Подкрепляя мысли оные бурной и явно заждавшейся выхода энергией своей натуры, с подвижническим энтузиазмом, глубочайшей заинтересованностью искала Анастасия Васильевна варианты, советовалась с разными людьми, в основном, с бывшими коллегами, поскольку и сама прекрасно музицировала в прошлом, блистая в салонах с изяществом искуснейшей концертантки. Завела даже переписку обширнейшую с отдельными лицами – еловом, действовала! Дух неугомонности буквально обуял сию даму и всё замечающий Серёжа не видеть этого просто не мог, не мог, тем более на фоне абсолютного безразличия супруга, любящего покой, устоявшийся ритм-уклад по-мещански пустой и откровенно никчёмной собственной жизни, в которой не перетрудился ничуть. Ищущий добьётся! И Анастасии Васильевне повезло (это показало будущее!), повезло крупно: решившись с отчаянья тихого и домочадцем-лежебокой, (читай – мужа!), не развеянного на крайнее средство, попросила приехавшего из московской консерватории выпускника лично, за небольшую благодарность, позаниматься с подростком, чтобы последний хотя бы не провалился на выпускном экзамене, до которого, правда, ещё оставалось примерно полтора-два года. Словом, в очередной раз передали Серёжу «из рук в руки», только теперь уже не местным «корифеям», а молодому человеку, совершенно никому не известному – Борису Фёдоровичу Головлёву.
– Любишь музыку?
Не в бровь, а в глаз спросил тот Серёжу, когда четырнадцатилетний с пробивающимся на лице пушком паренёк переступил порог класса, придя на первый урок к новому (которому, бишь, по счёту?) работнику музыкального заведения, к работнику, призванному пестовать в детях разумное, доброе, вечное… равно как обязаны были творить сие и предыдущие педагоги!
– Н-не знаю… наверно… конечно… – замялся тогда с ответом Сергей.
– Ну-ка, постой, покури!
«Покури» было сказано, разумеется, в шутку. Серёжа послушно отошёл к окну, облокотился на подоконник…
И вот Борис Фёдорович начинает исполнять – Рахманинова. Лавина звуков обрушилась на сердце юное – впервые классическое произведение, прелюд, произвело такое мощное, прекрасное, духоподъемлющее впечатление. Сергей трепетал, был сам не свой. Аккорды и арпеджио он, оказывается, ждал все предыдущие годы, именно их и недоставало ему! Разные там скерцо, менуэты, гавоты явно отталкивали душу подростка от огромного, штормящего океана всепобеждающей музыки. Сейчас же случилось, произошло то, что подготавливалось годами детского и отроческого одиночества, неразделённой тоски, бредовой и невинной памяти… Он ли сам нашёл высокое нечто, либо потрясающая музыка явила ему праздник жизни, вынув из сакральных глубин бытия надмирную благодать?! И когда замерло последнее созвучие, пацан вдруг почувствовал себя ничтожеством, пигмеем, втоптанным в пыль геркулесовой стопой гения. Будто титаны мечтаний, грёз простёрли к нему незримые пясти, схватили за живое и… подняли с колен! Противоречиво, но истинно так! И никогда прежде не переживал он, Бородин, подобного взлёта – и парения… и низвержения сразу…
– Хочешь так играть?
– Хочу.
– Тогда вообще не играй!
– ?!!
С дня того началась у Сергей новая полоса в жизни. Теперь он по пять-шесть часов в день тренировался (иначе не скажешь!] за клавиатурой: если раньше играл по принципу «сначала – медленно, а потом – быстро», то сейчас отрабатывал каждое упражнение, каждый пассаж (в основном, это были арпеджио, гаммы, этюды…], каждый отдельный элемент пассажа различными движениями. Сильно, как бы щелчком, ударяя сверху пальцем по белой (чёрной] поверхности клавиши (чтобы понять это, немного прочувствовать, читатель пусть представит себе, что кто-то оттягивает конкретный палец и не даёт, скажем, указательному, опуститься вниз, а потом резко отпускает его…]; вдавливая «подушечки» в полировку гладкую, словно в пластилин; совершенно расслабленно, едва касаясь этих самых пластинок, но контролируя, шлифуя моторику и добиваясь того, чтобы пальцы становились некими запоминающими устройствами и навечно сохраняли бы вновь приобретённые навыки, расположение клавиш, последовательность нажимания… И так далее – всего Борис Фёдорович показал ему семь движений, которые следовало комбинировать, в которые нужно было впоследствии вдыхать жизнь, душу! Подлинным откровением стало для Серёжи исполнение обыкновенного до-мажор-ного арпеджио после часа отработки его (непосредственно с Головлёвым!] до автоматизма основными (приведёнными выше] движениями. Преподаватель не разрешал играть быстро. Серёжа вспотел даже, руки становились тяжёлыми, но он продолжал медленно, мощно вбивать пальцы в белоснежный, ступенчатый «звукоряд» на две октавы и только одной правой рукой.
– Теперь отдыхай! Долго.
Спустя минут пятнадцать, которые Борис Фёдорович потратил на разговоры о том-о сём:
– Сыграй быстро!!
И Серёжа выдал: легко, филигранно, воздушно пропорхнули пальцы мальчика над клавиатурой и ровно, глубоко, звукоизвлекаемо родилось на тихий свет классическое арпеджио.
– Теперь понял?
– Понял…
– Вот так и будешь отрабатывать все вещи. Ты должен научиться не просто нудно, а грустно-весело, также и зло, нежно, задумчиво, равнодушно и при этом на бешеной скорости исполнять любую гамму, любой этюд… Твои пальцы должны стать чувствительнее, чем пальцы у слепого от рождения! И ты обязан уметь исполнять с закрытыми глазами – знать клавиатуру от и до! Стремись!
И Сергей занимался, занимался, занимался… Он не боялся «сорвать руку» (у пианистов есть такое понятие], ибо уверовал в беспредельные возможности свои, шестым чувством улавливал ощущения и напрягал кисть почти до изнеможения… не напрягая её!! Чередовал движения, изобретал что-то собственное, словами непередаваемое. Комплексы упражнений, «школу» отрабатывал поистине одержимо. Пытался мажорные фрагменты исполнять лирично, с грустинкой и, наоборот, те, что располагались преимущественно на чёрных клавишах – задорно. Самым приятным было, «намучавшись» с конкретным «куском», отшлифовав его тремя-пятью движениями (не только вкратце упомянутыми – арсенал их постоянно пополнялся], дать потом пальцам «передых» на несколько минуточек и затем сыграть отрывок этот быстро, безошибочно. Легко! Нужно ли добавлять, что при всём при этом он по-прежнему обожал и всем сердцем отдавался напевным гармониям, темам, постоянно что-то импровизировал, используя уже вновь приобретённые технические элементы. Короче говоря, вкалывал увлечённо, подолгу – домочадцы, затыкая уши, многозначительно переглядывались… Шло наступление на вершины подлинного исполнительского мастерства. Особой темой было и штудирование теоретических основ…
Спустя два года, на выпускном экзамене, пройдя перед этим за несколько месяцев три класса, он затмил Вургавтика (помните?], местную «звезду», вызвав у членов комиссии состояние восторга, близкое к шоку.
Анастасия Васильевна попросила Головлёва подготовить Сергея к поступлению в музыкальное училище, благо задел определённый у последнего имелся: программа, с которой сенсационно выступил на экзамене и куда входили «ЛУННАЯ СОНАТА», сонатина Клементи, несколько этюдов Черни и прелюд Рахманинова, кстати, тот самый, что в исполнении Бориса Фёдоровича покорил мальчика и побудил его «наброситься на музыку». Задел имелся, да. Но этого было недостаточно. Следовало основательно подтянуть теорию, вдохнуть что-то своё, бородинское! воплощая в жизнь названные выше произведения… А чтобы вдохнуть, надо иметь, найти в себе, открыть нечто\.. Как?? Наконец, настало время определиться: а стоит ли вообще игра свеч? Нужно ли ему, Сергею, всё это, не пропадёт ли со временем запал, не испытает ли разочарование? Ведь от самообольщения до разочарования – как от ненависти и до любви… Мудрость, опыт жизненный… – где вы?! Где? И состоялся тогда у него с Головлёвым серьёзный, откровенный разговор, хотя тон в нём задавал один Учитель.
– Я знаю, ты любишь музыку. Да. Но если бы ты с шести-семи лет обучался по прогрессивной методике, из тебя вполне мог бы получиться профессиональный исполнитель. Я, конечно, подготовлю тебя, ты поступишь в училище… в консерваторию, окончишь и её… Но – станешь рядовым учителем музыки, вроде меня. Согласен? Тебе решать! Так что вот так вот. Думай.
Помолчав немного, тихо добавил:
– Жаль, тебе не с кем посоветоваться… я имею в виду, из родных. УХОДИ…
Подразумевалось: ПОКИДАЙ МУЗЫКУ.
– …не то больно будет потом… после… С каждым годом всё больней…
И тогда Серёжа впервые ослушался человека, искренне которого боготворил.
Он – остался.
Побродил улочками городка в тот судьбоносный день – кажется, стояло такое же лето, как и сейчас, сегодня, когда вспоминает былое, находясь под впечатлением от прикосновения лёгкого, можно сказать, мимолётного к «ЗЕМНОЙ», поскольку наиграл несколько «абзацев» глазовской эпопеи… поглядел (помнит ведь, помнит!] на пальцы свои, решил: «где наша не пропадала!» и – остался.
Трудом огнепостоянным(!) компенсировал многочисленные пробелы в музыкальном образовании, прослыл виртуозом, превзошёл учителя ещё до поступления в консерваторию, куда частенько захаживал (позже, позже, переехав в столицу…] на правах эдакого законодателя мод – там, в свободных помещениях, аудиториях, садился за рояль и начинал импровизировать на темы лирические, песенные, а студенты, учащиеся по одному, по два тихонечко заглядывали в комнату, пробирались на галёрку, некоторые – поближе гораздо и, затаив дыхание, внимали звукам, коими он всякий раз изливал тоскующую, радующуюся душу…
Его совершенно не стесняло количество людей, находящихся неподалёку, рядом, дышащих, можно сказать, за спиной, иногда и шушукающихся друг с другом… – целиком уходил в музыку. Жил по-настоящему только в эти благословенные минуты!
Он с блеском окончил московскую консерваторию, принял участие в конкурсе молодых исполнителей, победил…
Тогда же, в незабываемо-прекрасные годы обучения в консерватории, он услышал имена Анатолия Глазова, Анны Шипиловой, Николая Рубана, имена людей, которые в прежние лета, недавние! сидели за этими же «партами», вбирали в души такие же (только по классу композиции) знания, оставив после себя много чего для неиссякаемых пересудов, тайного восторга, желания подражать… глухого отвращения и ненависти. В те довоенные годы, напоённые какою-то особой романтикой, светом и чистотой, повстречал Сергей и Наташу Родионову, девушку его мечты… Образ Оленьки померк со временем – хм, синевеющий на горизонте лес также истаивает-растворяется по мере того, как отдаляемся от него, да разве кто в этом виноват?! И уж подавно никуда не девается он, просто невидим для нас…
ДЕВУШКА ЕГО МЕЧТЫ…
А о чём, собственно, он мечтал? К чему стремился? Чем и с чем жил во снах ли, наяву??
…По-прежнему тепло, тихо было снаружи, летняя благодать умиротворяла, смягчала, разбавляла в лоне своём и чувства, и мысли, навеянные воспоминаниями, омывала нежно, заботливо и сами картинки далёкого и не очень далёкого прошлого. Уже не хотелось вновь и вновь погружаться в бездонности эти, мучать сердце недосказанностью, доселе несбывшимся, которое вот-вот могло обрести состояние несбыточного, бередить душу сожалениями о том, что так и не смоглось, осталось за чертой надуманной и потому сродни разочарованию, неполноценности – о чём стараются реже сумерничать в одинокие часы, минуты самокопания ли, созерцания… Распогожий полдень струями невидимыми, однако исполненными благовестил, не иначе, смывал наносную хмарь с сердца, заряжал оптимизмом… Насколько меняются с годами наши ощущения – грубеем? становимся толстокожее? Способны, нет? на кружевную певность в страстях, на умилительную нежность и благоговение… А может, и слова оные позабыли-порастеряли в бренной-чумной беготне за призраками? И хорошо ли, если человек пронзительноостро переживает окружающее, да и не окружающее, а проходящее сквозь него, всецело отдаваясь Жизни, не щадя души и плоти собственных??


