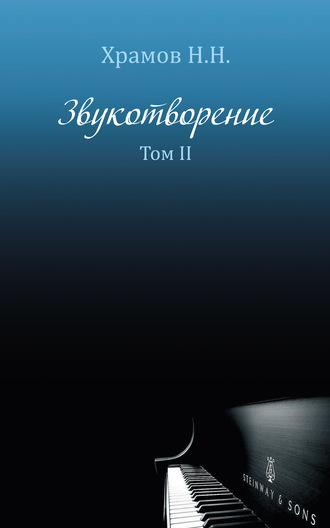
Полная версия
Звукотворение. Роман-мечта. Том 2
Можно долго, пространно рассуждать на тему становления личности. Избиваемый, презираемый, ненавидимый всеми почти (так ему казалось!), он, Серёжа, делал себя сам. Погружался в книжный мир, подумывал о суициде, с головой уходил в музыку, искал ту, кто приютила бы ущербную, косолапую душу его – и оставался при этом чистым, добрым, нетерпимым к насилию, злу. Он научился обострённо воспринимать людей, видеть глубже и утончённее чувствовать всё то, что происходит вокруг…
Шли годы. У него появился ДРУГ. Полная противоположность Сергею. Коля Торичнев. Точнейшая копия Шерлока Холмса – предельно конкретный, практичный, занимался фотографией, увлекался радио, показывал фокусы, пантомиму… Конечно же, Сергей идеализировал Николая, однако было за что. Например, мало кто из фотолюбителей имел у себя дома около 50 (пятидесяти!!) всевозможных химикатов, из которых сам делал для нужд своих различные проявители, белители, фиксажи…
А потом – потом появилась и ОНА, Наташа Родионова…
ДЕВУШКА ЕГО МЕЧТЫ…
Стало легче жить на белом свете. Было кому отвести душу. Поплакаться в жилетку. Он стал неплохо (на любительском уровне!) играть в шахматы, до самозабвения полюбил футбол, который в те годы только набирал обороты и завоёвывал любовь, популярность у миллионов соотечественников…
…Шли годы. Не шли даже – летели! И вот теперь, когда Натальи не стало, когда, казалось, обрушился мир, почернел небосвод, он, Сергей Бородин, вдруг как бы нырнул – но не в прошлое, такое, а в гостиничные номера, где, мерещилось! легко и нетленно бродят призраки, добрые, милые, раскло-нированные памятью ли, воображением призраки, щедро и совершенно ненавязчиво оставленные той, кто шагнул невесомо и безвозвратно из сбывшейся (такое возможно?) мечты в ностальгический мираж. Нырнул в комнатёнки казённые, где сбрасывал кожу и снова становился счастливым…
– …Скажи, почему ты нуждаешься в этих твоих встречах, знакомствах, связях с посторонними совершенно девушками?
– Они помогают мне. Помогают освободиться от чего-то избыточного, нехорошего, причём, поодиночке никто из них не выдержал бы груза, который тащу… столько лет! Я растворяюсь в них. И знаешь, каждая – звучит, звучит на свой лад, на свой манер, подобно музыкальной пьесе, которую в данный момент осваиваю, изучаю… Девушка-фуга, девушка-сонатина… Девушка-вальс… Ведь к произведениям, этим, другим, я часто питаю довольно странные чувства, а к девушкам – очень отеческие и очень-очень… щедрые, щедрые на меня, щедрые на то человеческое, что произрастает во мне и стремится к людям, на свет… Порой не знаю, как относиться к девчушкам этим, дочерям… женщинам… Мне просто нужно быть таким, быть с ними, и всё тут. Понимаешь? Иногда они заменяют мне тебя… А иногда, страшно сказать, они кажутся мне продолжением меня самого… Вот ка-ак…
– Понимаю…
– Ревнуешь?
– Что ты?!
Это её «что ты» в очередной раз больно полоснуло его по живому: почувствовал и никчёмность свою, и какую-то нереальность происходящего вокруг, творящегося с ним. Особенно же остро ощутил её, Наташеньки, благородство жертвенное, целомудрие, чистоту алмазную…
– Странный ты человечек… И нужна мне, господи, как же ты мне нужна!
– Так ведь это самое главное, родной… Ну-жна-а-а…
– Знаешь, наверняка кто-нибудь толстокожий, разбитной ляпнул бы сейчас, мол, он, то есть, я, бабник первостатейный, а она – ты, не имеет элементарной девичьей, женской, суть не меняется, гордости…
– Ты же…
– Я? Я думаю, что никогда нельзя быть категоричным и однозначным в оценке человеческой личности, поступков наших… Легче всего оскорбить, обозвать, приклеить ярлык. Вот поддержать ближнего, предварительно его поняв хотя бы на столечко (показал кончик мизинца), помочь… Это куда сложнее!
Ткнулся губами в её предплечье, мягенькое, отдающее чем-то невостребованно-материнским – хорошо, обетованно стало… Продолжил:
– А по-моему, даже молоденькая девушка, вчерашняя девочка, по отношению к любому мужчине питает частенько чисто материнские чувства… Природой дано… заложено, а может, просто души у вас, у девушек, женщин, гораздо нежнее и мудрее, отзывчивее и трепетней… А?
– Иногда это происходит подсознательно. Мы… как бы пробуждаемся, в нас просыпаются глубинные чувства – нет, не жалости, не сострадания, хотя и они присутствуют… Просто поднимается во весь свой рост что-то древнее, исконное, чего мы и сами в себе не подозревали, чему не придумали названия…
– А сейчас… у тебя… тоже? Мне так уютно… здесь… Тепло… Дивно!..
– Сейчас? Глупышенька ты моя! Я ведь твоя половиночка! И не стесняюсь тебя. Мне хорошо от того, что хорошо, любо тебе. И чем тебе лучше, тем счастливее, богаче я. Вот так, мой родной! Просто?
Разговоров, подобных этому воркованию чудному, было превеликое множество. Да они обсуждали всё: от летающих тарелок – до самых интимных, сокровенных тайн друг друга, находя взаимное облегчение в доверительном тоне, в душевной близости, в такой близости, когда глаза в глаза, ближе некуда… когда срастаются и сливаются в единое целое два мира человеческих, две жизни… Что облегчение?! Им надо было видеть каждую чёрточку лица напротив, читать со дна мерцающего родимых очей поддержку, понимание, прощение! И – великую, изумлённую радость от осознания полёта над вселенными, сосредоточенными в каждом из них. Им нужно было читать пожары в глазах своих – пожары пламенные, прекрасные, протуберанцевые, захлёстывающие фантастическими волнами света и благодарения…
– Серенький! Не скажешь, почему художник слова жаждет немедленно прочитать своё очередное удачное творение людям?
– Наверно, в поэтах много детского, впрочем, как и в представителях других творческих профессий. Ребёнок тоже делится с мамой или с папой своими первыми открытиями, показывает и, заметь, без хвастовства, что он только что построил, из кубиков, из мокрого песка, из конструктора… Ты знаешь, то, что тебе сейчас скажу, наверняка не ново и странно, но мне кажется, что одарённые, творческие натуры – те же дети. А в роли мамы и папы выступает перед ними всё человечество.
…Сергей Павлович приблизился к роялю. Новый вал воспоминаний обрушился (иначе не скажешь!) неистово, внезапно. Города, города, города… Дороги, дороги, дороги… И опять – города и дороги… сколько их! В прежние годы мнилось: не меньше, чем людей! И все они – это одна-единственная бесконечная дорога, которую никогда не осилишь, не пройдёшь, потому что нет у неё ни начала ни конца и называется она жизненным путём, проложенным через трущобы и дворцы, пустыри и проспекты магистральные. Проложенные до нас и прокладываемые нами… Он вспомнил, как однажды пришла к нему домой Наташина дочка, Света, благо тогда, после второй их встречи на кладбище, оставил ей свой адрес московский (со временем перебрался в столицу!), правда, прибавив, что застать его на месте она сможет в случае везения огромного. Что ж, девочке подфартило!
– Удочерите меня, Сергей Павлович! – то ли в шутку, то ли всерьёз попросила вдруг, когда сидели-чаёвничали в его необжитой, совершенно холостяцкой квартире, предоставленной Мосгорисполкомом по ходатайству Союза композиторов, и от гостьи, хоть и принявшей с дороги ванну, веяло именно дорогой, даже двумя дорогами – одной, проделанной только что из провинциального городка в стольный град, а второй – не дорогой, скорее ручейком, отросточком той самой единственной Бесконечной Дороги, которая в былые годы часто представлялась ему Жизненным Путём. – Знаете, у меня ведь никого теперь нет…
– Несчастные мы с тобой! – Он кисло улыбнулся и положил широкую ладонь на слегка шероховатую кисть. – Отморозила? – спросил участливо.
– Да, пару лет тому… По глупости!
– Расскажешь?
– Ничего особенного! Заигралась с подружками, варежку потеряла… Пока искала… А морозец был знатный. Вот и угораздило! Мы тогда снежную крепость у мальчишек с боем брали!
– Успешно?
– He-а! Зато впечатлений разных надолго хватило! Начитались Гайдара, комендантами снежной крепости все стать хотели…
Светлана живо напомнила ему Наталью – воскресшую, родную! Засаднило в груди… Хотел было признаться в ощущениях нахлынувших, противоречивых – сладостных и пыточных сразу, однако она опередила:
– Я вам напоминаю маму… то есть, её?!
Вздохнул, кивнул.
– Знаете, мама была очень одинока. К ней почти не ходили мужчины… Вы меня понимаете? Так, старинные бабушкины друзья. Бабушка, кстати, тоже совершенно одна жила.
Папу я не видела уже много лет… Он и на похоронах не был. Знаете, Сергей Павлович, мне часто кажется, что на семье нашей лежит, так сказать, тяготеет какое-то проклятие… Я боюсь остаться одна. Боюсь, что продолжу судьбу бабушки, потом мамы… Вы понимаете ведь?
Смотрела в его глаза, он тихонько поглаживал кисть её руки, перебирая доверчивые, детские совсем пальчики нежно-нежно, словно клавиши чудесного рояля.
– И что мне делать с тобой?
– Любите меня.
– Я ведь тебя совершенно не знаю.
– Вы знали мою маму, а я не только внешне похожа на неё. Мы с ней были неразлучны, а любили друг друга, как сёстры. Ближе неё у меня никого не было.
– Ты дивная девочка, Светланка! И ты стала мне особенно дорога после того, как помогла мне там, на кладбище… Сам не знаю отчего, последнее время часто плачу… или не плачу, не рыдаю – просто на глаза наворачиваются слёзы… Так и тянет зареветь, дать выход чему-то внутри… И постоянно жалко кого-то, а прежде всего – себя. Эгоизм?..
Он что-то говорил, говорил тогда, в тот не поздний ещё час, говорил… а она внимательно слушала, сидя в такой же позе, какую некогда принимала Наташенька… Он воодушевился, стал откровенничать, на что-то сетовать, превращаясь в обидчивого, слегка занудливого, предельно искреннего максималиста, которого покойная знала, любила больше жизни, сохла по которому в часы прогорклого одиночья, недоступная и целомудренная для большинства других мужиков.
– И почему вы не уговорили маму выйти за вас замуж?! Почему оставили её одну?
– Но ведь она была замужем… правда, недолго. И ты – плод её брака с твоим отцом – почувствовал корявость фразы, по сути верной, смутился. – Ты меня упрекаешь? Винишь?
– Имею ли право? Не судите, да не судимы будете! Кажется, так говорят православные… христиане… кто там? Вы сами всю оставшуюся жизнь будете осуждать себя за мягкотелость, за эдакую послушность полудетскую… Нет, я никого не виню, просто мне очень жаль, очень-очень жаль, что у вас с мамой ничего путного не получилось.
– Путного… непутёвого… Фразеология одна! Да-с!!! Брак выхолащивает души людей. Они пьют до дна страдания, душевные недуги друг друга, всё самое-самое лучшее, светлое, сокровенное… До последней капельки! И – настаёт пустота. Зияющая рана… А потом, по истечении лет, оба стесняются взглянуть друг другу в глаза, ибо читают в них собственные былые слёзы, молитвы, клятвы, потому что видят обнажённость свою в этих самых глазах напротив. И начинается игра в молчанку, начинается бесконечное отчуждение взаимное… А потом – позывы к поиску выхода из тупика. К поиску выхода на другую сторону, к другой душе! Ибо ты привык взваливать самую тяжёлую часть ноши своей на чужие плечи – не на чужие, может, но всё равно… иначе не можешь жить!! Дальше – хуже – измена!!! Я не верю в любовь! Людям была нужна она и они придумали себе Ромео и Джульету! Придумали сказочку про две половинки, что бродят по свету, ищут друг друга…
– Бедный вы мой Сергей Павлович! Но ведь, говоря сейчас всё это, вы это же всё и отрицаете – разом! Вы с таким запалом, с такой болью сейчас произносите такие слова, что всем своим видом как бы даёте понять: не слушай меня, девочка, живи своим умом, дойди до той степени отупения… отчаянья, чтобы поверить в несусветную ложь самой себе, а я, старый пентюх, давно выжил из ума от иллюзий, тоски, от самообольщений и годен разве что на…
– …продолжай, ну! Чего замолчала?! На что я годен??? На вечный поиск чужих душ, чужих тел?! На порхание бабочкой? На что?!!
– Запомните, Сергей Павлович, родной мой, родной, потому что вы были по-настоящему близки с моей мамой, были дороги ей… запомните: я никогда, ни при каких условиях не позволю себе оскорбить ни вас, ни кого бы то ни было. И дело тут не в воспитании – просто я отдаю себе отчёт в том, что человек, любой, живёт так, как может, как живёт. Понимаете??? Не хуже, не лучше – ровно так. Ровно так, КАК ОН УЖЕ ЖИВЁТ. И он не виноват в своей судьбе, в своих пороках! Да, конечно, он мог бы, он реально обязан самосовершенствоваться, стремиться к лучшей доле… Но мы-то с вами знаем, что всё это по большей части только слова. Бывают исключения, сильные личности, но они не в счёт. Масса людей живёт сегодняшним днём и живёт ровно так, как может… Да-с!!!
– Вот ты какая…
– Да уж, такая.
– А говоришь, что вылитая мама… что вы были неразлучны… Она ведь не думала так, как думаешь ты! Она была… другой – чистой, романтичной, нежной, дарила мне себя, помогала своим пониманием. Я делился с нею – всем-всем… Плакал, как ребёнок, смеялся, был её продолжением…
– Сергей Павлович, Серёжа… – рука Светы мягко легла на плечо Бородина – мужчин так просто обмануть…
– Нет, нет! Не верю! Она не могла притворяться со мной! У нас столько всего было замечательного, и каждый раз я убеждался в её высоком благородстве, в её мудрости и целомудрии, в её негасимой любви ко мне! Ты слышишь? А может быть, и ты притворяешься, обманываешь меня – сейчас, в эти самые минуты?!
– Мне-то зачем? А она… она и не притворялась! Просто, находясь с вами, попадала… ну, как бы в иное измерение, понимаете? В любом человеке сосуществуют два «Я». И вот мамино лучшее «Я» принадлежало всецело, без остатка вам, а другая часть – и мне, и остальным людям. Иногда эти половиночки переходили… переливались одна в другую и тогда я совершенно не узнавала маму, хотя любила её всегда и всегда сердцем узнавала, что именно в данный момент и кому именно предназначается. Вот так-то вот…
– Мы были счастливы! Несказанно счастливы, Светка!
– Раз-то в год? Смешно. Человеку этого мало. Человеку всего! мало… Все-го.
Он молчал, потрясённый, не зная, что ответить девушке.
– Да как вы не поймёте, что мне просто невыносимо тошно от того, что не вы… не ты мой отец, что мамы нету давно в живых и мы не вместе сейчас!
Крик души. А ему показалось, что тень, странный призрак Наташеньки, явился к нему с того света в образе дочери и юными устами предъявляет счёт за не сложившуюся жизнь, за то, что он, мужчина всё-таки, пошёл на поводу фантазий нелепых молодой женщины и столько лет, столько невозвратимых лет откровенно загубил. Говорится же: ни себе, ни людям! Возможно, и не был бы он таким бабником не просыхающим^], имея семью, детей… Внезапно почувствовал усталость, опустошённость…
– Теперь уже поздно ворошить всё это – выдавил наконец из себя, тотчас поймав ускользающую мысль: поздно ли? Он что, поставил крест на судьбе? Разве память сердца не основа личного жизненного опыта? Разве она безнадёжна?!
– Сыграйте что-нибудь – попросила Света.
– Что?
– Не знаю… А хотите, я вам сыграю?
Он не хотел.
– Хочу.
Девушка грациозно, плавно, белоснежно скользнула к инструменту… Начала исполнять «РОНДО В ТУРЕЦКОМ СТИЛЕ». Неплохо, на школьном уровне…
– Ну, как? Хорошо?
– Как? Ну-ка, на минутку…
Знаком попросил её освободить стульчик. Удобно устроился сам, превратившись вдруг из неуверенного лирика в одержимого, целеупорного Музыканта… Руки зависли над клавиатурой (девочке померещилось: между кончиками пальцев и строгими рядами пластинок чёрно-белых возникло напряжение, заискрился воздух…], левая нога чуть-чуть откинута назад, корпус наклонён… слегка, самую малость… вперёд, навстречу грядущей волне, которая зарождается в недрах кабинетного рояля, вызревает и… И Светлана – он боковым зрением уловил это – напряглась даже в ожидании чудодейства. Ей – он понял это – выпало на долю невероятное: до конца измерить глубину раскаяния гения, поверив алгеброй сердца молодого, наивного гармонию, может, аберрацию высокую[6] в исполнении мастера, в его, маэстро этого, бездарной судьбе… Экзамен на соответствие мечты сбывшейся мечтам теперь уже несбыточным… никогда! Подобного испытания он, Бородин, прежде не переживал и потому просто обязан был выдержать сейчас. Тишина, нет-нет, не тишина – пауза, пауза\ Ещё мгновение – ворвётся, хлынет поток легчайших, ярчайших, скоротечных, только не скороспелых звуков…
Он резко поднялся, сказал:
– Я ещё не начал исполнять, а ты уже живёшь предстоящей музыкой, уже грезишь ею… Нужно уметь подчинять себе слушателя всецело, налаживать между вами некий мостик… Понимаешь? Тогда, считай, первый шаг к успеху будет сделан. Ладно, родная моя, не всё сразу. Считай, это был преподан первый урок. Ты как – хорошая ученица?
В ответ – пожатие плечами. Он поймал себя на мысли, что Наташа, Наташенька так ни разу и не побывала в этой его огромной квартире, зато её дочь, Светлана – здесь и, похоже, вполне освоилась на новом месте…
– Ты работаешь, учишься?
– И то, и другое… Сейчас в отпуску.
Метнула на него взгляд, в котором читались и разочарование, и уважительная настороженность, и тоска исступлённая, и что-то ещё, глубинное, взгляд, где соединены ум, воля, приспособляемость к любым житейским передрягам, также холодный расчёт, дерзость, свойственная юности…
– Какого цвета у тебя зрачки?
– Болотного…
– Подойди, подойди поближе…
Рассматривал прекрасные, сияющие очи и силился вспомнить, какие глаза были у Натальи. Не мог…
– У меня мамины глаза. У меня всё мамино. Знаете, иногда нас даже принимали за сестёр, настолько я на неё похожа. И если бы не разница в возрасте…
Ему невероятно захотелось дотронуться до девушки, обнять её, прижать к груди и долго-долго гладить эти плечи, головку, тихонечко ласкать, ласкать, возвращая долг обеим… с чувством признательности за поддержку на кладбище…
– Я не кусаюсь. – Игриво, непринуждённо улыбнулась…
– Почему ты действительно не моя дочь?
И вдруг его осенило: Наташенька не хотела обременять его, привязывать к себе! «Так значит, она не до конца обманывалась! Значит, всё же была права?..»
– Удочерите меня – стану вашей. Твоей.
– Расскажи об отце.
– Я его практически не знаю… И знать не хочу. Кажется, у него есть ещё одна дочка, моя сводная сестра, но только я её никогда не видела. Во-от… Что ещё?
– Ты должна его отыскать. Ведь, что ни говори, а он – твой папа. Понимаешь? Твой родной папа.
– Нет. И не будем больше возвращаться к этой теме. Я для него – отрезанный ломоть. Как и он для меня, если, конечно, уместно так говорить о родиче. Он забыл меня… нас с мамой. Что ж, значит, мы ему не нужны. Зачем навязываться? Алименты проплатил – хватит! Верно?
– Ты – мудрая?
– Светланка-премудрая!
Он улыбался. Улыбался, внутри же всё горело, переворачивалось… Отчётливо осознал: она, Света, ещё прекраснее, чище, родимее Наташеньки. Ибо она и была отчасти его покойной Натальей – раз, её органичным продолжением, а в мгновения странные эти выглядела особенно волнующе, влекомо – два. Но зачем, для чего дан ему подарок судьбы такой? Искушение сладчайшее??
– Я буду тебя очень любить, беречь… Спасибо, что вспомнила обо мне.
– Я никогда не забывала вас, Сергей Павлович, ваших слёз тогда… Они многое перевернули во мне… Сказать правду, хотите? Всю-всю, без утайки!
– Правду нужно говорить всегда, а не держать её взаперти, потому что на дне души она может незаметно переродиться в ложь. В кривду. Бытует утверждение, мол, правда хорошо, а счастье лучше. Но какое счастье без правды, без торжества справедливой истины, не важно – относительной или абсолютной…
– Слова! слова, Сергей Павлович! Любите вы, взрослые, говорить разные красивые слова, изрекать высокопарные мудрости. А ведь я вас ненавидела, хуже – откровенно презирала. За то, что сотворили вы с моей мамой. Когда я похоронила маму – голос девушки зазвучал глухо, разбито – на могилке её поклялась, что отыщу вас, отыщу единственно для того, чтобы втереться вам в душу, а потом, потом… не знаю, чтобы я потом сделала, но только обязательно бы вам отомстила за маму, слышите, вы, гений! так бы отомстила, что мало бы вам не показалось… И как же я ненавидела вас на кладбище, в первый раз, как ненавидела тот ваш огромный букет, от которого буквально разило чем-то ненастоящим, чем-то напыщенно-показным, неискренним… Мама любила ландыши, а розы ненавидела. Вы же притащили целую охапку именно роз! Потом, когда мы ушли, вы – в гостиницу, а я – в опустевший дом, я порывалась на кладбище, чтобы схватить этот ваш, извините, дорогущий, благоухающий веник и вышвырнуть его на мусорную свалку, к отцветшим цветам, к прочему хламу. Что меня сдержало тогда? Наверно, нехорошо грабить погосты! Кощунство и святотатство это! Вандализмом нравственным отдаёт! А на следующее утро таки пошла, сама не знаю, что меня дёрнуло! И увидела вас, ваши слёзы… И стало мне жалко-жалко вас, Сергей Павлович, так жалко, как никогда и никого в жизни не жалела. Хотите верьте, хотите – нет! А когда затряслись вы в моих объятиях, то поняла вдруг, что вы для меня стали самым близким, самым родным человеком, что всё-всё вам прощу, что стану для вас ею, вашей Наташенькой… Что-то обожгло меня тогда… и тогда же, там, я опять поклялась, поклялась на той же самой могилке, поклялась мысленно, что буду вам помогать, стану заботиться о вас… За мамочку, которая не дожила, которая так мало, так редко делала это. А ведь так хотела, мечтала… Да, за мамочку и ещё просто потому, что весь вы какой-то неухоженный, заброшенный, одинокий… Беспомощный! Беззащитный… Вот так, Сергей Павлович! И завязывайте-ка ваши похождения, приключения, знакомства! А то ведь я и передумать могу!
Потом она сидела на его коленях, гладила вороные с проседью волосы, улыбалась странной, задумчивой улыбкой, что-то щебетала. Он же – перемежался, раздваивался: с одной стороны, чувствовал влечение к ней, но не прежнее, возникавшее при встречах с женщинами разными, а скорее с предвкушением наслаждения (или наоборот – с наслаждением от предвкушения?]… но тотчас, в противовес, совершенно успокаивался, проваливался в некое забытьё, в нирвану буддистскую(!), однако и сознавая, что ему даётся нечто вроде отпущения грехов – существующих? вымышленных? Всё равно грехов… И ещё потом он пытался отогнать от себя крамольную мысль – её сам же почему-то назвал, СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ. То есть, встретившись со Светой, заранее обрёк себя на полное уничтожение всех последующих встреч. И это во многом способствовало продолжающейся в нём работе по переоценке духовных ориентиров, по дальнейшему становлению личности его, Бородина, без чего немыслима стала бы работа и другая – над «ЗЕМНОЙ»…
– Как жить? Как мне жить?!!
Мучительно воскликнул вдруг и Светланка, теребя ласково причёску его, с нескрываемой, отчаянной горечью ответила:
– Научусь когда сама, подскажу!
…Ещё позже они обсуждали чисто жизненные вопросы, связанные и с домом, где раньше проживала с покойной матерью, – продавать, не продавать? и с её учёбой, работой, переводом в Москву, регистрацией и пропиской здесь… Дел предстояло много, невпроворот, все – первостатейные, не терпящие отлагательства. После (он помнил, помнил!) стала накатываться из ниоткуда волна въедливой, зудящей хандры, отчаянья, непонимания того, а что же дальше-то? Смешанные чувства эти рождали неудовлетворённость, пики которой приходились на те минуточки, даже секунды, когда Светлана порывисто и доверчиво прижималась к нему, целуя пьяно, безумно, вцеловываясъ в него всем существом и напоминая при этом то Наталью, то… собирательный образ идеальной женщины, который почти для каждого мужчины выглядит конкретно-неосуществимо, невозможно и который лично он, Бородин, тщетно искал на расхожих дорогах судьбы… Боясь переступить черту, чтобы не потерять Богом данное, держал себя в руках, из последних сил обуздывал страсть, вожделение. Был начеку…
– Говоришь, не кусаешься?!
Оба рассмеялись – злой, ненасытный, колдовской смех наполнил комнату… Сергей же Павлович сквозь потоки бурные этого хохочущего выплёскивания наружу двух дьявольских душ как бы краем глаза, увидел вспышечно: себя, привязанного колючей проволокой к забору… супруга Анастасии Васильевны, избивающего его, тогда ещё мальчика Серёжу, за то, что развалил высокую башенку из кубиков… и – последнее – девочку в беленьком платьице на солнечноизумрудном косогоре с кринкой парного молочка в одной руке и невидимым белым же платочком – в другой: машет, машет ему пацанёнку то ли приветствуя, то ли навсегда прощаясь…
Он понимал и не понимал: или Светланка проверяет его на верность, на прочность… или, разочарованная, одинокая, сама бросилась с головой в омут родимый, надёжный… из памяти сердца в предательский сон наяву. В безумье своё и – его.


