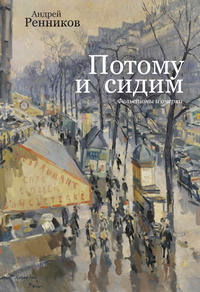Полная версия
Было все, будет все. Мемуарные и нравственно-философские произведения
«Ревизор», как я и ожидал, прошел блестяще, под непрерывный смех зрителей. Но успех получился потому именно, что мы с Мишей нисколько не придерживались указаний Володьки, а играли по вдохновению, прибавляя свои слова там, где это требовалось для усиления впечатления. Миша был Слугою не только грубым, но и страшно нахальным, что хорошо подчеркивало мысль Гоголя. Когда Хлестаков сказал ему: «Хозяин, хозяин. Плевать на твоего хозяина!» – Слуга подошел к нему и показал кулак, добавив: «Ты у меня осторожней, смотри!» А когда Хлестаков опросил: «Почему соуса нет?» – Миша закатился продолжительным дьявольским смехом, воскликнул: «Вот тебе соус»! И показал кукиш.
Какой был эффект! В передних рядах, правда, кое-кто с недоумением переглядывался с соседями. Но что было в задних рядах! Какие восторженные клики!
А что касается меня, Осипа, то мое выступление тоже сопровождалось шумным одобрением публики. Я уже тогда очень любил Гоголя и потому искренно старался содействовать успеху его пьесы, привнося в нее всякие добавочные остроты и украшения, чтобы она была еще смешнее. Произнося вначале свой монолог о трескотне в животе и о поведении барина, я сопровождал свои слова такими ужимками, строил такие замечательные рожи, что все слушатели буквально покатывались со смеха. Смеялся даже сам батюшка из Госпитальной церкви, хотя завтра ему предстояло служить две панихиды. А когда появился в роли Хлестакова Володька и стал разговаривать со мною наглым пренебрежительным тоном, давая понять публике, что он режиссер, я решил отвести душу за все унижения, испытанные на репетициях. Когда он мне по пьесе сказал: «Как ты смеешь, дурак?», я, не стесняясь, ответил: «Ты сам дурак!» А когда он произнес: «Ну, ступай, черт с тобой», я огрызнулся: «Неизвестно, кто к черту пойдет», направился к двери, плюнул и при выходе со сцены сделал в воздухе такое антраша, что вызвал в задних рядах гром аплодисментов.
Но наибольшего успеха достиг я не в этой картине, а в следующей. Когда Хлестаков, съев суп, сказал мне: «Там супу немного осталось, Осип, возьми себе», я подошел к столу, взял супник, приплясывая вышел с ним на авансцену, сначала доел суп ложкой, затем поднял опрокинутый сосуд над головой, чтобы последние капли падали мне в рот, потом сунул физиономию в глубину супника, чтобы вылизать остатки и, наконец, убедившись, что внутри уже ничего нет, надел супник на голову, круто повернулся и торжественно направился к выходу. Эту сцену, тянувшуюся довольно долго, я заранее разработал втайне от Алексеева и не ошибся в расчете. Такую бурю восторга, какую вызвал мой суп, я наблюдал только один раз в Тифлисе, когда Камионский в «Демоне» окончил свою знаменитую арию «К тебе я буду прилетать, сны золотые навевать».
После такого колоссального успеха я долгое время мечтал стать когда-нибудь актером. Но жизнь как-то сложилась иначе. А сделайся я актером, кто знает – может быть я и сейчас играл на эмигрантской сцене и комиков, и трагиков, и первых любовников.
Второе отделение спектакля с научными опытами и фокусами прошло тоже с успехом. Правда, крутое яйцо долго не желало влезать в горлышко бутылки, хотя Арафаилов и уверял публику, законы природы непоколебимы, несколько раз сжигая внутри бутылки бумагу. А опыт с центробежной силой окончился даже легкой неприятностью. Приступая к нему, Шанидзе подошел к рампе, и заикаясь, стал объяснять, что в мире существуют две интересные силы: центробежная и центростремительная, причем при известных условиях эти силы могут уравновешиваться.
– Вот у меня в ведре, – сказал он, – находится вода. Желающие могут убедиться, что тут нет никакого жульничества. Один конец этой веревки я привязал к ведру, а другой сейчас возьму в руку и начну быстро вращать ведро вверх и вниз. Вы увидите, что при этом вращении ни одна капля воды не прольется, так как центробежная сила этого не позволит…
– Сандро! Отойди с ведром подальше! – раздался из первых рядов суровый голос отца Шанидзе. При тревожном внимании зрителей молодой ученый, взяв в руку веревку, стал раскачивать ведро и затем порывистым движением начал вращать его перед собой в вертикальном направлении. Ведро то высоко поднималось по кругу над головой отважного физика, то опускалось, проносясь почти около пола.
– Браво! Браво! – раздались одобрительные голоса.
– Ай! Он меня облил! – испуганно вскрикнула в первом ряду начальница Мариинского училища, вскакивая с места и брезгливо стряхивая с себя воду.
Последним номером, согласно программе, шел фокус Оганезова со сжиганием платка. Так как Оганезов учился в кутаисской гимназии мы, тифлисцы, мало знали его; но так как он был нам известен как мрачный юморист, любящий иногда проделать какую-нибудь непозволительную шутку, то мы, участники спектакля на репетициях несколько раз добивались от него, чтобы он при нас продемонстрировал свой опыт. Однако, он каждый раз категорически отказывался от этого, ссылаясь на то, что если мы узнаем его секрет, то сами тоже этот фокус будем показывать.
– Милостивые государыни и милостивые государи! – подойдя к рампе, начал Оганезов, очевидно заранее заготовив свою научную речь. – По закону Лавуазье в мире ни одна частичка материи не пропадает, хотя внешняя форма предмета и изменяется. Сейчас, при опыте со сжиганием платка, вы убедитесь в правильности этого закона, с подробностями которого можете ознакомиться в научных учебниках. Будьте уверены, что с платком ничего плохого не будет. Все зависит от ловкости рук.
Он зажег на столике заранее приготовленную свечу и по боковой лестнице спустился с эстрады в зрительный зал.
– Мария Логгиновна, – учтиво обратился он к начальнице Мариинского Училища, – может быть вы мне дадите свой платок?
– Что вы? Нет, нет! – испуганно отвечала она. – С меня достаточно вашей центробежной силы!
– А может быть вы? – обратился Оганезов к сидевшему рядом с начальницей местному мировому судье.
– Я забыл платок дома, – твердо проговорил тот.
– Батюшка… В таком случае можно спросить у вас?
Батюшка смутился, покраснел и заерзал на месте.
– Да как вам сказать… Я бы с удовольствием… Но у меня… только один. А если… это самое… чихну?.. И понадобится?
– Опыт продолжится только десять минут! Будьте добры!
Получив от батюшки платок, Оганезов положил его в карман и поднялся на эстраду.
– Господа! – стоя возле столика с зажженной свечей деловито обратился он к присутствовавшим, – Вот перед вами горящая свеча и вот обыкновенный платок. Теперь я его складываю вчетверо и подношу образовавшийся у середины его угол к огню.
– Ох!.. – тихо простонал батюшка, приподнявшись на своем месте и впившись взглядом в свечу.
– Теперь я его жгу, – бесстрастно продолжал ученый фокусник. – Вы видите: материя Лавуазье уже загорелась. Вот – маленький дым. Вот – копоть. Сомнения как будто бы нет: платок погиб. Но теперь я беру платок… Встряхиваю его. И прошу убедиться…
Он подошел к рампе, постоял некоторое время молча, чтобы вызвать особое напряжение внимания у слушателей, взял платок обеими руками за два конца, встряхнул… И все увидели внутри огромную зияющую дыру, окруженную обожженной коричневой материей.
– А? – изумленно воскликнул сам фокусник, с жалостью глядя на погибший платок. – Что ж это случилось?
Он направил недоуменный взгляд на зрительный зал, затем на платок, потом опять на зал. Там, среди зрителей, начался ропот.
Кто-то вполголоса возмущался, кто-то кричал. Раздалось несколько свистков. Владелец платка, батюшка с грустной усмешкой покачал головой, поднял печальные глаза к потолку.
А Оганезов с хитрой улыбкой приблизился к рампе, вытащил из кармана другой платок и громким голосом, чтобы заглушить враждебные крики, проговорил:
– Многоуважаемый батюшка, ваш платок цел и невредим. Вот он! А я сжег свой. Тут, в другом кармане, у меня их несколько: разных размеров, и мужские, и дамские.
Спектакль закончился колоссальной овацией. Все-таки, чистое искусство всегда доходит до души человеческой! Даже в провинции.
IV
Учащаяся молодежь моего времени мало занималась спортом, вроде футбола. К несчастью для нашего государства, она не по летам была серьезна и в свободное от занятий время вместо того, чтобы принимать и отражать своей головой мячи, принимала и отражала всевозможные общественные и политические идеи. А такие идеи в детской душе – подобны кори или скарлатине. Они не остаются внутри мировоззрения, как полагается для взрослого человека, а высыпают наружу и чешутся от непрерывного зуда.
Молодой человек, в голову которого проникнет какая-нибудь идея о спасении человечества или окружающей его среды, становится жутким существом. Душа его раздувается, как пузырь; он всегда самонадеян, величав и относится с презрением ко всем, не разделяющим его взгляды на мир. Вот именно в эти опасные юные годы в среде нашей молодежи и создавались кадры всяких социал-демократов, социалистов-революционеров и просто народников. Прочитав две-три брошюры Бебеля17, Розы Люксембург18, Мартова19 или Ленина, молодые люди сразу постигали «всю истину» и с негодованием отталкивали от себя всякие возражения противников.
Конечно, подобные воспалительные процессы в душе у многих впоследствии проходили. Особенно после университета и поступления на государственную службу. Но у некоторых, особенно у социал-демократов, – никогда. Социал-демократическая зараза гораздо упорнее всяких других: это уже не корь, а нечто вроде малярии, от которой всю жизнь невозможно избавиться даже при раскаянии и при длительном лечении хинином благоразумия.
К счастью, в гимназические годы социалистические брошюрки мне в руки не попадались. Кроме того, ни на каких тайных политических собраниях мне не приходилось бывать. Один только раз надо мной повисла опасность: батумский мировой судья, большой либерал, обещал мне, когда я был в седьмом классе, подарить полное собрание сочинений Михайловского. Михайловский был тогда в большой моде у радикальной интеллигенции, и я с нетерпением ждал обещанного подарка. Но, слава Богу, полное собрание стоило довольно дорого; жена судьи отговорила мужа делать такой расход, – и я не получил ни одного тома. А что было бы, если бы судья не послушался жены? Быть может, был бы я теперь социалистом-революционером, вроде Соловейчика20 или Керенского, или народным социалистом, и презирал бы всех, кто не пишет в «Социалистическом вестнике» Абрамовича21?
Однако, из того, что я не сделался в гимназии социалистом, вовсе не следует, что никаких высоких идей у меня не было. Увы, идеи были. И такие идеи, которые причиняли мне немало хлопот.
Прочитав случайно «Историю материализма» Фридриха Альберта Ланге, «Самовоспитание воли» Жюля Пейо, «Вымершие чудовища» Гетчинсона, несколько книг Смайльса и некоторые назидательные рассказы Толстого, я сразу проник в смысл бытия, в несовершенство вселенной, в торжество земной несправедливости, с которой нужно бороться, и открыто признал себя философом: материалистом в строении мира, идеалистом в нравственной области и дарвинистом в биологии.
Переполненный всей этой смешанной идеологией, я решил в седьмом классе издавать свой собственный рукописный журнал. Сотрудничать у меня согласился один из моих одноклассников Стрельбицкий, учившийся неважно, но как-то раз прочитавший книгу о скептиках Пирроне, Карнеаде и Сексте Эмпирике и считавший себя тоже скептиком, что вызывало к нему всеобщее уважение класса. А в качестве художника был приглашен мною сын нашего директора – Коля Марков. Художником он был у нас очень известным и прекрасно рисовал море и лодки с парусами.
Директор Лев Львович, узнав от сына, что мы затеваем издание журнала, хотел было сначала потребовать, чтобы мы давали ему заранее каждый номер на предварительную цензуру. Но затем, как человек либеральный, передумал, от цензуры отказался, но предупредил нас, что в случае каких-либо наглых статей или литературного хулиганства журнал немедленно закроет, а с нами поступит по всей строгости циркуляров Министерства Народного Просвещения.
Прошло около месяца – и первый номер, наконец, вышел. Это был незабываемый день. Солнце ярко светило. Небо было ясное, голубое. Дул теплый мартовский ветерок, в саду чирикали птицы. А мы, со Стрельбицким и Марковым, во время большой перемены объявили товарищам о выходе журнала, показали им номер и тут же выступили с программными речами. Что говорили мои сотрудники, точно не помню. Но, сам я, в своем обращении, очень красноречиво доказывал, что сегодня наша гимназия вступает в новую эру своего существования. Отныне каждый читатель журнала будет иметь возможность подробно узнать, что такое вселенная, как постепенно от вымерших чудовищ – ихтиозавров, бронтозавров и птеродактилей через промежуточную стадию обезьяны произошел человек, в чем состоит смысл жизни и как нужно воспитывать свою волю.
Среди учеников журнал имел успех не очень большой. Зато в среде преподавателей вызвал сенсацию, смешанную с высшим видом негодования. Когда, например, наш законоучитель, – отец Хелидзе, прочел мою статью «О несовершенстве мира», он немедленно отправился к директору и стал жаловаться, что я проповедую атеизм.
Директору, уже прочитавшему наш журнал, моя статья тоже была не по душе. Но он, все-таки, счел справедливым заступиться за меня, так как я существование Бога совсем не отрицал.
– Позвольте, отец Василий, – сказал он. – Автор не только не отрицает Бога, но даже с Ним беседует!
– Да, но как нахально беседует, Лев Львович! Мальчишка в седьмом классе, еще гимназии не окончил, а смеет Бога учить! Это черт знает, что, да простит мне черта Господь и Пресвятая Богородица!
Отстояв меня перед законоучителем, директор, однако, не мог выдержать натиска других возмущенных преподавателей. Он вызвал меня к себе и начал отчитывать за свободомыслие.
– Но, что такого плохого в моей статье? – оправдывался я. – Ведь я привел только факты! Почему Бог создал мир так, что все существа поедают друг друга? Если бы я создавал вселенную, я бы устроил, чтобы никто не ел никого из живых, а ел бы камни, скалы, глину, в крайнем случае фрукты, но без косточек, так как в них тоже заложена жизнь. Ведь, если Бог всемогущ, разве ему трудно сделать, чтобы камни были приятны на вкус?
– Чепуху ты говоришь, мой милый, чепуху, – заметил директор, внимательно разглядывая меня. – В общем, я тебе уже сказал все, что нужно. Иди и помни: если ты не обуздаешь свою философию, я закрою журнал, а тебя оставлю без отпуска.
Беседа со Львом Львовичем меня очень огорчила. А тут еще новая неприятность. Уже со стороны преподавателя русского языка – Федора Кузьмича.
Как-то раз пришел он в класс, вызвал по обыкновению несколько человек, поставил им отметки, а затем, перед тем, как задавать следующий урок, обратился ко мне, к Стрельбицкому и к Коле Маркову с небольшой речью.
Господа, – заговорил он. – Я прочел ваш журнал и хочу высказать о нем свое мнение. О ваших рисунках, Марков, ничего плохого сказать не могу, – обратился он к сыну директора. – Они безусловно талантливы, но, пожалуй, немного фривольны. Конечно, древнегреческие богини не носили таких нарядов, как нынешние благовоспитанные дамы. Но набросить на них хотя бы легкое покрывало или хитон – не мешало бы. Особенно – в гимназическом журнале. А что касается вашей статьи, Стрельбицкий, то она меня удивляет. Почему вы считаете, что математика – глупая наука и не выдерживает никакой критики? Может быть, потому, что вы часто по математике получаете двойки?
– Нет, не потому, Федор Кузьмич, – встав с места, обиженно произнес Стрельбицкий. – у меня бывают и тройки. Но я утверждаю это потому, что я – скептик.
– В самом деле? – иронически удивился Федор Кузьмич. – И давно это?
– С тех пор, как я ознакомился с великими учениями софистов и скептиков. Например – Ахиллес никогда не может догнать черепахи. Это – факт. А если так, то убывающая геометрическая прогрессия не имеет никакого смысла.
– Вот что? Ну, а логику вы признаете?
– Логику тоже не признаю. Вот, взять хотя бы критянина. Один критянин сказал, что все критяне вруны. Но так как он сам критянин, то значит тоже врет. И значит критяне не врут, а говорят правду. А если они говорят правду, то и он тоже говорит правду. А он, что сказал? Что все критяне лгуны? А если они лгуны, то он тоже лгун, и значит все критяне говорят правду. А если они все говорят правду, то значит и он говорит правду. А он говорит, что все критяне лгуны…
– Довольно, довольно! – замахал рукой Федор Кузьмич. – Я это знаю! Ну, хорошо… А вы Стрельбицкий, считаете, все-таки, что-нибудь истинным?
– Ничего не считаю. Вообще я ничего не утверждаю. Даже не утверждаю того, что ничего не утверждаю.
– В таком случае садитесь на место и подождите будущего года. В восьмом классе я буду преподавать логику, и мы тогда с вами поговорим. А теперь, мой дорогой, – вы… – обратился Федор Кузьмич ко мне. – Относительно вашей статьи…
– Пожалуйста, – встав и покраснев, предчувствуя что-то недоброе, скромно произнес я.
– Прежде всего, голубчик, у вас слово «умереть» написано через ять на конце. Запомните раз навсегда, что тереть, переть и умереть пишется через е. А затем вот что. В своей статье вы приводите различные недостатки мироздания. Что земля имеет наклон к эклиптике, из-за чего у нас летом очень жарко, а зимой холодно и приходится топить печи. Далее – что на земле слишком много соленой воды сравнительно с пресной. Потом, – что жизнь на земле организована отвратительно, что живые существа должны поедать друг друга. И так далее. Все эти рассуждения, разумеется, ваше личное дело. Но, вот, в заключении у вас есть такие строки: «если бы я был на месте Бога, я бы все это устроил совершенно иначе, внимательно и доброжелательно…» Ведь вы это написали?
– Да…
– Так, вот, слушайте. В начале прошлого столетия, во времена нашего баснописца Крылова, какой-то второразрядный писатель выпустил в свет небольшое произведение, в котором тоже говорил о несовершенстве мира и тоже обвинял в этом Господа. Озаглавил он всю эту ерунду так: «Когда бы я был Богом» и послал для отзыва Крылову. Тот прочел, сначала ничего не хотел ответить, но затем передумал и дал отзыв в следующих двух строках:
«Мой друг! Когда бы ты был Бог,Ты б глупостей таких писать не мог».– Ну, как? Вам нравится? – под общий смех класса спросил меня Федор Кузьмич.
Я молчал.
– Повторите эти строки, принадлежащие великому Крылову! – сказал Федор Кузьмич.
Я молчал.
– Прошу повторить, – поднял он голос.
И я пробормотал:
– Мой друг… Когда бы ты… был… Бог…
Ты б глупостей… таких писать… не мог…
После первого номера журнала мы выпустили только второй и прекратили издание. К чему стараться? Директор потребовал, чтобы мы больше не помещали своих рассуждений и занимались только писанием беллетристических вещей. А беллетристика в данном случае нас мало интересовала. Да и конкурентов в этой области было много: Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский. И другие всякие.
* * *Итак, журнал умер. Но идеи продолжали жить. Стрельбицкий сомневался во всем: в алгебре, в физике, в истории, в греческом языке и потому окончательно перестал учить уроки. Я же, не желая примириться с несправедливостями земного существования, решил сделаться вегетарианцем.
Быть вегетарианцем в гимназическом пансионе, где для всех готовится общая еда, оказалось не так-то легко. Во время обеда и ужина я ел только гарнир – картофель или фасоль, – да и то с предосторожностями, так как лежал он на блюде около жаркого и всегда мог заразиться мясным соком. От такого питания я стал быстро худеть, впал в уныние, но держался своих идей крепко, время от времени заглядывая в книгу Пэйо «О самовоспитании воли»22. А иногда, когда голод одолевал, ходил после обеда в молочную под «Северной гостиницей» и ел там грузинское мацони – кислое молоко.
Узнав, что я стал вегетарианцем и почти ничего не им в пансионе, директор как-то раз вызвал меня в физический кабинет, где иногда давал нам свои уроки, и стал уговаривать бросить вегетарианство и не истощать себя. Но я упорно стоял на своем, заявляя, что не желаю поедать чужие организмы.
– Хорошо, – сказал он со вздохом. – Но, ведь, ты кислое молоко ешь?
– Ем.
– Сыр ешь?
– Ем.
– Воду пьешь?
– Пью.
– Воздухом дышишь?
– Ну, разумеется.
– В таком случае подойди сюда, я кое-что тебе покажу.
Он подвел меня к столику, на котором стоял микроскоп, отрезал от заранее принесенного куска сыра тонкую пластинку, положил ее на стеклышко против объектива инструмента и сказал:
– Смотри в окуляр. Наведи только на фокус по своим глазам.
То, что я увидел в микроскоп, мне очень не понравилось. Какая-то дрянь шевелилась в сыре, съеживалась, расширялась, передвигалась.
– Все, что ты там видишь, – поучительно произнес Лев Львович, все это – бродильные бактерии, вызывающие так называемую зрелость сыра. Ну, а теперь!.. Покажу я тебе каплю воды – убери стеклышко с сыром и придвинь ко мне графин.
Капля воды меня еще более удручила, чем сыр. Здесь все поле зрения жило буквально лихорадочною жизнью. Какие-то точки, спирали, завитки, запятые, палочки – сновали взад и вперед, метались в разные стороны, сворачивались, разворачивались.
– И ведь это все – живое! – стоя рядом, наставительно говорил мне Лев Львович. – В одном кубическом сантиметре воды таких бактерий насчитывается около шести тысяч. Сколько же ты их глотаешь в день? Да что вода! А воздух? Если ты даже выйдешь за город, где нет никакого жилья, и то ты вместе с воздухом будешь вдыхать на литр воздуха не менее пяти бактерий.
Я оторвался от микроскопа и молча сидел перед столом, понурив голову.
– Ну, что? – сочувственно спросил директор. – Будешь есть мясо?
– Нет, Лев Львович. Не буду.
– Но, ведь, между мясом и бактериями принципиальной разницы нет!
– Принципиальной нет… Но когда бактерии вместе с водой и воздухом попадают мне в рот, я не виноват… Это их дело – не забираться в те вещества, которые всем нужны. Но коровы, свиньи и куры ко мне в рот сами не лезут… И я не хочу их есть.
Наступили каникулы. Насыщенный своими идеями, я поехал в отпуск, но сначала не к родителям, в Батум, а в Ахалнык, где жила одна из моих старших сестер с малолетними дочерьми и с мужем подполковником, смотрителем местного интендантского склада. Сестра в это время отсутствовала: уехала на несколько дней вместе с детьми куда-то к родственникам, и ее муж, Виктор Акимович, был очень рад моему приезду.
– Вот это прекрасно, – дружески целуя меня, сказал он. – Будем вместе коротать вечера и беседовать об астрономии.
Как и я, он очень любил астрономию, хотя она не имела никакого отношения к интендантскому ведомству.
Дом, который Виктор Акимович снимал у местного армянина, был большой, довольно приличный, но отличался огромным количеством блох. Моя сестра тщетно боролась с этими блохами, но никак не могла их вывести. В то время, кроме «персидского порошка», не убивавшего насекомых, а только раздражавшего их, никаких других средств против них не было.
Чтобы нам было уютнее беседовать на ночь, перед сном, Виктор Акимович распорядился постлать мне постель на кровати своей жены, отделенной от его кровати ночным столиком. Поужинав и посидев немного в столовой, мы отправились спать.
Откинув со своей постели одеяло, Виктор Акимович густо обсыпал персидским порошком простыню и протянул мешок с порошком мне.
– На, посыпь у себя. А то блохи заедят.
– Нет, спасибо, – твердо ответил я. – Мне не надо.
– Как не надо?
– Я не желаю их уничтожать.
– Кого? Блох?
– Да. Они не виноваты, что для своего существования им приходится кусать других.
Виктор Акимович изумленно взглянул на меня, покачал головой и, молча, положил мешок на ночной столик.
Мы легли на свои кровати и стали читать. Затем заговорили на разные научные темы. И беседа коснулась существования органического мира.
– Все это хорошо, – сказал я, выслушав рассуждения Виктора Акимовича о мудрости природы, создавшей сложный организм человека. – Но есть в этих действиях природы и ошибки. Вот, например, вопрос о размножении. Разве можно было создать человека и других млекопитающих так, чтобы они размножались бесстыдно и неприлично? То ли дело простейшие существа, которые размножаются делением. Захочется какой-нибудь бактерии иметь потомство, разделяется она просто на две части – и сын готов. Даже нельзя сказать, сын ли тут получается, или брат. А у людей – гадость. Если бы от меня зависело, я бы вообще запретил среди людей браки.
– Значит, ты не одобряешь, что я женился на твоей сестре Мане?
– Разумеется, не одобряю.
– И, по-твоему, не нужно, чтобы существовали наши детки – Надя и Туся?
– Отчего… Они очень милые. Но, лучше было бы, если бы они появились на свет путем деления или почкования.
– Ну, знаешь, брат, – возмущенно проговорил Виктор Акимович. – Ты договариваешься Бог знает до чего. Делением!.. Почкованием! Стой! Стой! Что ты делаешь? Ты бросаешь своих блох на мою кровать?