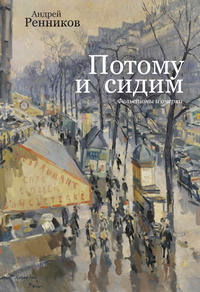Полная версия
Было все, будет все. Мемуарные и нравственно-философские произведения
Но что это такое? Нечто чуждое, диссонирующее, вдруг, ворвалось в «Сюиту». Наряду с бурей, проходившей в соль мажоре, прокатился громкий добавочный гул в сопровождении жалобного воя, построенного на несомненном миноре. Гул рос. Завывание тоже, вдруг, под фортиссимо всего оркестра, под рокот литавров, грохот тарелок, рев контрабаса, визг флейт, хроматические взлеты скрипок и под добавочный таинственный гул – все помещение актового зала дрогнуло, затряслось, люстра под потолком закачалась, стоящий в углу бюст Пушкина упал с высокой колонны…
– Землетрясение! – раздался истерический женский крик.
Оркестр смолк, внезапно остановившись на очередном ударе грома. Музыканты соскочили со своих мест. Кое-кто пытался бежать сквозь закрытую дверь в соседний дортуар. Мы, скрипачи, продвинулись к подоконнику, на который можно было вскочить в случае обвала потолка. Потеряв от страха контроль над своими действиями, я почему-то поднял к плечу скрипку, ударил по струнам смычком и стал громко наигрывать сентиментальную грузинскую песню: «Сакварело, сада хар?»9.
А в зале началась паника. Некоторые бежали, спустившись по лестнице к выходу. Некоторые жались к стенам, некоторые вышли в коридор. Архиерей, подняв руку, что-то говорил, успокаивая присутствовавших. Как мне потом рассказывали, – не знаю, правда ли это, – инспектор наш сказал своей жене: «Душечка, я принесу тебе зонтик против штукатурки» – и исчез. Учитель латинского языка Федор Дмитриевич, будто бы, стал объяснять одному из приезжих петербургских гостей, что в Тифлисе землетрясения не редки и что к ним нужно постепенно привыкать, как к неизбежному явлению природы. А про директора Льва Львовича говорили, что перепуганная губернаторша стала резко упрекать его за землетрясение, на что Лев Львович растерянно отвечал: «Простите, ваше превосходительство, но я, право, не виноват».
Увы! Бедный Кункль после этого так никогда и не дождался вторичного, полного исполнения «Лесной сюиты». Когда, впоследствии, он как-то раз в разговоре с директором заикнулся о повторении своего произведения, Лев Львович испуганно замахал руками и ответил:
– Ну, нет, дорогой! Вы мне опять испортите акт!
Иосифу Ивановичу оставалось утешаться только тем, что у Шуберта тоже была своя неоконченная симфония.
III
О жизни своей в пансионе первой Тифлисской гимназии всегда вспоминаю с приятным чувством. Хотя у нас, пансионеров, было много начальства – директор, инспектор, воспитатели, классные надзиратели, дядьки, – однако, никакого начальственного гнета мы не ощущали. Режим, установленный директором Львом Львовичем Марковым, был достаточно либеральным, без излишних формальностей. Директора все мы любили и уважали. Инспектора Обломского – тоже, особенно за его незлобивость и меланхолическое отношение к нашим проступкам.
Помню, как-то приехал я из Батума после пасхальных праздников, опоздал на два дня. Инспектор, к которому нужно было явиться, принял меня с напускною суровостью.
– Почему опоздал? – строго спросил он.
– Простите, Петр Ильич… – виновато ответил я. – Поздно приехал.
– А отчего поздно приехал?
– Опоздал, Петр Ильич.
– Ага. В таком случае, постарайся, пожалуйста, не опаздывать, когда поздно приезжаешь, и не приезжай поздно, когда опаздываешь. Иди.
Из воспитателей самым строгим был у нас Константин Петрович Найденов. Любил он распекать за каждую малейшую провинность, много шумел. Но весь этот шум обычно ничем неприятным не кончался. Найденов только любил, чтобы ему никогда не возражали.
Бывало, скажешь ему в свое оправдание:
– Но ведь это было не так, Константин Петрович…
И он взрывается:
– Что? Не так? Значит, я вру?
– Отчего врете, Константин Петрович… Но я…
– В таком случае я лжец?
– Нет, не лжец, но меня там не было…
– Следовательно, ты меня обвиняешь в клевете? Считаешь нечестным человеком? У которого нет ни стыда, ни совести? Очень хорошо! Очень мило! Прослужил я верой-правдой Царю, отечеству, Министерству Народного Просвещения тридцать лет, награжден орденом Станислава третьей степени, дожил до седых волос, а какой-то мальчишка, щенок, смеет уличать меня в искажении фактов, в недостойном поступке? Пошел вон, чтобы я тебя не видел!
Жизнь в пансионе шла по звонку. По звонку вставали, пили чай, завтракали, обедали, ужинали. В столовой во главе каждого стола сидел ученик старшего класса – седьмого или восьмого, – который должен был распределять порции и следил, чтобы младшие не шалили.
Эти функции благотворно действовали на старших учеников, делали их более солидными, серьезными, воспитывали чувство ответственности и справедливого отношения к людям. Ведь правильно распределять порции, например, делить курицу, не такая простая вещь.
Вообще, ученики старших классов считались у нас уже полу-студентами и пользовались льготами, о которых не могли мечтать младшие. Семиклассники и восьмиклассники имели право после обеда до пяти часов ежедневно выходить из здания гимназии на прогулку без всякого надзирателя, что очень льстило их самолюбию. Кроме того, раз в неделю они могли посещать по вечерам оперу или драму. А при приготовлении уроков, когда младшие собирались в общий рекреационный зал, старшие занимались или у себя в классе или в просторном помещении библиотеки.
По вечерам, перед сном, в дортуаре старших обычно было спокойно и тихо, чего нельзя сказать о дортуарах младших. Там, у малышей, часто стоял шум, организовывались битвы с индейцами, война англичан с бурами, причем подушки играли роль артиллерийских снарядов. Дежурному воспитателю стоило иногда большого труда прекратить эти военные действия и заставить сражающихся заключить продолжительный мир. Нередко наиболее изобретательные шалуны устраивали заговоры против тех товарищей, которые рано засыпали и постыдно уклонялись от участия в сражениях. Например, привязывали тонкую веревку к нижнему концу одеяла уснувшего дезертира, протягивали ее под соседние кровати, и тянули, пока одеяло не слезало со спавшего. Спавший просыпался от холода, натягивал на себя одеяло; но, когда это повторялось несколько раз, разъяренная жертва соскакивала с постели, кидалась на спавшего рядом ни в чем неповинного соседа и начинала тузить его кулаками за глупую шутку.
Или устраивали иногда «землетрясения». Кто-нибудь подлезал под кровать спящего и спиною подбрасывал кровать в воздух. Спавший в ужасе просыпался, а заговорщики, делая вид, что тоже проснулись, поднимались на своих постелях и начинали обмениваться мнениями о силе только что происшедшего землетрясения. На следующий день одураченный пансионер, рассказывая приходящим ученикам о страшном ночном толчке, удивлялся, что никто в городе этого исключительного явления природы не наблюдал.
* * *Перейдя в шестой класс, я сделался «старшим» учеником и приобрел право на ежедневные прогулки по городу после обеда.
Небольшими группами мы бродили по улицам; по Верийскому спуску направлялись к берегу Куры, где любовались быстрым бегом реки с ее жуткими водоворотами; ходили в красочную торговую часть города – на авлабар, где раздавался непрерывный шум от гортанных выкриков торговцев, от грохота и звона выделываемой посуды, от рева ослов и стука проезжающих фаэтонов. Иногда встречалась нам целая вереница таких фаэтонов: в первом сидели зурначи, услаждая слух окружающих гнусавыми и барабанными звуками зурны; в следующих – по пяти и по шести человек в каждом – развеселившиеся местные жители из простонародья, с бутылками и стаканами в руках, что-то громко восклицавшие, протягивавшие руки с наполненными стаканами в разные стороны и пившие за здоровье встречных прохожих. Это, оказывается, был свадебный кортеж, гуляние в честь новобрачных. А иногда попадались и одиночные фаэтоны, тоже переполненные пассажирами, но уже молчаливыми: мать, отец, дети, прислуга, корзины с едой, с бутылками, с одеялами, с теплыми шарфами, с грудой белья. То целая семья ехала мыться в знаменитые Тифлисские бани.
Однако самыми любимыми послеобеденными прогулками были восхождения на Давидовскую гору, подъем на которую начинался возле нашей гимназии. Добравшись до монастыря, в котором находится гробница Грибоедова, мы по тропинке отходили куда-нибудь в сторону, располагались над обрывом, откуда открывался чудесный вид на весь город, и начинали петь хором грузинские или малороссийские песни. В этих случаях я старался изображать бас, считая, что басовые ноты придают человеку солидность и вес в обществе. А когда наш репертуар хоровых вещей иссякал, начинались сольные номера. Так как я уже бывал в опере и особенно полюбил «Аиду» и «Фауста», то кое-что оттуда помнил. Стоя над обрывом лицом к целому Тифлису, я во весь свой бас начинал воспроизводить партию главного жреца:
– «Радамес! Радамес! Радамес! Оправдай себя!».
А затем, делаясь Мефистофелем, принимался заклинать цветы:
– «И вы, цветы, своим душистым тонким ядом напоите сердце Маргариты!».
Нечего говорить, как льстило моему самолюбию, когда проходившие мимо нас к монастырю набожные грузинки в испуге останавливались, стараясь узнать, в чем дело, а внизу, под обрывом, в примыкавших к горе дворах начинали неистово лаять собаки: ведь это я тот, который вызвал повсюду такое волнение!
Кончали же мы свои концерты на горе обыкновенно какими-нибудь веселыми номерами, главным образом, популярными песнями тифлисских кинто10. Например:
«Если ты мене не любишь,На Кура-река пойду,Больше мене не увидишь:Как шамайка поплыву».Или другой:
«В Муштаиде, в пять часов,Музыка игрался,Разных сорта барышняТуда-сюда шлялся».Между прочим, во время прогулок по Тифлису мы имели возможность довольно хорошо ознакомиться с нравами и повадками этих кинто, представлявших собой особый класс населения города, весьма своеобразный и любопытный. Были они мелкими торговцами разных местных национальностей, главным образом, из армян, продававшими свой скромный товар в разнос с лотков, которые носили на головах; некоторые же, побогаче, имели небольшие лавчонки, где можно было купить зелень, фрукты, молочные продукты и всякую галантерейную мелочь. Отличались они обычно веселым характером, жизнерадостностью: любили шутки, прибаутки, иногда довольно грубые – нередко подтрунивали и над собой, и над покупателями.
Правда, остроты их иногда бывали стереотипными. Если кто-нибудь из экономных покупателей просил отрезать ему небольшой кусочек сыра, или продать одно яйцо, кинто приближал к нему свое лицо и как бы по секрету с интересом спрашивал:
– Ты что? Много гостей себе позвал?
Но большей частью эти шутки и саркастические замечания оказывались все же импровизированными. Например, один из наших гимназистов как-то зашел в лавку к кинто купить небольшой арбуз.
– Скажите, пожалуйста, – спросил он, – есть у вас арбузы?
– А это что? Хурма? – ответил кинто, показывая рукой на три кучки арбузов, аккуратно сложенных у стены.
– Мне нужно за пять копеек.
– За пять там, самые маленькие.
Покупатель подошел к указанной ему кучке, стал поднимать по очереди каждый арбуз, прикладывать его к уху и сжимать, чтобы по хрустению коры определить зрелость. Перебрал он почти все арбузы и в беспорядке разбросал их по полу.
Это поведение гимназиста кинто не понравилось. Он стоял сбоку, выставив вперед свой живот, на котором выпячивалась в виде большой шишки серебряная застежка пояса, и мрачно следил за происходившими опытами.
– Послушай! – не выдержав, наконец, спросил он. – Ты что делаешь?
– А я хочу, чтобы звук хороший был, – продолжая перебирать арбузы, отвечал тот.
– Что такое? Звук? – с негодованием воскликнул кинто. – Ты за пять копеек покупаешь и хочешь, чтобы в середине духовой оркестр играл?
А однажды, во время послеобеденной прогулки по Головинскому проспекту, мы, гимназисты, наблюдали такую сценку.
Нам навстречу по улице возле обочины тротуара медленно двигался кинто с лотком на голове и время от времени громко выкрикивал:
– Свежие фиалки! Пахучие свежие фиалки!
Между прочим – все кинто очень любили называть свои товары «свежими», не только цветы и фрукты, но и все остальное. Гнали по улице гусей и кричали: «Свежие гуси!». Несли на лотках нитки, пуговицы, булавки и тоже восклицали: «Свежие нитки! Свежие пуговицы!».
– Кинто, – обратилась к продавцу шедшая впереди нас дама, – Покажи фиалки!
– Пожалуйста, мадам! С удовольствием!
Он торопливо снял с головы лоток, на котором в живописном порядке были разложены маленькие букетики, и услужливо протянул его даме.
– Не особенные! Не важные! – капризно заговорила дама, поочередно поднося к носу фиалки и пренебрежительно бросая их обратно на лоток. – Совсем старые!
– Как старые? Я сегодня их на курьерском поезде из Авчал привозил!
– Рассказывай, рассказывай. Вот этот – совсем увядший… Этот – не пахнет…
– Не пахнет? На целую версту пахнет, мадам! Спроси вон того господина, который около Дворца стоит: он скажет, что оттуда запах слышит!
– Нет, нет. Дрянь. Не надо.
Дама отвернулась от лотка и двинулась вперед. Кинто за нею.
– Барыня, купи!
– Нет, нет.
– Купи, барыня!
– Потом… как-нибудь… После!
Она ускорила шаг. А кинто остановился, вздохнул, обиженно посмотрел ей вслед и с горькой усмешкой крикнул вдогонку:
– Эх, что потом! Потом, может быть, ты уже сдохнешь!
На все местные или общероссийские события кинто откликались своеобразно. Когда в Тифлисе трамвай сменил допотопную конку, кинто стали устраивать на нем увеселительные прогулки, покупали на каждого человека по четыре места и ложились на скамейки, попивая из бутылки вино. Кондукторам и полицейским долго пришлось воевать с этими пассажирами и доказывать им, что четыре билета не дают права лежать в вагонах трамвая. А в политических вопросах кинто тоже охотно высказывали свои собственные мнения, подчас довольно любопытные.
В 1905 году летом, когда Витте ехал в Портсмут для заключения мира с Японией и когда по этому поводу в Тифлисе ходили разные противоречивые слухи, один мой знакомый спросил своего поставщика зелени старого кинто:
– Скажи, Микиртыч, как по-твоему: будет заключен мир, или не будет?
– Нет, не будет, – ответил тот.
– Так что же: снова война будет?
– Нет, война тоже не будет.
– Как так? Мира не будет, войны не будет… Что же будет?
– Телеграмм будет.
Вспоминаю я сейчас этих наших жизнерадостных остроумных тифлисских торговцев и думаю: что с ними стало со времени прихода большевиков к власти? Наверно, здравый смысл и природный юмор доставили бедным кинто немало неприятностей при переходе в условия райской коммунистической жизни.
* * *Посещение оперы было для старших пансионеров настоящим праздником. Некоторые из нас, особенно из игравших в оркестре, сделались настоящими меломанами. Казенный театр, в котором шли эти спектакли, казался нам, не видавшим еще театров в столицах и в других больших городах, верхом роскоши и совершенства.
Да и в самом деле для провинции он был очень приличен. В труппе антрепренера Форкатти11 находилось немало прекрасных певцов; выступали баритон Камионский12, тенор Секар-Рожанский13, прекрасное меццо-сопрано Петрова14. Наша группа любителей музыки хорошо изучила многие оперы; мы знали даже, в каких партиях в каких местах встречаются ответственные верхние ноты и бешено аплодировали, когда артист или артистка брали их чисто, свободно и с длительным дыханием. Вообще, во время зимнего сезона, когда студенты уезжали на север в свои университетские города, мы, гимназисты, составляли главные кадры той молодежи, которая создает обычно успех артистам. И потому наши певцы и певицы очень любили и ценили нас за нашу экспансивность, за громовые аплодисменты и за бури восторгов. Но зато горе тому, кто проявлял к нам пренебрежительное отношение, презирал и не хотел с нами знакомиться. Мы могли такому гордецу совершенно испортить репутацию, и не только свистками и воем во время спектакля, но и более жестокими мерами. Если подобный чванный субъект получал бенефис, мы приносили с собою в театр нюхательный табак, предварительно скатав его в шарики, забирались на галерку и, дождавшись наиболее выигрышной арии, сбрасывали шарики сверху в партер. Артист самоуверенно начинал петь, а публика в ответ начинала дружно чихать.
Зато любимых певцов мы единодушно поддерживали и рекламировали, где могли. Так, например, один из нас, узнав, что Камионскаго звать Оскаром Исаевичем, отвечая на уроке русского языка наизусть отрывок из «Демона», начал его так:
«И над вершинами Кавказа Оскар Исаич пролетал»
За что преподаватель Черников, сам большой любитель оперы, поставил смельчаку не единицу, а хороший балл, и вступил с ним в беседу о достоинствах «Демона» Рубинштейна.
* * *Естественно, что, разъезжаясь на праздники и на каникулы по своим глухим углам Закавказья, мы, знатоки музыки, очень страдали от отсутствия оперы. Помню, с какой величавой снисходительностью узнал я, приехав в отпуск в родной Батум, что местный музыкальный кружок ставит, наряду с концертной программой, первую картину из «Фауста».
Шел «Фауст» на второй день Рождества в «Железном театре». Этот «Железный театр» был построен из гофрированного железа в виде большого барака, имевшего довольно просторную сцену с кулисами. Отличался он той неудобной особенностью, что играть в нем можно было только в хорошую погоду. В ненастные дни дождь так сильно барабанил по железной крыше и по стенам, что не только публика не могла расслышать, о чем говорят или поют на сцене, но и сами исполнители не были в состоянии разобрать, какие крики раздаются среди слушателей. А так как Батум, по точным метеорологическим данным считается самым дождливым местом в России, то понятно, что за неимением в городе другого театра, спектакли шли здесь довольно редко: драматические актеры-любители поневоле забывали, как нужно себя держать на сцене, а самородки-певцы редко прочищали перед публикой свои голоса.
К счастью, накануне спектакля барометр стал подниматься, и потому постановка «Фауста» обещала быть очень удачной. Самого Фауста пел местный тенор – акцизный чиновник Францев; Мефистофеля – классный надзиратель только что открывшейся батумской гимназии – Чумаченко. Вместо оркестра, у расположенного в первом ряду партера рояля, сидела моя старшая сестра.
Под гром аплодисментов очень удачно, без задержек и без зацепок, плавно, бесшумно, раздвинулся занавес, – и взорам зрителей предстал таинственный мрачный кабинет Фауста.
В углу стоял жуткий настоящий скелет, взятый на день спектакля под расписку с полным перечислением ребер и других костей у местного доктора Триандафилидиса; тут же, рядом, на столике, находился большой свежий глобус, полученный Мефистофелем-Чумаченко от своего директора под честное слово, что на глобусе за время отсутствия ни одна часть света не будет повреждена и что нигде на нем не появится ни одного пятнышка в виде новых больших городов и столиц. Около другого стола возвышалось огромное кресло с высокой спинкой, за которым должен был произвести свое омоложение Фауст; а с другой стороны стола, на легком венском стуле, сидел сам Фауст-Францев, с большой седой бородой, в переделанном черном дамском капоте. Этот капот он получил от начальницы Мариинского четырехклассного училища, Марии Логгиновны Грюнер, женщины очень милой, образованной и либеральной. Она была влюблена в прогресс по Спенсеру15 и по Михайловскому16, и ее неотвязной мечтой было – как можно скорее приобщить Батум к общемировой культурной жизни.
Действие началось. Моя сестра тщательно, по-консерваторски, исполнила дрожащими от волнения руками увертюру. И Фауст приступил к изложению пережитых разочарований в науке, укоризненно поглядывая то на скелет, то на глобус, как на главных виновников своих неудач. Пел он хорошо, будучи очень музыкальным человеком. Публика притихла, с удовольствием слушала. И, вдруг, – странное дело: на сцену, из-за кулис, выскочил какой-то субъект в пиджаке, с протянутой вперед рукой, на которой висели перекинутые через нее красные панталоны, с испугом увидел певшего Фауста, бросил растерянный взгляд на зрительный зал и кинулся обратно к кулисам. И хотя таинственное появление незнакомца продолжалось всего несколько секунд, однако, некоторые старожилы среди зрителей легко узнали его: это был портной Цацкин с Мариинского проспекта. Обещав Мефистофелю принести брюки к началу спектакля, он, по обычаю очень хороших портных, опоздал, ворвался в театр через вход для артистов и заблудился в кулисах.
Впрочем, положение было спасено. Когда Францев вызвал из ада Чумаченко, тот явился, хотя и взволнованный, но полностью одетый, и, произнося свои слова «при шпаге я и шляпа с пером», с удовольствием поглядывал на свои ноги в хорошо выутюженных красных брюках с аккуратными складками спереди.
А затем началась сцена с омоложением. И вот тут-то уже произошла настоящая неприятность. Когда, прельстившись видением прекрасной Маргариты, неугомонный старик торопливо отправился за кресло с высокой спинкой сбрасывать с себя старое бренное тело, в виде капота Марии Логгиновны, и седые всклокоченные волосы вокруг головы, он очень быстро справился с этой задачей. Однако, сдирая парик и усы, забыл о бороде, радостно выпорхнул из-за кресла в образе прекрасного юноши с белым трико снизу, с голубым не то корсажем, не то камзолом сверху, бросился на авансцену и вдохновенно начал, покачивая седой бородой:
– «Ко мне возвратилась юность младая!..»
– «К тебе возвратилась юность младая!» – вступил в дуэт с ним Чумаченко, со страхом глядя на подбородок Фауста, где качался досадный пережиток исчезнувшей старости. И, приставив к своему рту ладонь, Чумаченко заглушено добавил:
– Бороду!
– «Ко мне возвратилась!..» – с упоением продолжал Фауст.
– «К тебе возвратилась…» Бороду! – настаивал Чумаченко.
Борода, наконец, была замечена ее обладателем, быстро сорвана и засунута сзади под трико. Дуэт продолжался. Но, разумеется, романтическая мистика сцены пострадала в значительной степени. Публика дружно смеялась, дети неистово аплодировали. Какой-то кинто в заднем ряду громко сказал: «Так и надо! Когда ты старик, не лезь к молодым!». А мы, тифлисские гимназисты, обладавшие изысканным вкусом, снисходительно улыбались и с презрением говорили друг другу:
– Какая провинция!
* * *Естественно, что после такого «Фауста» нам, ученикам старших классов, воспитанных на Тифлисских театрах, пришла на ум прекрасная, благородная мысль: оздоровить захудалое батумское искусство и показать местной интеллигенции, как надо устраивать художественные спектакли. Приехав после экзаменов в Батум на каникулы, мы сейчас же взялись за дело. «Железного театра» нам, к сожалению, не дали: администрация его боялась, что мы разгромим весь реквизит, поломаем мебель и повредим море и лес на декорациях. Пришлось выступать в скромном помещении греческого училища, в котором местные греки устроили для своих собраний небольшой зрительный зал с эстрадой. По протекции зал нам предоставили бесплатно, и потому со зрителей мы денег за вход не брали. Разумеется, на таких условиях спектакль прошел с аншлагом и даже хуже: толкотня в задних рядах была ужасная. Но родители и наиболее почтенные лица из местного общества получили от нас особые билеты на места в первых рядах.
Программа состояла из двух частей: сначала шло второе действие из «Ревизора» – комната в гостинице. Хлестаковым был наш семиклассник Алексеев. Осипом – я. Слугою – Миша Варшавский. Городничий и Добчинский – тоже тифлиссцы; и только Бобчинского играл кутаисец, который считался большим знатоком театра, так как его тетка была замужем за известным актером во Владикавказе.
Так как Володя Алексеев был среди нас самым старшим, два раза оставаясь в том же классе на второй год, то режиссировать «Ревизора» мы поручили ему. Однако уже на первых репетициях Володька стал держать себя высокомерно и заставлял нас по несколько раз повторять одни и те же сцены, хотя мы отлично знали свои роли и играли превосходно. Вел он себя настолько недопустимо, что мы с Мишей Варшавским тайно сговорились играть на спектакле не так, как он требовал, а как мы сами хотели. И, в самом деле, с какой стати этот второгодник будет нас учить? У него во всех четвертях по греческому и по латинскому двойки, по физике один раз была даже единица; а я – первый ученик в классе по математике, а Миша – по истории.
Согласно программе, после «Ревизора» шло второе отделение, которое мы официально назвали «Научным дивертисментом». Этот «Научный дивертисмент» должен был состоять из следующих номеров:
1. Доказательство существования центробежной силы. Опыт с ведром, наполненным водою. Исполнит С. Шанидзе.
2. Пролезание крутого яйца сквозь узкое горлышко бутылки. По Тиссандье. Исполнит А. Арафаилов.
3. Научные фокусы. Безвредное сжигание платка на глазах у почтеннейшей публики. Самостоятельный выход монеты из-под стакана. И прочее. Исполнит К. Оганезов.