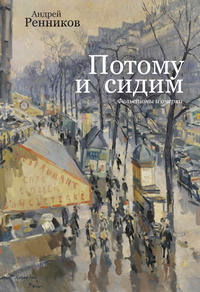Полная версия
Было все, будет все. Мемуарные и нравственно-философские произведения
– Послушайте! – напустив на себя строгость, проговорил француз. – Слезайте с окна и идите на место.
Загадочный гимназист не отвечал и не двигался.
– Послушайте, я вам говорю?
Молчание.
– Рене Робертович! – поднявшись с «Камчатки», произнес автор чучела Гладыревский. – Это новичок, переведенный к нам из Кутаисской гимназии.
– А почему он молчит?
– Он глухой, Рене Робертович.
– Но как же он учится?
– Он не учится. Он просто проходит курс.
Только тогда, когда Рене Робертович сошел с кафедры и осторожно приблизился к удивительному новичку, все выяснилось. Сняв с головы чучела фуражку, преподаватель попытался сильно рассердиться, но из его попытки ничего не вышло. Класс дружно расхохотался, а за ним и сам Рене Робертович тоже.
Я уверен, что, если бы этот милейший человек случайно стал бы тонуть в Куре, или гореть во время лесного пожара в Боржоме, мы, ученики, все, как один, самоотверженно бросились бы его спасать. Но так как Рене Робертович на наших глазах ни разу не тонул и не горел, то никто из нас этих высоких чувств к нему не проявлял, а систематически продолжал изводить его. Мухи с выдернутыми крылышками продолжали жить в наших невинных детских сердцах.
Да, действительно, – каким должен быть идеальный преподаватель, вопрос очень сложный. И, задумываясь сейчас над ним, я, пожалуй, одобряю действия одного моего старого друга, который когда-то был преподавателем гимназии. Давая свой первый урок в незнакомом ему классе, он молча взошел на кафедру, пытливым взглядом окинул стоявших перед ним мальчуганов, с любопытством рассматривавших свою будущую жертву, и, заметив в числе других учеников одного с ярко-рыжими волосами, – строго крикнул:
– Рыжий – в угол!
Класс дрогнул от неожиданности. Почему? Отчего? Наступило жуткое молчание. Изумленный рыжий покорно отправился в угол, все тихо опустились на места, соблюдая до конца урока небывалую тишину. А преподаватель, уже без всякой суровости, с ласковым выражением лица, стал излагать сущность предмета, который детям предстояло в этом году проходить. Говорил он интересно, понятно, делал любопытные отступления… И завоевал внимание всех.
А прошло месяца два-три, и между классом и учителем установились великолепные отношения. Рыжий стал одним из первых учеников. И когда этот несправедливо обиженный осмелился, наконец, как-то спросил:
– Виктор Иванович, скажите: за что вы на первом уроке поставили меня в угол?
Тот подумал и с многозначительной улыбкой ответил:
– Это оказалось необходимым по соображениям высшей педагогики.
* * *Наш учитель латинского языка – Федор Дмитриевич был странной личностью. До самого окончания гимназии мы так и не узнали, какой это человек – плохой или хороший, добрый или злой. Он никогда не сердился, но и никогда не был весел; только некоторые особенно наблюдательные ученики раза три или четыре в год улавливали на его бесстрастном лице нечто вроде улыбки. Правда, до нас доходили неясные слухи о том, что Федор Дмитриевич в частной жизни был очень оживленным и интересным собеседником, умел шутить и даже рассказывать анекдоты. Но в классе удостовериться в правдивости подобных слухов мы никак не могли. Видимо, с нами, учениками, он очень скучал, как и мы с ним. Даже самые заядлые наши шалуны не пытались подшучивать над ним в своих проказах, хорошо понимая, что он не оценит по достоинству блеска их остроумия.
Сидел он обычно за кафедрой в неподвижном положении, опустив правую руку на правое колено, левую руку на левое колено: безучастно смотрел на всех отвечавших и не отвечавших; и говорил всегда одним и тем же тоном, точно прислушиваясь к какому-то видимому камертону.
Прозвали мы его «колоссом Мемнона», изображавшего фараона Аменофиса Третьего. Этот колосс, как мы знали, при первых лучах восходящего солнца издавал особый однообразный звук. По нашему мнению, указанный звук, наверно, был похож на голос Федора Дмитриевича. Хорошо занимавшиеся ученики не боялись его, так как никогда не придирался и был справедлив. Но лентяи нередко испытывали страх, особенно в конце четверти, когда Федор Дмитриевич вызывал их и гонял по всему курсу.
Как-то раз, явившись в класс, колосс Мемнона размеренными шагами подошел к кафедре, молча сел, раскрыл журнал, положил руки на колена, и обычным безучастным голосом произнес, разделяя слова:
– Матерно. Гладыревский. Мгалобели. Исправляться!
Эти трое – Матерно, Гладыревский и Мгалобели имели в классе прочную репутацию последних учеников. К Овидию и Вергилию они относились так же равнодушно, как к Цицерону и Цезарю, а к спряжению глаголов так же безразлично, как к склонению имен существительных. В общем, все это было для них чем-то вроде икса, о котором иногда говорится в алгебре.
– Станьте передо мною полукругом, – потребовал Федор Дмитриевич.
Они разместились между кафедрой и партой, заслонив собою сидевшего там первого ученика Стадлина, всегда выручавшего их своим подсказыванием.
– Читайте, Матерно, – уныло приказал Федор Дмитриевич.
Матерно начал заданную на урок одну из «Метаморфоз» Овидия:
«Lydia tota fremit… Frigiaeque per oppida facti… Rumor it et… sermonibus occupat orbem…»7.
Он продолжал читать. Читал долго и жутко, часто спотыкаясь в произношении, повторяя слова по два раза, или пропуская их. Гекзаметр превращался у него в какой-то таинственный размер, дактиль превращался в хорей, а затем становился то анапестом, то амфибрахием.
– Довольно, Матерно, – брезгливо прекратил это тягостное чтение Федор Дмитриевич. Затем помолчал и спросил: – А скажите, Матерно: все ли слова вам известны в прочитанном?
– Все! – с решительным отчаянием ответил Матерно.
– В таком случае, Матерно, если вам все слова знакомы, скажите: что значит слово opinio?
– Opinio? – с радостным удивлением переспросил ученик. – Ну, это, так сказать, ясно… Opinio… Opinio…
Он повернул левое ухо к передней парте, где первый ученик Стадлин шепотом произносил: «мнение, мнение, мнение»… И уверенно воскликнул:
– Менее.
– Менее? – без всякого удивления ответил Федор Дмитриевич. – Нет, Матерно, opinio не значит «менее». – Гладыревский, – Федор Дмитриевич бесстрастно обратился к соседу Матерно. – Скажите! Что значит слово opinio?
– Opinio? – с участливым выражением лица, даже чуть-чуть угодливо, произнес Гладыревский. – Я сейчас… С удовольствием. Opinio значит…
Так как Стадлин находился сзади него немного правее, то он повернул к первому ученику правое ухо.
– Opinio значит – имение! – с вежливым поклоном заявил Гладыревский.
– Имение? – опять, нисколько не удивляясь, заметил Федор Дмитриевич. – Нет, Гладыревский, opinio не значит имение.
Он вытянул вперед голову, взглянул туда, где сидел подсказывавший, и не меняя тона произнес:
– Стадлин! Довольно! Я слышу, что – помощь!..
Третий из исправлявшихся – Мгалобели, сильно волновавшийся в ожидании того, что очередь отвечать дойдет до него, обрадовался случаю блеснуть своим знанием. Столкнув с места Гладыревского, горячий грузин быстро приблизился к кафедре и торжественно воскликнул:
– Да, да, Федор Дмитриевич! Я помню! Opinio значит: помощь!
– Помощь?
Федор Дмитриевич помолчал, повернул свое туловище на тридцать градусов в сторону, чтобы быть лицом к лицу с Мгалобели, уставился на него рыбьими глазами и холодно отчеканил:
– Нет, Мгалобели. Opinio не значит – помощь. Помощь хуже, чем менее и имение!
* * *Полной противоположностью Федору Дмитриевичу был маленький добродушный, веселый и подвижной Матвей Андреевич, один из воспитателей нашего пансиона, преподававший в младших классах рисование и дававший желавшим учиться живописи уроки в рисовальном классе. Здесь, в рисовальном классе, среди копий с лучших произведений классических скульпторов, он читал иногда нам, пансионерам, интересные лекции о древнегреческой и римской мифологии.
Будучи с нами, учениками старших классов, в дружеских отношениях, Матвей Андреевич однажды под страшным секретом сообщил нам, что директор Лев Львович, особенно покровительствовавший рисовальному классу и стремившийся обогатить его новыми образами классического искусства, выписал из Петербурга статую дискобола.
– Вот, смотрите, какая это прекрасная вещь, – воодушевленно начал рассказывать Матвей Андреевич, показывая нам фотографический снимок со статуи. – Дискобол, как вы знаете, – метатель дисков. В древности подобный спорт очень любили. Знаменитый Дискобол из бронзы, сделанный знаменитым скульптором Мироном, был утерян. Но на Эсквилинском холме в Риме археологи нашли вот эту самую копию с миронова дискобола, и сейчас она находится, в Риме во дворце Массимо… Вы видите, какая пропорциональность частей тела? Он согнулся, намереваясь бросить диск, но какое равновесие во всей фигуре! Одна рука охватывает диск. Другая придерживает ногу для усиления упора… Какая художественная напряженность мускулов!
– Да, действительно… – не совсем разбираясь во всех этих красотах, бормотали мы. – Интересно…
– Только, смотрите, господа, – тревожно добавил Матвей Андреевич, – не выдавайте меня. Лев Львович сам мне не говорил, что выписал Дискобола. Я со стороны это узнал. Очевидно, он хочет мне сделать сюрприз. Уже на днях Дискобол должен прибыть к нам!
Указанное секретное сообщение произвело на нас очень сильное впечатление. Но не потому, что мы обрадовались новому украшению рисовального класса, а потому, что почувствовали здесь возможность сыграть какую-нибудь новую милую шутку с любимым Матвеем Андреевичем. Вопрос только состоял в следующем: какую именно?
И вот, вечером, на собрании, в спальне, ученик Ерицев, самый великовозрастный из нас, первый ученик по гимнастике и последний по математике, вдруг предложил:
– Господа! Хотите, я буду дискоболом?
– Ты? Дискоболом? А как?
Все вонзились в него любопытными взглядами.
– Как? А вот как. Очень просто. Вы знаете, что в рисовальный класс ведут две двери: одна со двора, другая – отсюда, из нашего дортуара. Ключи обычно находятся у Матвея Андреевича в кармане пальто. Послезавтра, когда он будет дежурным, мы после обеда украдем у него ключи, откроем отсюда дверь, а я, голый, пройду в рисовальный класс и стану там в таком виде, как мы видели на рисунке. Нужно только взлезть на какую-нибудь подставку… А когда все будет готово, вы запрете дверь на ключ, пойдете к Матвею Андреевичу и расскажете, что видели, как директор вместе с носильщиком, тащившим ящик, подошел к рисовальному классу со двора, отпер дверь и пробыл там некоторое время. А затем вышел с носильщиком, у которого уже не было ящика, запер дверь на ключ и ушел.
– Так, так… – лихорадочно поддакивали мы. – Ну, а потом?
– Ну, а потом Матвей Андреевич начнет искать в пальто ключи, не найдет, и вы его приведите сюда, в спальню. Здесь он может заглянуть в рисовальный класс через круглое окошечко, которое находится в верхней части двери. А когда через окошко он налюбуется Дискоболом, посоветуйте ему отправиться домой за ключами, которые он, наверное, там забыл. И пока он будет в отсутствии, вы меня выпустите. Ключи же мы ему как-нибудь после положим обратно в карман.
План Ерицева показался нам гениальным. Когда наступил знаменательный день демонстрирования Дискобола, вся наша группа находилась в необычайном волнении. Кое-как прошли уроки. Кто-то из заговорщиков за невнимательность получил единицу. Томительно долго тянулся пансионный обед, с его традиционными борщом, битками и печеными яблоками… И вот пробило четыре часа, когда надо было уже начать действовать.
Все мы собрались тайком в дортуаре, где днем не разрешалось проводить время. Ерицев догола разделся, удовлетворенно осмотрел свои ноги, которые накануне побрил, взял в руку украденную на кухне сковородку без ручки, заранее тщательно очистив ее от копоти, и деловым шагом направился в рисовальный класс. Осторожно взобравшись на постамент, освобожденный нами от Венеры Милосской, переставленной на подоконник и вызывавшей тревогу прохожих за чистоту нравов нашей гимназии, Ерицев стал спиною к окну, чтобы лицо его было в тени, взял в одну руку сковородку, другою рукою коснулся ноги пониже колена и замер в такой позе.
– Хорошо? – деловито спросил он.
– Чудесно! – восторженно ответили мы хором.
– Пропорциональность есть?
– Есть!
– Напряжение мускулов видно?
– Видно!
Мы покинули дискобола, заперли на ключ дверь и торопливо направились к Матвею Андреевичу, который сидел у себя в дежурной комнате и перечитывал «Мифы классической древности» Штолля8.
Сенсационное сообщение о тайном визите директора в рисовальный класс вместе со статуей привело нашего любимца в неописуемое волнение. Правда, сначала он не поверил. Но увидев на наших лицах ту глубокую искренность и ту чистосердечную простоту, которая свойственна только невинной детской душе, – засуетился, забегал по комнате, забормотал, и затем начал нервно смеяться.
– Значит, правда… Сюрприз!.. Удивить хочет… Шутник!..
Дальше все произошло почти так, мак мы предвидели. Не найдя в кармане пальто ключей, Матвей Андреевич отправил одного из нас к себе на квартиру, предполагая, что по рассеянности забыл их дома. А сам вместе с нами быстро направился в дортуар, приставил у двери рисовального класса стул, взобрался на него и прильнул лицом к окошечку.
Уже приближались ранние зимние сумерки. Солнце склонялось к горизонту. В огромной комнате, загроможденной столами, стульями, классными досками, статуями, слепками, шарами и пирамидами для первоначального обучения рисованию с натуры, – протягивались длинные тени. И тут, в игре света и теней, по соседству с Венерой и огромной головой Зевса Олимпийского, созданного бессмертной рукой Фидия, в застывшей позе стоял он, наш Дискобол, заранее предупрежденный стуком в дверь, что Матвей Андреевич приближается.
– Замечательно! Великолепно! – радостно бормотал наш ценитель искусства, ерзая носом по стеклу и время от времени поворачивая к нам счастливое лицо. – Хотя это копия, но я чувствую дыхание гениального Мирона!
– Да, он дышит, – чистосердечно согласился один из нас, ближе всех стоявший к стулу Матвея Андреевича.
– Одно жаль, – продолжал восторженный поклонник Мирона, – что здесь гипс соединен с каким-то составом, который делает изваяние слегка темноватым. Хотя я видел, например, во время поездки в Германию в мюнхенской Глиптотеке несколько фигур…
Матвей Андреевич не окончил фразы и замер на месте. На лице выразился испуг. Глаза, слегка выдвинувшись из орбит, неподвижно уставились в противоположный конец дортуара.
– Вы что тут делаете, господа? – послышался удивленный голос директора. Увидев, как преподаватель читает лекцию, стоя на стуле, Лев Львович медленно подошел и внимательно оглядел нашу группу.
– А! Это вы… Лев Львович… – виновато улыбаясь, забормотал Матвей Андреевич, неуклюже слезая со стула. – А мы тут любуемся… Дискоболом…
– Каким Дискоболом?
– Хе-хе… Я уже знаю: сюрприз, Лев Львович… Сюрпризик!..
– Сюрпризик? Дискобол? Где?
– А вот там… Извольте посмотреть… В это окошечко…
Директор изумленно взглянул на подобострастно изогнутую фигуру преподавателя и опустил руку в карман.
– Ничего не понимаю. Погодите… Где ключи? А, вот.
Он вставил ключ в замочную скважину, толкнул дверь в рисовальный класс и вошел. Матвей Андреевич со смущенно-хитрой улыбкой, семеня ножками, двигался за ним. А мы, ошеломленные, подавленные, не знали, что предпринять. Бежать? Но поздно. Директор все равно всех видел. Да и кроме того, нечестно оставлять в беде товарища.
Увидев Дискобола на месте Венеры Милосской, пораженный директор боязливо стал к нему приближаться. Матвей Андреевич тоже. Мы со страхом толпились у двери.
И, вдруг, Дискобол выпрямился. Рука, упиравшаяся в ногу, поднялась кверху. Другая – разжалась, отбросив в сторону сковородку, со звоном покатившуюся под Зевса Олимпийского. И мощная фигура древнего атлета пружинисто метнулась вперед, пролетела мимо директора и исчезла, проскочив в открытую дверь дортуара.
– Ерицев? – узнав Дискобола, строго спросил Лев Львович Матвея Андреевича:
– Ерицев! – тоже узнав Дискобола, уныло ответил Матвей Андреевич Льву Львовичу.
В мои времена в карцер уже не сажали. Взамен этого самозванец-дискобол был приговорен к лишению отпуска на рождественские праздники. Нам же, его соучастникам, сбавили в четверти балл за поведение.
* * *Среди преподавателей упомяну еще одного очень интересного и красочного человека – учителя музыки, чеха Иосифа Ивановича Кункля.
В конце прошлого столетия и в самом начале нынешнего в наших русских гимназиях находилось немало чехов, главным образом в качестве учителей греческого и латинского языков. Почему это – затрудняюсь сказать. Возможно, что в силу симпатий правительства и общественных кругов к младшим братьям славянам. Обычно чехи были весьма добросовестны, хорошо знали предмет, но, к сожалению, часто русский язык был им известен значительно хуже, чем греческий или латинский. Мне рассказывали, например, про одного что, разбирая текст с рассказом о том, как воины варили себе пищу на кораблях, он переводил: «На корабле поднимался дым от пищеварения».
Иосиф Иванович давал уроки музыки желающим по вечерам и создал из учеников недурной «симфонический» оркестр, которым наш директор очень гордился. И, действительно, на ежегодных актах этот оркестр удивлял многочисленных почетных гостей своей сыгранностью и своим бойким исполнением таких номеров, как увертюра к «Дон Жуану» Моцарта, интродукция к опере «Норма» или «Приглашение к вальсу» Карла Марии фон Вебера.
Я участвовал в оркестре в качестве одной из первых скрипок и регулярно посещал вечерние занятия Кункля. Собирались мы группами – по очереди, игравшие на струнных инструментах и на духовых. Только Иосиф Иванович, к сожалению, был очень словоохотлив и уроки сильно затягивал. Особенно много времени уходило у него на анекдоты, которыми он любил щеголять.
– Хотите анекдот? – спрашивал он, когда все мы, «струнные», были уже налицо. И, не ожидая ответа, рассказывал:
– В школе учитель спрашивает ученика: Карл, скажи, которых ты знаешь животных безпозвоночников? – Червичэк, господин учитель. – А еще какого ты знаешь безпозвоночника? – Еще один червичэк, господин учитель. Ха-ха-ха!
И Иосиф Иванович сам начинал хохотать, давая понять, что анекдот окончен.
– А вот еще. В церкву приходит один человек и видит – кругом пусто. Тогда он спрашивает того, который продает свечку: скажите, пожалуйста, почему в церкве никого нет? – Потому нет, – говорит тот, – что никто не пришел. Ха-ха-ха!
– Ха-ха-ха, – снисходительно соглашались мы со смехом Иосифа Ивановича.
Несмотря на свою жизнерадостность, Кункль, однако, долгое время испытывал в душе тяжкую драму. Вот уже три года, как написал он для нашего оркестра прекрасную симфоническую картину – «Лесную сюиту», в которой изображаются все звуки леса. Не хуже, чем в «Лесном шепоте» Вагнера. Кроме того, в этой сюите происходит и буря вместе с грозой, тоже не слабее, чем в «Пасторальной» симфонии Бетховена. Между тем, пренебрегая всеми достоинствами сюиты, директор никак не желал, чтобы это произведение было исполнено на акте. Долго мучился бедный Иосиф Иванович, терпя незаслуженное оскорбление. И, вот, однажды, на четвертый год, когда я был уже в седьмом классе, Иосиф Иванович как-то раз вбежал в класс, радостно-возбужденный и торжественно объявил, что на предстоящем акте будет исполняться «Лесная сюита». Директор разрешил.
Все мы искренно обрадовались за Кункля и добросовестно приступили к разучиванию своих партий. Иосиф Иванович на репетициях сильно волновался и нервно растолковывал всем, что их инструменты должны изображать. Мы, первые скрипки, обязаны были особенно подчеркнуть рисунок мелодии, которую, сказать по правде, трудно было уловить, несмотря на закатывание глаз и приседания автора. Дирижировал Кункль вообще очень темпераментно. Иногда вытягивался во весь свой рост, требуя от нас форте или фортиссимо; иногда опускался, подгибая худощавые ноги, и чуть ли не садился на корточки, когда нужно было перейти на нежное пианиссимо. А на бритом изможденном лице его отражалась вся многогранность темы каждого значительного произведения. Окруженные веером морщин глаза его, выражали попеременно, то нежную сладость, то глубокую печаль, то буйный протест, то покорное подчинение судьбе.
Во время репетиций «Сюиты» Иосиф Иванович особенно долго бился с двумя флейтистами, которые никак не могли понять, что от них требуется.
– Это птички поют, понимаете? – восклицал Кункль. – Делайте, как птички! Пойте!
– А как же я могу петь, когда у меня рот занят? – ворчливо отвечал один из них.
– Не вы должны петь, а флейта! Она у меня птичка!
Точно так же много хлопот было у Иосифа Ивановича с нашим дискоболом Ерицевым, игравшем на контрабасе. Ерицев очень любил свой инструмент, но любил не за его звуки, а за величину. Будучи одним из самых высоких учеников в гимназии, он выбрал контрабас, как инструмент более всего подходящий к его фигуре. Кроме того, только на контрабасе, во время фортиссимо, он мог показать всю мощь и игру своих мускулов.
– Тише, Ерицев! – умолял Кункль. – Вы должны показывать не кричание тигра, а шороховатость листьев в лесу.
И, вот, наступил, наконец, счастливый для Иосифа Ивановича день. День, когда весь высший свет Тифлиса должен услышать его «Лесную сюиту». И, действительно, на акт по обычным специальным приглашениям собрались – представитель Экзарха Грузии – архиерей Грузинской епархии; генерал – представитель Главноначальствующего; губернатор с супругой; вице-губернатор с супругой; председатель Судебной палаты; председатель Окружного суда; командиры стоявших в Тифлисе полков; городской голова, члены управы, высшие чиновники; редактор «Тифлисского листка» и многие другие выдающиеся люди Закавказского края. В первом ряду, рядом с директором, сидели: справа – архиерей, слева – представитель Главнокомандующего и губернатор с супругой. Остальные были размещены сообразно с их рангом и положением в обществе.
Сначала прошла часть официальная. Мы сыграли «Боже Царя храни». Затем, в перерыве, директор подошел к Кунклю и шепотом спросил: проверил ли он швы своего фрака и брюк? Этот вопрос не был праздным, так как в позапрошлом году на акте произошел, в самом деле, весьма прискорбный случай: во время исполнения интродукции к «Норме» Кункль при переходе оркестра от форте на пиано напряженно нагнулся к оркестру, присел, фалды фрака раздвинулись, задний шов брюк разошелся, и Тифлисскому высшему свету открылась та тайна, что наш дирижер носит не белое нижнее белье, а голубое, с полосками.
Получив от Кункля успокоительное заверение, что жена его вчера тщательно закрепила все швы, директор вернулся на свое место, дал знак начать музыкальную программу, – и Иосиф Иванович поднялся на помост, где стоял пульт.
Мы, исполнители, конечно, все были готовы. Виолончелисты, как полагается, сидели против дирижера, прочно обняв ногами свои инструменты; первые скрипки расположились справа, вторая – слева. А сзади разместились деревянные и медные, за которыми горделиво возвышалась фигура Ерицева, одной рукой опиравшегося на огромный гриф контрабаса, другой рукой мощно сжимавшего упругий смычек.
Кункль постучал палочкой, поднял ее вверх, опустил, – и «Лесная сюита» началась. Первые скрипки в нежном пиано повели незамысловатую, но полную романтизма кантилену; вторые скрипки аккомпанировали первым, в тихих переливчатых звуках передавая лепет свежей листвы; флейты время от времени проходили по этому фону зигзагами нот, изображая пение и щебетание птиц; кларнет в одной и той же терции повторял однообразное кукование кукушки; легкое трение медных тарелок воспроизводило звуки цикад; а контрабас Ерицева сдержанным хрипом смычка давая шуршание опавших листьев, которыми играл, налетавший время от времени, ветерок.
Зал притих. Несомненно, «Сюита» производила на него впечатление. Представитель Главноначальствующего, склонившись к директору, одобрительно что-то шептал, на что директор отвечал почтительным кивком головы, не отводя, однако, тревожного взгляда от Кункля и его панталон. Архиерей, видимо, тоже был доволен, любовно поглядывая на оркестр и удовлетворенно разглаживая бороду.
Но, вот, в нежную лесную идиллию неожиданно врывается тревожный рокочущий звук литавр. Это – отдаленный гром, предвещающий приближение грозы. Контрабас зашуршал листьями сильнее, постепенно переходя к треску сучьев и к обламыванию сухих ветвей. Флейты бросили птиц и засвистали порывами визгливого ветра. Наконец, раздался неистовый грохот медных тарелок. В каденциях скрипок сверкнула ослепительная молния…
Кункль всем своим существом ушел в эту грандиозную бурю, лицо его дышало искренним вдохновением. Глаза лихорадочно метались от одних инструментов к другим, магическая дирижерская палочка исступленно носилась в воздухе. Иосиф Иванович был поистине счастлив, ощущая, что вся разыгравшаяся в зале стихия – создание его собственного, личного творческого духа.