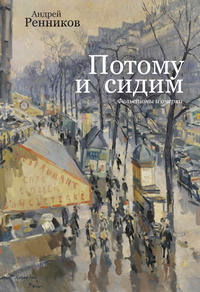Полная версия
Было все, будет все. Мемуарные и нравственно-философские произведения
– Разве? Я ловлю их и кидаю на пол…
– Ну, да! Я давно слежу. Хорош вегетарианец! Блох жалеет, а человека – нет? Свинство! Туши лампу и засыпай! Довольно разговаривать. Я устал.
На следующий день вечером Виктор Акимович не остался со мной, а ушел в гости. Через день – опять. Я пробыл у него вместо недели только три дня и уехал в Батум.
Вся наша семья уже жила на даче, на Зеленом мысу, а отец еще оставался в городе. После своей неудачной деятельности в качестве преподавателя Тифлисской гимназии, он подготовился к государственному экзамену по юридическому факультету, ездил в университет держать этот экзамен экстерном, сделался юристом и был теперь присяжным поверенным, батумским городским юрисконсультом.
Чтобы отцу не было скучно одному, я решил прожить с ним в городе несколько дней, а потом поехать на дачу. Но, к сожалению, у нас с ним в первый же день произошло идейное столкновение.
Пили мы утренний чай с традиционными турецкими бубликами. Жара в эти дни стояла страшная. Масло на столе таяло, превращаясь в полужидкую желтоватую массу. Над столом вились мухи, садясь не только на масло и сыр, но и на наши лица и руки.
– Боже, как они мне надоели! – раздраженно воскликнул отец, хлопнув себя ладонью по лбу. – Это невыносимо!
– Да, они стараются, как могут, – многозначительно подтвердил я.
– Обязательно надо купить липкой бумаги, – продолжал он. – А у меня столько дел, что не до того. Может быть ты купишь сегодня, когда пойдешь в город.
– Я?
– Да. А что?
Отец с удивлением посмотрел на меня. Я сидел, гордо подняв голову, и пренебрежительно улыбался.
– Извини, папа, но согласно своим взглядам я липкой бумаги покупать не могу. Мухи не виноваты в том, что родились мухами. Каждое существо имеет право на существование.
– Да, но они – паразиты!
– Паразит с греческого – живущий на чужом организме. Пара дзоон. А так как мы все питаемся чужими организмами, то мы с тобой тоже паразиты.
– Как? – Отец вскочил с места. – Что ты сказал? Я – паразит?
– Да. Паразит.
– Вот что? В эту проклятую жару я работаю, изнываю, жарюсь в раскаленной печи, чтобы дать вам всем возможность прохлаждаться на даче, а ты… Сегодня же уезжай на Зеленый мыс! Забирай свой чемодан!
Мне искренно было жаль отца. Он меня очень любил. Я его – тоже. Кроме того, я знал, что у него всякие недомогания, особенно в области печени. Но причем печень, когда дело касается принципов? И я уехал на дачу.
Мать, сестры и братья радостно встретили меня. А особенно радовалась моя кормилица – грузинка Дзидза. Узнав, что я стал вегетарианцем и разобравшись в том, что это значит, она сначала расплакалась, а затем пошла на кухню просить повара отдельно готовить мне овощи, рисовые и картофельные котлеты.
Несколько дней прошло благополучно. Все было мирно и тихо. Но постепенно у меня с братьями и сестрами начались кое-какие расхождения. Со старшим братом я, правда, не поссорился. Когда я начинал убеждать его, что носить воротнички – глупая условность, а манжеты – тем более, – он спокойно говорил мне: «убирайся к черту», и все кончалось благополучно. Но с младшей из старших сестер дело вышло сложнее. Она любила развлекаться, наряжаться и ходить в гости к соседним дачникам.
– Ты опять в новом платье? – зловеще спрашивал я, видя, как она прихорашивается перед зеркалом.
– Да. А что? Нравится?
– Позор! Каждому философу ясно, что ты меняешь свое оперение для сексуального привлечения мужчин!
– Как ты сказал? Сексуального? – вспыхнув от негодования, восклицала сестра. – Ах ты, поганый мальчишка! Пошел вон!
– Мне не трудно уйти. Но оттого, что я уйду, ты не станешь нравственнее. Что это за декольте? А короткие рукава? Соблазнять собираешься? Развратница!
Придерживаясь подобных строгих моральных убеждений, я, естественно, презирал всех девчонок – гимназисток и институток, живших на Зеленом мысу, и старался с ними не встречаться, хотя какая-то тайная сила и влекла меня к ним. Нередко некоторые из них приходили к нам в гости со своими родителями, и мне в подобных случаях было как-то не по себе.
С одной стороны, видеть их и быть вблизи – очень приятно. Хотелось бы, чтобы они оставались как можно дольше. Но, с другой стороны, мои идеи подсказывали мне, что я не должен поддаваться подобному низменному ощущению, а наоборот, обязан давать ему решительный отпор.
Приходила, например, к нам институтка Катя, очень хорошенькая, приехавшая к своим родителям на каникулы из Петербурга. По правде сказать, она мне очень нравилась. Да и ко мне она, кажется, вначале тоже питала симпатию. Это я угадывал по дьявольски-коварному выражению ее глаз. Но опасность увлечения настолько пугала меня, что я дал себе слово разговаривать с Катей только на научные темы.
Однажды мы с нею сидели под магнолией на скамейке около нашей дачи. Она усиленно кокетничала, томно вздыхала. Я чувствовал, что сейчас может наступить роковой момент объяснения… И все мое мировоззрение рухнет. Поэтому нужно было собрать в себе все свои силы для сопротивления соблазну.
– Ну, скажите же мне что-нибудь очень-очень хорошее! – ласково произнесла вдруг она, приближая ко мне свое лицо. – Такое хорошее, о котором никто бы не знал в мире, кроме нас двоих!
– Хорошее? – с усилием нахмурившись, переспросил я. – Очень хорошим может быть только вечно-истинное.
– Например?
– Например – квадрат суммы бинома: квадрат первого, плюс удвоенное произведение первого на второе, плюс квадрат второго. Или, вот: квадрат, построенный на гипотенузе, равен сумме квадратов, построенных на катетах.
Она опустила голову, помолчала и грустно спросила:
– Скажите… А правду говорят, что вы – философ?
– Да, правду, – скромно согласился я.
– Ну, а философы… Могут в компании с кем-нибудь ходить на прогулки? В лес, или вдоль железной дороги?
– Да, перипатетики гуляли, но всегда вместе со своим учителем Аристотелем. А вообще философ должен гулять один. Особенно – без женщин.
После этого обиженная Катя стала избегать встречи со мной и часто делала вид, что не замечает меня. Постепенно все остальные институтки и гимназистки тоже объявили мне молчаливый бойкот. Но я был горд собой. Бог с ними, с девчонками. Пустой и глупый народ, не понимающий смысла бытия. Недаром в истории человечества не было ни одного знаменитого философа-женщины!
Прожил я так на даче около месяца, читая серьезные книги и слегка проповедуя свои идеи среди родных и знакомых. И, вот, произошел случай, когда мне сильно пришлось пострадать за правду.
В одно из воскресений сидели мы утром на балконе и пили чай. Дача наша находилась на холме, и нам видна была внизу железнодорожная платформа, у которой останавливались дачные поезда.
– Сейчас должен прийти девятичасовой поезд из города, – тревожно сказала моя мать. – Боюсь, кто-нибудь приедет в гости и помешает мне рассаживать цветы на клумбе.
– Мне тоже будет обидно, – добавила старшая сестра. – Я хотела сегодня разучивать «Карнавал» Шумана.
Через несколько минут, действительно, недалеко, за поворотом, свистнул локомотив.
– Андрей, принеси свою трубу и посмотри на платформу, приехал ли кто-нибудь к нам.
Я не любил таких просьб. Моя подзорная труба служила мне для исследования неба, для рассматривания спутников Юпитера, фаз Венеры и колец Сатурна, а вовсе не для отыскивания на платформе батумских знакомых. Но я ничего не возразил и мрачно пошел за трубой.
Многочисленная праздничная публика высыпала из поезда. Мелькали заманчивые светлые дамские платья. Поблескивали офицерские погоны и пуговицы. Раздвинув треножник, я медленно водил трубой, разглядывая платформу от одного края до другого.
– Ну, что? – со страхом спросила сестра.
– Мария Логгиновна приехала, – бесстрастно ответил я.
– Мария Логгиновна? – испуганно воскликнула мать. – Боже мой! Опять! Это просто несчастье!
– Какой ужас! – добавила с отчаянием сестра. – Ее придется до позднего вечера занимать!
– А еще, – с садическим равнодушием продолжал я, – вместе с нею Елена Александровна и Миля.
– Как? Все? – Мать от негодования даже вскочила. – Но, ведь, они всей семьей в прошлое воскресенье были! О чем они думают?
Я отнес трубу и вернулся на балкон. От станции к нам нужно было подниматься по зигзагам тропинок. Грузной Марии Логгиновне этот подъем был труден, и она добралась до дачи только через двадцать минут. Мы втроем – мать, сестра и я – стояли возле клумбы. Перед балконом, когда она, тяжело дыша и отдуваясь, показалась у края площадки в сопровождении своих дочерей.
– Мария Логгиновна! Дорогая, – радостно воскликнула моя мать, быстро направляясь к гостям. – Какой приятный сюрприз! Как я рада! Пожалуйте, пожалуйте…
– Душечка Елена Александровна! – со счастливой улыбкой суетилась вокруг гостей сестра. – И вы приехали… И Миля… Как хорошо! Вместе чудесно проведем время!
– Да, я уж своих друзей не забываю, – в промежутках между утихающими приступами одышки, бормотала Мария Логгиновна. – Уж если кого люблю, то люблю по-настоящему.
Эта сцена, с точки зрения моей концепции мира, показалась мне чудовищной. До какой фальши могут дойти люди в своих взаимоотношениях, если никто не будет руководить ими и указывать на ложь светских условностей?
Я стоял сбоку, со зловеще-иронической улыбкой, слушал все эти излияния с обеих сторон. И когда дамы смолкли, заговорил:
– Странно, странно! Как же это так, мама? Вы с Верой только полчаса тому назад при мне говорили, узнав о приезде Марии Логгиновны, что это несчастье, что это – ужас. Что Мария Логгиновна и Елена Александровна будут вам мешать целый день… А теперь что? «Какой приятный сюрприз? Как я рада? Дорогая? Душечка? Чудесно проведем время?» Когда же вы говорили правду: тогда или теперь?
– Какие глупые шутки! – весело произнесла мать. – Ступай лучше к себе. Он, бедный, совсем переутомился во время экзаменов, – обращаясь к Марии Логгиновне, добавила она. – Идемте, господа, на балкон, угощу вас чаем. А в двенадцать будем завтракать.
Приблизительно через час, попросив Веру проводить гостей в сад и показать им новый вид розовых гортензий, моя мать быстро направилась ко мне, распахнула дверь моей комнаты и вошла внутрь. Я сидел в кресле и читал «Астрономические вечера» Клейна.
– Так вот ты как? – гневно воскликнула она. – Позорить меня вздумал? Ссорить с друзьями? Негодяй! Вон из моей дачи! Сию минуту! Чтобы духу твоего не было!
– То есть, почему это?..
– Без разговоров! Забирай трубу, скрипку, вещи и отправляйся на пустую дядину дачу! Дзидза будет тебе приносить еду. А сюда не смей показываться! Дзидза! – крикнула она в открытую дверь. – Отнеси на дядину дачу чемодан этого господина!
Дача моего дяди в этом году оставалась пустой, так как он на каникулы уехал со всей семьей из Тифлиса в Боржом. Эта дача находилась по соседству с нашей, но еще выше, и вид оттуда был чудесный во все стороны. Я с удовольствием поселился в ней, превосходно чувствуя себя не только в качестве отшельника, но и героя, жестоко пострадавшего за борьбу с ложью. И из головы моей не выходили строки прекрасного стихотворения Пушкина, которые я очень любил:
«Ты царь: живи один. Дорогою свободнойИди, куда влечет тебя свободный ум».Днем я гулял или читал, а по вечерам смотрел в трубу на звездное небо, или играл что-нибудь наизусть на скрипке, выйдя на балкон дачи. Особенно любил я второй ноктюрн Шопена. Мне приятно было сознавать, что этот ноктюрн слышат на соседних дачах все гимназистки и институтки, а между ними и Катя, – и понимают, что я их всех презираю.
Кормилица Дзидза каждый день аккуратно приносила мне вегетарианскую еду и с глубокой жалостью смотрела на меня, утирая слезы. Нередко упрекала она меня за ссору с матерью, уговаривала пойти к ней и попросить прощения.
– Ни за что! – твердо отвечал я.
– Но она твоя мать! – настаивала Дзидза. – Она тебя родила!
– Я не просил ее рождать! Она сама захотела!
– Вай ме деда23, что он говорит! Ты, бедный, совсем стал дурак. Ей-Богу. А прежде, маленький, такой был умный!
– Иди, иди. Не рассуждай.
Однажды, перечитывая книгу Пейо о самовоспитании воли я придумал сделать себе необычный костюм – вроде одежды монаха – и в таком виде гулять по Зеленому мысу. Это будет удивлять всех, вызывать насмешки, а я буду гордо проходить мимо и не обращать внимания. По словам Пейо, ничто так не воспитывает волю, как пренебрежение к несправедливым нападкам ближних.
Я попросил Дзидзу сшить мне из парусины от наших старых балконных занавесок нечто вроде длинного балахона с пуговицами впереди. Думая, что я буду этот балахон носить на даче, Дзидза согласилась. И, вот, когда я в первый раз появился на дорогах нашего дачного местечка в этом наряде, с широкополой соломенной шляпой на голове, с высоким белым посохом из ствола очищенного от коры орешника в руке, – эффект получился необычайный.
Прохожие останавливались и долго смотрели мне вслед. Барышни хихикали. Некоторые старушки на всякий случай осеняли себя крестным знамением. А я невозмутимо шел вперед и ликовал. Моя воля выдерживала все!
И какое самоудовлетворение испытал я, когда однажды в таком виде отправился на станцию встречать дачный поезд! И встречавшие, и приехавшие смотрели исключительно только на меня. А машинист паровоза, вблизи которого я стоял, свесился со своего места и удивленно спросил кого-то, находившегося на платформе:
– Скажите: кто это такой?
И тот ответил:
– Этот? Да разве не знаете? Это – сумасшедший с дачи Селитренниковых.
Сумасшедший! Как мне было приятно в тот момент чувствовать, насколько я выше всей этой жалкой, ничего не понимающей ничтожной толпы!
* * *Смотрю я сейчас назад, вглубь ушедших десятилетий, вспоминаю несносного неистового мальчишку, отравлявшего жизнь своим родным, внушавшего тревогу своим знакомым, и думаю: я ли это? Неужели? И, все-таки – слава Богу, что одержим я был тогда идеями не политическими. А то вышел бы из меня незаурядный бомбометатель, преобразовывавший государственную и социальную жизнь человечества путем убийства городовых.
Впрочем, и при своих невинных в политическом смысле идеях я едва не лишился возможности попасть в университет. Когда я окончил гимназию, мой классный наставник Федор Димитриевич послал в университетскую инспекцию, как полагалось тогда, мою «характеристику». И в этой характеристике написал:
«Вольтерианец, вегетарианец и играет на скрипке». К счастью, директор Лев Львович, заранее прочитав этот отзыв и увидев, что из-за «вольтерианства» меня не примут в университет, решил спасти меня и сделал к характеристике Федора Димитриевича приписку:
«Не согласен с мнением классного наставника. Это – юноша благонамеренный, политикой не занимается и может быть полезным слугою Царю и Отечеству».
Спасибо милому Льву Львовичу. Царствие ему Небесное.
«Возрождение», Париж, ноябрь 1955, № 47, с.43-52; январь 1956, № 49, с. 103-114; февраль 1956, № 50, с. 89-100; апрель 1956, № 52, с. 86-98.Минувшие дни
Вместо предисловия
Некоторые из друзей настойчиво советуют мне написать мемуары. Мотивируют они эти советы тем, что на своем веку немало встречал я интересных людей, много пережил всевозможных событий.
А помимо того, по их мнению, я уже вполне созрел для занятий воспоминаниями. Печень у меня не в порядке; подагра иногда дает о себе знать; а склероз нередко показывает, что достаточно умудрен я жизненным опытом.
Словом, друзья полагают, что мне уже пора не жить, а вспоминать о жизни.
Сначала я, было, заколебался. А в самом деле, не приняться ли за это занятие? Каждому человеку лестно во всеуслышание рассказать о своем детстве, отрочестве, зрелых годах; указать, каким вдумчивым, впечатлительным ребенком он был, поражая своим умом окружающих и приводя в умиление беспристрастных родителей; каким замечательным юношей оказался впоследствии, какой проницательностью обладал в зрелом возрасте, предвидя грядущие события, о которых никто другой не догадывался.
Итак, мне показалось сначала, что согласиться следует. Но, перед тем как взяться за дело, вздумал я ознакомиться: как писали у нас, в эмиграции, свои воспоминания опытные мемуаристы? И тут-то начались сомнения.
Ведь, увы, был я в России совершенно скромным, заурядным человеком, от которого ничто не зависело. Начальником штаба ни в какой армии не состоял. Министерством не управлял, даже почтой и телеграфом. Императорскими театрами не заведовал. На российские финансы влияния не оказывал. При Дворе роли никакой не играл. Особенным богатством не обладал, чтобы проигрывать миллионы в Монте-Карло или метать бисер перед парижскими дамами полусвета.
И, наконец, академиком по отделу изящной словесности не был, чтобы презирать всех писателей, кроме себя.
В общем, оснований для писания мемуаров у меня было мало. А тут еще услышал я как-то рассказ об одном жутком случае, происшедшем в Париже.
Одна русская дама была большой любительницей чтения. Читала она все, что подворачивалось под руку. И попался ей однажды том чьих-то воспоминаний. Книга была растрепанная, без переплета; в начале не хватало обложки и нескольких первых страниц.
Прочла дама весь том; возможно, что не очень внимательно; возможно даже – не все главы. И с радостью заметила, что неизвестный мемуарист-автор среди всех государственных деятелей старой России высоко расценивает только одного: как раз ее знакомого эмигранта, которого она часто встречала в церкви.
Принесла дама книгу в церковь и после литургии подошла к этому маститому государственному деятелю.
– Вот, посмотрите, как много хорошего о вас здесь пишут, – радостно сказала она.
– В самом деле?
– Да. Только вас и хвалят. Остальных всех бранят.
– Интересно!
Деятель взял в руки книгу, перелистал.
– Судя по изложению, – любезно продолжала дама, – если бы не вы, Россия погибла бы значительно раньше. Может быть, хотите, я подарю вам этот том?
– О, нет, – мрачно отвечал тот. – У меня самого осталось много авторских экземпляров.
Вот, во избежание положения, подобному этому, а также в силу указанных раньше причин, я и решил не писать мемуаров. A вместо воспоминаний большого калибра думаю ограничиться краткими очерками с изложением кое-каких эпизодов из своей жизни в старой России.
И читателям будет легче. И мне самому тоже.
Перед пиром богов
Когда мы, свидетели нашей дореволюционной эпохи, вспоминаем пережитые нами события, у всех у нас возникает одинаковое странное чувство: будто было это не в какие-то прошлые годы, а в прошлом существовании, до появления на свет.
Точно и государство было другое. И народ. И даже другая планета.
Прежде… в былые времена… Сидел какой-нибудь из наших предков в своей усадьбе под липой, пил чай с малиновым вареньем, рассказывал внукам о всяких событиях, о деде и бабке, о турецкой кампании, о севастопольской обороне – и все было правдоподобно, все казалось реальным.
И бабушка когда-то ходила здесь, по этим самым аллеям; и покойный дедушка жил в этих комнатах, в правом крыле дома. И от турецкой кампании остались реликвии, которые находятся в кабинете Ивана Петровича. И если прабабка Екатерина Сергеевна от несчастной любви бросилась в пруд, то этот пруд – тут же, под боком, в конце сада, на границе с березовой рощей.
Прошлое с настоящим было тогда прочно связано и пространством, и временем, и землей, и водой, и людьми, и липами, и соловьями.
А теперь – что такое наши воспоминания? Даже о крупных событиях? Вдали от родной почвы – простая отвлеченность. Смутный экран. Даже чтобы вспомнить о дедушке, нужно вспомнить об усадьбе: а чтобы вспомнить об усадьбе, нужно вспомнить о липах, о пруде, о соловьях, о березах. Даже – о земле под ногами надо вспомнить. И о небе над головой.
Вокруг нас, эмигрантов, сейчас – ничего реально ощутимого, чтобы зацепиться за прошлое. Повсюду – чужое. Свое – одна только память. И потому кажется, что все бывшее давно – нечто потустороннее. Какое-то «где-то», «когда-то».
В своем «Цицероне» Тютчев писал:
«Счастлив, кто посетил сей мирВ его минуты роковые:Его призвали всеблагиеКак собеседника на пир.»Эти слова поэта, относившиеся к языческому миру, как нельзя больше подходят к нам, старым русским интеллигентам, мало думавшим о христианском Боге до крушения России.
По каким-то соображениям – из любви ли к нам, или, наоборот, чтобы сделать нам гадость, но упомянутые боги Цицерона почему-то избрали в собеседники именно нас. Таких роковых минут и такого шумного продолжительного пира далеко не испытывали на своем веку наши отцы и деды. Русско-японская война, первая революция, первая мировая война, вторая революция, белая борьба, эвакуация, блуждания по чужим странам…
Как начали мы пировать с языческими всеблагими в 1904 году, так и пируем до сих пор.
Многие из нас, людей пожилых, старых, иногда даже ропщут на подобное переобременение яствами. Не слишком ли много для одного поколения? A некоторые даже завидуют предкам – «Вот бы родиться и умереть на пятьдесят лет раньше!». А между тем, к чему эти бесплодные чудесные мечты? Безусловно, – если бы родились мы все раньше на пятьдесят лет, ровно на столько же лет раньше навалились бы на нас и все эти войны и революции.
За три года до начала нашего языческого пира, в 1901 году, поступил я в Новороссийский университет. Не предполагая сидеть за одним столом с небожителями, думал я посвятить себя отвлеченной науке и сделаться знаменитым математиком, на что у меня были несокрушимые основания: в восьмом классе Тифлисской первой гимназии никто из учеников не знал так хорошо алгебры, геометрии и тригонометрии, как я. А в качестве любителя, знал я отлично и астрономию, которую никто из моих коллег не изучал. Поэтому, сделаться впоследствии русским Ньютоном, Лапласом, или хотя бы Фламмарионом24 были у меня огромные шансы.
И не догадываясь о том, что произойдет впоследствии, со всем пылом молодости отдался я высшей алгебре, аналитической геометрии, физике и прочим чарующим научным предметам. Первое время все шло прекрасно. Профессора читали, студенты записывали: от огромных черных досок, на которых сменяли друг друга кривые второго порядка, дифференциальные уравнения, векторы аналитической механики, – пахло мелом, пылью и отвлеченной наукой. В коридорах царила тишина, не то торжественная, не то тревожная, напоминающая о том, что жизнь коротка, а научным дисциплинам края не видно.
А снаружи, за окнами, шумел южный город, радующийся синему морю, синему небу, сверкающей зимней белизне снега, одуряющему аромату весенних акаций.
Но, вот, вдруг, стали появляться первые провозвестники грядущих событий.
Около университетского здания неожиданно собиралась толпа молодежи. В коридорах начиналось оживление, приходили студенты чужих факультетов. И когда из аудиторий во время перемены выходили профессора, какие-то неизвестные люди взбирались на кафедры и произносили горячие речи с призывом явиться на сходку или принять участие в манифестации протеста.
Однажды подобный протест мы должны были вынести относительно негритянского племени Гереро, обитавшего в германской колонии Дамаре. Немцы ужасно притесняли это несчастное африканское племя. Непокорные туземцы избивались, вожди непокорных расстреливались. Разумеется, мы, русские студенты, не могли допустить такого безобразия. Как? Племя Гереро страдает, свободолюбивые вожди его уничтожаются, а мы тут сидим, дифференцируем, интегрируем и равнодушно прислушиваемся к южноафриканским рыданиям и стонам?
Насколько помню, присутствовавшее тогда на сходке студенты выразили свое негодование по адресу германского правительства подавляющим большинством голосов. Некоторые чуть ли не клялись, что не прикоснутся к учебникам, пока режим подавления личности в Дамаре не ослабеет. И только один какой-то филолог осмелился высказать особое мнение, призывая коллег отнестись к вопросу более вдумчиво и сначала узнать точно по карте, где находится Дамара и кто такие Гереро, ее населяющие.
Этот студент, конечно, был дружно освистан.
А в другой раз была еще одна сходка, уже более многолюдная и более шумная. Касалась она казни какого-то испанского анархиста, кажется Фереро25, взволновавшей все наши факультеты. Событие это казалось потрясающим; кроме того, произошло оно уже не в далекой южной Африке, а совсем недалеко – в Барселоне, на расстоянии двух с половиной тысяч километров от Одессы. Перенести эту жестокую расправу испанского правительства с невинным анархистом, бросавшим бомбы, наши студенты, естественно, не могли. И возле здания университета была организована манифестация.
О чем думали шнырявшие среди манифестантов и поощрявшие их к активным действиям члены «Союза освобождения рабочего класса»26 или «Бундовцы»27, говорить здесь не будем. Но, разгоряченные своей ролью заступников мировой справедливости, наши студенты понимали, что если они не пригрозят испанскому правительству, то оно, приободрившись, казнит второго анархиста, третьего; и, чего доброго, дойдет до того, что совершенно уничтожит в Испании анархизм.