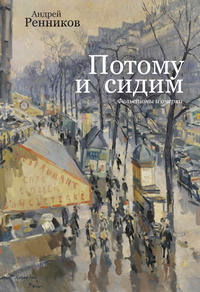Полная версия
Было все, будет все. Мемуарные и нравственно-философские произведения
Ясно, что при таком послужном списке бедный Александр Иванович получил улыбку и от Академии Наук. Таким образом все кандидаты и бессмертные постепенно отпали, и в конце концов все российское литературное бессмертие сконцентрировалось на одном только Бунине. Бунин, действительно вполне подходил под тип академика. Был благоразумен, тих и умерен во всем, кроме тщеславия; пил в меру, по-академически, и не дружил с клоунами и борцами, чем выгодно отличался от Куприна; «черными мессами», подобно Мережковскому, не интересовался; а политически был либералом, но только настолько, чтобы быть желанным гостем в левых издательствах. Относился он к своей работе с уважением, с трезвым рвением, и гениально умел под блеском формы своих произведений скрывать нищету их содержания.
Одесские журналисты, художники, артисты оперы, драмы, оперетты и их друзья нередко объединялись по ночам в пивной Брунса или в каком-нибудь ресторане. Иногда на этих собраниях бывали Куприн и Бунин, что поднимало у всех настроение. Обычно же протекали эти собрания не так оживленно, не было центра внимания. Все разбивались на группы, говорили о своих профессиональных делах. В одном углу хорист Оперы хвастался, что ему дали сольную партию в «Пиковой даме», где он должен был пропеть всего шесть слов, но очень ответственных: «Хозяин просит дорогих гостей в зал». Пропел эти слова начинающей компримарио отлично, с блеском и со всеми нужными художественными нюансами; но, к сожалению, вместо «в зал» сказал «в зале». Режиссер за это на него напал и долго ругался. А, между тем, какая тут разница?
А в другом углу, уже не хорист, и не компримарио, а один из солистов с мировой южнорусской известностью говорит по обыкновению о своих головокружительных успехах.
– Оскар Семенович, – почтительно спрашивает его слушатель репортер, подавленный величием своего собеседника. – А скажите, откуда у вас на лице такой длинный шрам, извините за выражение? Это – от сабельного удара?
– Нет, от бутылочного, – скромно отвечает тот.
Южнорусские художники имели у нас свою собственную организацию, нередко устраивали выставки. А иногда бывали здесь выставки «Мира искусств», или кто-нибудь привозил из Москвы и из Петербурга картины какого-либо из крупных художников.
Помню, как один журналист А. И. Филиппов решил познакомить одесскую публику с Рерихом. В настоящее время, при увлечении Пикассо и Матиссом, Рерих кажется архаическим художником, в роде Чимабуэ. Но тогда он был для многих дерзким новатором, ужасным декадентом. Поэтому одесская интеллигенция всколыхнулась и двинулась смотреть Рериха.
– Ну, что? – явившись на выставку, спросил я стоявшего у входа Филиппова, с которым был раньше знаком. – Как будто ваше дело имеет успех?
– О, да, – радостно ответил он. – Многие ругаются, ужас!
И Филиппов был прав. Вскоре после того, как я прошел внутрь и медленно, с долгими остановками, стал обходить стены, недалеко от меня разыгралась любопытная сцена.
Почтенный седой генерал в сопровождении пожилой дамы, очевидно супруги, подошел к тому месту, где висела картина «Каменный век». Взглянув на полотно, генерал издал сначала зловещее шипение, затем тяжело засопел, фыркнул. И в тишине зала, по которому беззвучно двигались посетители, раздался его грозный голос:
– А это еще что такое? Муся, посмотри в каталог!
– Это?.. «Каменный век», – уныло ответила дама.
– Каменный век? – голос генерала поднялся на несколько тонов выше и принял еще более зловещий характер. – Ну, и свинство! Издевательство! Черт знает, что!
– Да, – пренебрежительно согласилась дама. – Безобразие.
– Яичница с луком! Мазня! – продолжал бушевать генерал. – Разве это трава? А это – камни? И где он видел такое небо? В какой губернии? Я понимаю, можно дать траву редкого цвета, и темно-зеленую и с желтизной. Но ты хоть несколько травинок обозначь, чтобы люди видели, суша это, или болото!
Войдя в роль беспощадного критика, генерал не мог уже остановиться. Вокруг собралась толпа. Некоторые одобрительно поддакивали, некоторые саркастически улыбались, считая, что генеральский чин не позволяет человеку быть ценителем живописи. Наконец, на шум явился и сам Филиппов.
– В чем дело, ваше превосходительство? – любезно и даже чуть подобострастно спросил он. – Вы чем-нибудь недовольны?
– А как вы думаете: может здравомыслящий человек быть этим доволен? Я пришел наслаждаться искусством, получить впечатление, a мне подносят такое, от чего печень болит! Я человек старый, я не желаю, чтобы меня раздражали! И где тут, главное, каменный век? Вообще, кто его видел?
– Простите, ваше превосходительство, но очевидно он так представлялся воображению автора.
– Мало ли что представлялся! Не все, что представляется, можно показывать. Надо, чтобы не только ему, но и другим было интересно смотреть!
– Простите, ваше превосходительство, но Николай Константинович Рерих – известный живописец. В Третьяковской галерее имеются его картины. А, кроме того, он состоит директором петербургской Художественной школы, под почетным покровительством ее Императорского Высочества Великой княгини Марии Павловны.
– Все равно, в Третьяковской или не в Третьяковской! А как вы сказали? Чьим покровительством?
– Ее Императорского Высочества Великой княгини Марии Павловны.
– Августейшим покровительством? Ага. Это, разумеется, огромная честь. Хм. Да. Разумеется. Но ты дорожи, в таком случае, покровительством! Надо соответственно и краски подбирать и сюжеты! Оно, сказать по правде, некоторая древность в картине чувствуется. Безусловно. И в траве, и в камнях… Но почему, все-таки, небо так мрачно? Я понимаю, суровость необходима. Это вам не современность, a седая старина! Люди в шкурах ходили! Но к чему слишком подчеркивать? Так вы говорите – Ее Императорское Высочество? Уж Ее Высочество, несомненно в живописи толк понимает, это вы извините!
Генерал успокоился. Сделав свое дело, Филиппов ушел. Пробыв некоторое время в соседней комнате, я вернулся опять в главный зал и увидел: его превосходительство стоял по-прежнему возле «Каменного века», окруженный новыми посетителями, и говорил кому-то из них:
– Это, батенька, понимать надо. Прочувствовать. Сначала, может быть, и не ухватишь, в чем тут сила. Даже неправдоподобным покажется. А, между тем, извольте вдуматься, когда это было? Здесь вам не времена Наполеона, или даже Дмитрия Донского. Это теряется во мгле веков! Тут сами скалы древностью окутаны. И трава. Даже небо небывалое, доисторическое. Рерих то вам не какой-нибудь встречный поперечный художник. Находится под августейшим покровительством Ее Императорского Высочества Великой княгини Марии Павловны!
Мученик науки
Как ни разнообразна и легка была работа в газете, однако она быстро мне надоела. Вечная торопливость; поверхностное отношение к вопросам, о которых приходилось писать; невольное общение с журналистами, больными самовлюбленностью или просто малопочтенными, – все это вело к разочарованию…
И меня снова потянуло к занятию наукой.
Но математика больше не прельщала. Так как по окончании математического факультета я с болью в душе выяснил, что из меня не выйдет не только Лобачевский, но даже наш скромный приват-доцент Тимченко, меня потянуло к изучению психологии и философии. Здесь, казалось мне, найду я свое истинное призвание и удовлетворю и пытливость ума, и молодое тщеславие. Сделаюсь, если не вторым Кантом или Гегелем, то хотя бы Шопенгауэром или Ницше.
И я снова поступил в университет, на первый курс историко-филологического факультета. Конечно, для моей гордости было унизительно сидеть в одной аудитории с мальчишками, только что явившимися из своих жалких гимназий. Но, чтобы дать понять всем этим молокососам свое превосходство, я нацепил на тужурку самый крупный университетский значок, какой мог найти в продаже, и этим до некоторой степени компенсировал свое унижение.
Работал я тогда много, с увлечением. Помимо занятий лекциями, печатал статьи в журнале «Вопросы философии и психологии», в «Вестнике экспериментальной психологии» Бехтерева69, в журнале «Вера и разум».
И вот, однажды пришло мне в голову исследовать одно любопытное явление, которое давно интриговало меня и которое ученые относили к разряду зрительных иллюзий. Явление это состоит в том, что луна, солнце и созвездия у горизонта всегда кажутся больше размерами, чем при высоком своем положении на небе. Астрономического или математического объяснения тут быть не может, так как при измерении инструментами эти светила во всяком своем положении дают один и тот же поперечник. Следовательно, причина здесь какая-то другая – психологическая или физиологическая.
И вот, решил я заняться этой загадкой. Литература вопроса оказалась огромной. Перерыв в университетской библиотеке все источники, я нашел массу гипотез, начиная с Паскаля70и кончая современными немецкими психофизиологами. Некоторые ученые связывали эту иллюзию с кажущейся приплюснутостью небесного свода; некоторые – физиологическими причинами, например, тем, что мышцы глаз при нормальном положении головы и при смотрении наверх испытывают разную иннервацию. Разумеется, больше всего гипотез предлагали немецкие ученые, что и понятно: немцы ни одного явления в природе не пропустят, чтобы не высказать по его поводу большое количество противоречивых теорий. Например, один из них, некий Филене, придумал даже особый способ наблюдения луны у горизонта – становился спиной к восходящему светилу, широко расставлял ноги, низко наклонял вперед голову и смотрел на луну между ногами. По его утверждению, при таком созерцании лунного диска иллюзия совсем исчезает.
Желая по-своему обследовать загадку, я составил краткий вопросник, в который включил вопросы: кому как кажется луна при восходе и наверху в небе; кто из опрошенных уроженец какой местности – гористой, или равнинной. Еще кое-что. Отпечатал вопросник в типографии, раздал экземпляры его коллегам-студентам, курсисткам, знакомым. И, кроме того, у себя в комнате, которую снимал у квартирной хозяйки и которая выходила окном во двор, где находилось помещение дворника, построил самодельный прибор: сделал масляный диск, изображавший луну, сзади него прикрепил маленькую керосиновую лампочку, привязал все это к веревке, а веревку перекинул через крючок в потолке, чтобы эту искусственную луну можно было свободно поднимать и опускать. А в углу комнаты установил вертикальный градуированный картонный круг со стрелкой, вдоль которой нужно было смотреть на масляный диск при разных высотах.
Отдался я этой работе всей душой. Сидел дома по вечерам, тянул веревку, поднимал диск, опускал. А окно во двор, разумеется, не прикрывал ни занавеской, ни ставней. Закончив все опыты, написал я большую статью с чертежами и со своей собственной гипотезой, состоявшей в следующем: никакой зрительной иллюзии в данном явлении нет, а есть простой паралогизм – непреднамеренная ошибка суждения; на горизонте луна сравнивается с далекими земными предметами и кажется «большой», наверху сравнивается с окружающим ее небесным сводом и кажется «маленькой»; а отсюда и ошибочное суждение, что луна на горизонте больше, так как в обоих случаях, промежуточный предмет сравнения не один и тот же.
И вдруг, через несколько дней после того, как отправил я это исследование в «Вопросы психологии», поздно вечером в нашей передней раздался продолжительный звонок, затем резкий стук. Встревоженная хозяйка открыла дверь… И передняя наполнилась полицейскими чинами.
– Вы такой-то? – спросил меня вошедший в мою комнату приставь.
– Да.
– У меня ордер на производство у вас обыска.
– Пожалуйста…
Будучи тогда в политическом смысле мирным правым кадетом, не имевшим никакого контакта с революционными кругами, я этим обыском особенно напуган не был. Но чувство досады и даже какой-то обиды естественно возникло. За что? Почему?
Сопровождаемый городовым, хозяйкой и нашим дворником в качестве понятых, пристав принялся за свое дело. Прежде всего пересмотрел все бумаги и тетради на письменном столе и в его ящиках.
– Скажите, – сухо, но вежливо спросил меня он, найдя внутри стола пачку использованных листков от анкеты. – Это что?
– Это? – с некоторой гордостью проговорил я. – Это – вопросник для определения того, как кому кажется луна у горизонта.
– Так… А для чего это надо?
– Для прогресса отвлеченной науки.
Пристав недоверчиво посмотрел на меня, перевел взгляд на листок вопросника и стал вполголоса читать: «Вопрос: ваша фамилия? Ответ: Кононенко. Вопрос: где вы главным образом жили – в гористой местности, или в равнинной? Ответ: в равнинной, в Херсонской губернии. Вопрос: кажется, ли вам луна у горизонта больше, чем наверху в небе, и если кажется, то во сколько приблизительно раз? Ответ: в семь раз…»
Пробежав беглым взглядом остальные листки, пристав задумался и передал пачку стоявшему рядом городовому:
– Приобщи к делу.
– Слушаю-с.
Затем началось приобщение к делу различных других документов, найденных на столе, в столе и на этажерке. Чертеж приплюснутого небесного свода, с предполагаемой на нем луной; рисунок глаза с мышцами заведующими его движением; любительская фотография, сильно передержанная, на которой я и двое моих коллег-студентов изображались в море в виде жутких обуглившихся фигур. Еще кое-что в этом роде.
– А тут что за вещи? – спросил пристав, подойдя к углу, где были сложены оставшиеся от опытов угломер, масляный диск и лампочка с веревкой.
– Это – части прибора для экспериментального исследования явления.
– А лампочка для чего?
– Я ее во время опытов поднимал при помощи веревки и на круге измерял угол видимости.
– Федорчук, приобщи.
– Слушаю-с.
Пристав присел к столу и стал складывать в один пакет всю захваченную у меня добычу. Затем, заметно повеселев от того, что неприятные обязанности выполнены, он закурил, повернулся ко мне и уже более мягко, без официальности, сказал:
– А вы знаете, мне тоже, это самое… Луна при восходе кажется больше, чем когда наверху.
– В самом деле? – оживился я. – А во сколько раз больше?
– Ну, раз в восемь. А от чего это зависит?
– У нас тоже… Из-за сада, возле главной почты, луна всегда здоровенная выходит, – хрипло отозвался молчавший до сих пор дворник.
– Отчего зависит? – любезно переспросил я пристава. – Если хотите, с удовольствием расскажу вкратце, коснувшись только слегка литературы вопроса… Помимо астрономов, которым особенно часто приходится наблюдать это явление, многие лучшие умы человечества тоже давно бились над разрешением загадки…
Я начал с Паскаля; упомянул имена нескольких крупных астрономов. высказывавшихся по данному поводу: перешел к разным психологам, разбиравшим этот вопрос в различных «вохеншрифтах» и «фиртельяршрифтах»… И, наконец, дошел до метода физиолога Филена; вышел на середину комнаты, стал спиной к столу, раздвинул ноги и, наклонив голову, начал смотреть на пристава между ногами, упираясь руками в пол. Хотя голова пристава при таком рассматривании оказалась как будто бы перевернутой, – с подбородком на месте лба и со лбом на месте подбородка, однако я все же уловил на его лице необычное выражение: нечто в роде испуга, смешанного с явной жалостью.
Тяжко вздохнув, он быстро встал со стула, забрал пакет с приобщенными к делу вещами и приказал городовому и дворнику следовать за собой.
– Ну, до свиданья, – как-то грустно глядя на меня сказал он. – Вы не имеете права покидать квартиры. На лестнице я оставлю охрану. A после доклада моего определится, будете ли вы освобождены, или препровождены к месту заключения.
Он протянул мне руку и добавил:
– А, все-таки, путаная вещь эта наука.
Около полуночи явился околоточный, снял охрану и сообщил мне, что я оставлен на свободе. Но свобода эта оказалась не полной; долгое время после обыска, несколько месяцев, при своих выходах из дому я замечал, что за мной всегда следует сыщик.
Ясно, что опыты с подниманием и опусканием освещенного диска были приняты за сигнализацию. И очевидно, в доносе принимал участие дворник.
Прошло около года. Я уже забыл об этой истории. И вдруг на мое имя получается большой, тщательно завернутый, перевязанный шпагатом пакет, весь облепленный сургучными печатями. А на нем сверху, над моим адресом, официальная надпись:
«От судебного следователя по важнейшим делам.
К делу о покушении на жизнь Командующего Войсками Одесского Военного Округа Генерала от Кавалерии барона Каульбарса»71.
Философская пропедевтика
По окончании историко-филологического факультета я был оставлен при университете по кафедре философии. И когда стал готовиться к магистрантскому экзамену для получения прав на доцентуру, оставивший меня профессор H. Н. Ланге72 сказал мне:
– Так как вам через два года предстоит читать лекции студентам, то полезно было бы на некоторое время сделаться преподавателем гимназии. Это приучит вас свободно держаться перед аудиторией. А сейчас, как раз, в гимназиях введен новый предмет – философская пропедевтика, состоящая из краткого курса психологии в седьмом классе и курса логики в восьмом. Логику, как вы знаете, преподавали и раньше, для нее есть кадр старых учителей; а для психологии специалистов нет, и их нужно создавать из молодых людей, окончивших филологический факультет. Я обещал директору частной гимназии Юнгмейстеру73 переговорить с вами. Надеюсь, вы не откажете.
Перспектива сделаться учителем, хотя бы на два года, мне очень не улыбалась. Помня свои гимназические годы, я хорошо знал, какая каторга – иметь дело с мальчишками. Но делать было нечего. Отказаться – это вызвать недовольство своего руководителя, которого я очень ценил и уважал.
И вот, началась моя педагогическая деятельность.
Специальных руководств для преподавания в гимназиях психологии тогда еще не было, кроме учебника проф. Челпанова74. Но по одному Челпанову преподавать не хотелось. Задавать уроки по учебнику «отсюда – досюда» казалось мне устаревшим приемом. И пришла в голову блестящая мысль: самому составлять лекции и читать их по университетскому образцу, считая, что передо мною не гимназисты, а студенты, а сам я – не учитель, а профессор.
Директор гимназии – Юнгмейстер, которому я с горделивым видом изложил свой план, сначала не на шутку перепугался. Но затем, овладев собой, задумался, покачал головой и нерешительно проговорил:
– Что же… Теперь такие либеральные времена, что ничему удивляться не следует. Попробуйте, если хотите.
Явившись на первый урок, я сильно смутился, увидев перед собой тридцать парней, довольно великовозрастных, некоторых даже сильно потрепанных жизнью, несмотря на несовершеннолетие. Все они были одинаково одеты в гимназические курточки и потому показались похожими друг на друга, кроме двух: одного пшютоватаго75, с пенсне на носу, и другого – добродушного толстяка, рост которого приблизительно равнялся его толщине.
Как и когда удастся мне запомнить фамилии всех этих незнакомцев, а главное – определить их индивидуальность и внутреннюю сущность, согласно требованиям великого Песталоцци76?
– Господа! – став у кафедры, торжественным, но слегка дрожащим голосом начал я свою вступительную речь. – Должен вас предупредить, что этот новый предмет – философскую пропедевтику я буду преподавать на новых началах. У меня будут не уроки, a лекции, как в университете. Систему спрашивания уроков и систему баллов я отменяю, как педагогический прием, не оправдавший возлагавшихся на него надежд. Никаких отметок я ставить не буду, основываясь на взаимном нашем доверии и на вашей любви к отвлеченному мышлению. Надеюсь, вы достойно оцените мое отношение к вам, и как взрослые сознательные люди, своим вниманием к лекциям, своим прилежанием оправдаете правильность моего начинания.
– Ура! – крикнул кто-то с задней скамьи. – К черту отметки!
– Долой! – подтвердил другой голос.
– Да, вы не беспокойтесь, – встав с места, почтительно, но с плутоватой улыбкой, произнес дюжий тип, сидевший во втором ряду. – Мы оправдаем. Господа! – обратился он неожиданно к окружавшим его молодцам, – предлагаю качать господина учителя!
За партами началось движение. Некоторые уже привстали, чтобы оказать мне жуткую почесть. Но, к счастью, окончательной решимости у них не хватило при виде испуга и неудовольствия, выразившихся на моем лице. Я продолжал говорить о том предмете, который собираюсь преподавать; указал на то, что психология не только необходима для углубления знания человеческой природы, но чрезвычайно важна и для правильного взаимоотношения между людьми. Психология, говорил я, – основа социологии, а потому, если мои слушатели хотят правильно разбираться в социальных вопросах, то они должны как следует усвоить курс моих лекций. А так как согласно Фехнеру и Вундту, психология основывается на физиологии, что видно из психофизического параллелизма, то надо знать физиологию нервной системы и органов чувств, что, в свою очередь, требует сведений по анатомии…
И тут я подошел к доске и стал для начала изображать строение головного мозга.
В продолжение двух месяцев два раза в неделю читал я лекции своим слушателям, никого не спрашивая и никому не ставя отметок. Не скажу, чтобы аудитория моя относилась с чрезмерным благоговением к этим лекциям. Некоторые сидели за партами с глазами, опущенными вниз, и что-то читали, но, как мне удалось заметить, не учебник Челпанова, а что-то другое, так как у Челпанова нигде в тексте нет голых женских фигур. Иные не читали, а просто вполголоса беседовали, возможно, что на затронутую моей лекцией тему, возможно – на какую-нибудь другую. Но, в общем, за все это время особенных эксцессов в классе я не наблюдал. Единственно, что было мне неприятно, это – подходить к доске и чертить на ней что-нибудь, например, формулу логарифмической зависимости между раздражением и ощущением. Тотчас же около меня в доску начинали ударяться всевозможные мелкие предметы: жвачка из бумаги, старые перья, куски мела, неизвестно откуда летевшие.
Однако я терпел и делал вид, что ничего не замечаю. Во-первых, потому, что не хотел унижаться и узнавать, кто это делал; а во-вторых потому, что не знал по фамилии почти никого, кроме толстяка, которого звали Пташкин. А вызвать к доске одного только Пташкина и распечь его я считал несправедливым. А вдруг это был не он, а кто-либо другой, незнакомый?
Итак, прошло два месяца. Окончилась первая учебная четверть. И перед тем, как идти на педагогический совет, где каждый преподаватель сообщал совету и директору об успехах учеников по его предмету, я предупредил свой класс о том, что всем им я пока ставлю условную отметку – пятерку. Однако, пояснил я, пятерка эта ничего не значит, а является только символом. В конце второй четверти я сделаю всем пробный экзамен за полугодие, и тогда будет выставлена отметка уже настоящая, глубоко мною продуманная, притом без всякой жалости с моей стороны. Я буду справедлив, но суров.
Мое заявление о всеобщей пятерке принято было классом с энтузиазмом. Некоторые из учеников, никогда не видевшие среди своих отметок пятерок, были даже ошеломлены. Другие громкими кликами выражали восторг. А был и такой незнакомец, фамилии которого я до конца так и не успел узнать, который почему-то обиделся и заявил, что теперь его перестанут уважать товарищи футболисты.
Как бы то ни было, но, составив список учеников по ведомости, которую в начале осени получил от делопроизводителя гимназической канцелярии, явился я на заседание совета и стал слушать, что докладывают другие преподаватели. Среди них, людей солидных и почтенных, я казался жалким юнцом.
– Ну, а что вы нам скажете? – снисходительно и в то же время недоверчиво обратился директор ко мне. – Прежде всего, какие отметки? Хорошие?
– Да, – спокойно ответил я, стараясь скрыть свое волнение. – Символические, но хорошие. Пятерки.
– То есть, как пятерки? Всем?
– Всем.
– И Курилову тоже?
– И Курилову, очевидно.
Встревоженный директор взял у меня список, в котором я проставил отметки, и со страхом начал просматривать. Среди присутствовавших педагогов воцарилось тягостное молчание. Возможно, что некоторые были недовольны моим либерализмом, но открытого возмущения я не заметил. Слышал только кое у кого странное покашливание и заглушенное фырканье.
– Так-так, – ознакомившись с ведомостью, зловеще проговорил директор. – Очень хорошо. Оригинально. Значит, Курилов тоже получил пять в четверти? Воображаю, как будут удивлены его родители тем, что их сын сделался ученым психологом! Только, вот что, дорогой мой, – уже с явной язвительностью продолжал Юнгмейстер, обратившись ко мне. – Здесь есть одно маленькое недоразумение… Предположим, что все эти талантливые молодые люди заслужили пятерки. Допустим. Но объясните мне, пожалуйста, следующий таинственный факт: как мог получить у вас пятерку Гейман, который скончался минувшим летом и которого делопроизводитель в первоначальном списке перешедших в седьмой класс забыл вычеркнуть?