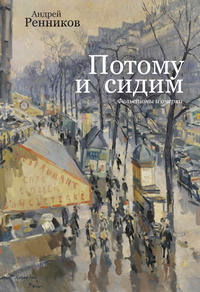Полная версия
Было все, будет все. Мемуарные и нравственно-философские произведения
– А в чем дело, Федор Егорович? – спрашивает эсер.
– Да очень просто, в чем дело! Жиды-оптовики опять подняли цену на бумагу! Житья от них нет!
Сотрудник меньшевик, погруженный в описание прелестей диктатуры рабочего класса, отрывается от работы. Будучи сам евреем, он, естественно, краснеет от обидных слов издателя и смотрит на него с негодованием. А тот ходит взад и вперед по комнате, продолжает изливать свои чувства.
Испытывая неловкость от возникшего положения, я решаюсь заступиться за своего коллегу:
– Простите, Федор Егорович… Я не собираюсь учить вас… Но вы – кадет. И я тоже кадет. А у нас в программе сказано, что мы должны добиваться равноправия для всех национальностей, в том числе и евреев!
– Ну, да! Я и добиваюсь! А в чем дело? – Редактор остановился, с удивлением взглянул на меня.
– Но в таком случае вы должны отстаивать для них те права, которых они лишены…
– Я и отстаиваю! Я очень хочу, чтобы они имели право жительства всюду! А то – почему их всех заперли здесь? Пусть переезжают на Волгу, на Урал, в Москву, в Петербург… Тогда конкуренция уменьшится! И дышать будет легче!
Если не считать подобных исключительных случаев, то редакционная жизнь в общем протекала у нас мирно, спокойно. Федор Егорович обращался с нами по-товарищески, вежливо, не позволял себе никаких грубостей. Писал я у него почти ежедневно, и он никогда не вмешивался в мои темы, исключая полемики с Крушеваном. В этом вопросе мы всегда дружно объединялись, так как Крушеван и его, и меня поносил иногда самыми ужасными словами. Про Федора Егоровича он писал, что если ему поручить устройство российского государства, то этот строй сейчас же рухнет, как рушатся те одноэтажные дома и сараи, которые Федор Егорович строил до сих пор кишиневским жителям. А про меня Крушеван говорил, что я известный студент-бомбометатель и что я чуть ли не собирался взорвать в виде протеста Новороссийский университет.
Но самое обидное было написано им по моему адресу в самом начале моего сотрудничества в «Бессарабской жизни». Подстрекаемый Федором Егоровичем, начал я его задирать первый; Крушеван некоторое время молчал, молчал и, наконец разразился. Стиль у него был грубый, в подборе слов он не стеснялся, хотя, несомненно, его газету читали не только мужчины, но и дамы, и, быть может, дети. И, вот, в первой же статье, посвященной мне, он с чудовищным цинизмом обрушился на то, что в литературном смысле было для меня самым священным – на мой псевдоним.
Раскрываю я как-то раз его газету и читаю: «В смрадной революционной клоаке, именуемой “Бессарабской жизнью”, появилась какая-то новая пакость: “Азотнокислый…”»
И затем следовало второе слово моей подписи. Но в этом слове «Калий» две последние буквы были выпущены, и вместо них стоял твердый знак.
Помню – несколько дней после этого я был совершенно подавлен. Даже стеснялся показаться на главной улице города. А чудак Федор Егорович, наоборот, —почему-то был очень доволен.
– Ничего, ничего, – ободрял меня он. – Теперь вы быстро пойдете в гору: Крушеван вас заметил.
Вообще, нельзя сказать, чтобы Федор Егорович был очень чутким человеком в области литературной чести. Да и в издательском смысле тоже не всегда оказывался на высоте. Особенно в вопросе о гонораре.
Согласно условию, должен был он платить нам в конце каждого месяца. Но это условие имело только теоретический характер. На практике получали мы гонорар по частям, в разное время, после долгих споров и препирательств. Сначала шли к секретарше, сидевшей за решеткой и изображавшей кассира. A после того, как секретарша объявляла, что у нее в кассе нет ничего, кроме почтовых марок, отправлялись к редактору в кабинет, где происходила всегда одна и та же сцена – Федор Егорович вынимал из кармана панталон тот самый темно-зеленый кошелек, который был мне памятен по первому визиту в редакцию, раскрывал его перед нами и плачущим голосом говорил:
– Ну что же я могу вам дать, господа? Смотрите: вот один рубль. Вот – другой. Полтинник… Двугривенный. Пять копеек… И все!
Получив, после длительных переговоров, по рублю или еще меньше, мы грустно удалялись в редакционную комнату писать очередные статьи; в этих статьях срывали свою злобу в нападках на правительство; а через неделю опять шли к редактору и снова знакомились с содержанием зеленого кошелька.
И вот, однажды, с этим кошельком у Федора Егоровича произошел большой конфуз. Явился к нам в редакцию какой-то представительный тучный господин в клетчатом костюме, с величавыми манерами, с убедительным приятным баритоном, с актерским лицом благородного отца.
– Доложите редактору, – сказал он секретарше, – что его желает видеть спешно прибывший из Петербурга известный журналист Пе-Пе-Зе.
Что происходило в кабинете Федора Егоровича, когда там сидел Пе-Пе-Зе, мы, сотрудники, точно не знали. Известно нам только было, что секретарша, по поручению редактора, бегала покупать водку, колбасу, ветчину, хлеб и что в кабинете во время выпивки торжественно звучал баритон гостя, чередовавшийся с подобострастным тенором Федора Егоровича. Судя по водке и ветчине, петербургский журналист совершенно очаровал нашего шефа.
Около часа оживленно беседовали они наедине; a затем Федор Егорович привел Пе-Пе-Зе в нашу комнату.
– Вот это у нас редакционная, – самодовольно заявил редактор. – Позвольте вам представить: мой передовик… Это – автор руководящих… А это… Ученый юморист Азотнокислый Калий.
– Очень приятно, очень приятно… снисходительно говорил гость, пожимая нам руки. – Азотнокислый? Да, да. Читал у Крушевана…
– Господа, – радостно обратился к нам Федор Егорович, – Петр Петрович сделал мне честь – согласился сотрудничать. Имейте в виду, мы должны относиться к нему с особенным почтением, как к пострадавшему за свои убеждения: его выслали из Петербурга.
– Вот как? – обрадовался передовик. – Очень счастлив познакомиться!
– Вы, наверно, призывали население к вооруженному восстанию? – с некоторым благоговением спросил в свою очередь эсер.
– Не совсем призывал, но в некотором роде. Вообще, не сошелся во взглядах с градоначальником. Только вот что, дорогой Федя, – обратился гость к Федору Егоровичу, – У нас, в Петербурге обычай – при заключении условия обязательно давать аванс. Без аванса в Петербурге никакая литературная деятельность не мыслима.
– Аванс? – Федор Егорович побледнел. – У нас, знаете, такого обычая нет…
– Очень жаль. В настоящее ответственное время провинция должна идти в ногу с Петербургом, если хочет старый режим заменить новым. Ну, хорошо, так и быть, я согласен всего на десять рублей. Чтобы не нарушать принципа.
Редактор растерянно взглянул на Пе-Пе-Зе, и его рука привычным движением полезла в карман.
– Вот, посмотрите, – обычным плачущим голосом начал он, раскрыв кошелек. – Один рубль… Два… Полтинник…
Петербургский гость насмешливо прищурил правый глаз.
– Бросьте, Федя, бросьте!..
– То есть, как бросьте? Двугривенный, десять. Пять копеек… Вот все, что у меня есть!
– Ну и шутник! – Гость весело расхохотался – Вот оригинал! А в другом кошельке? Меня, дорогой мой, провести трудно. Сейчас вы показываете зеленый, а когда посылали барышню за закусками, вынимали, небось, из другого кармана, коричневый? Там были и зелененькие бумажки, и красненькие. Ну, ладно, давайте пять рублей, и никаких дальнейших дискуссий. А завтра принесу первую громовую статью против самодержавия.
Сконфуженный Федор Егорович пяти рублей не дал, но на три, все-таки, рискнул. И впоследствии долго раскаивался в этом безумном поступке:
Известного петербургского журналиста Пе-Пе-Зе, высланного градоначальником за несходство взглядов, мы больше не видели.
Уничтожение цензуры
Осенью 1905 года из Петербурга пришла приятная весть: университеты получили автономию.
Наконец-то мы, студенты-академисты, можем свободно учиться, а профессора свободно преподавать и самостоятельно заправлять университетскими делами.
В связи с этим я подумывал бросить свою работу в кишиневской газете и вернуться в Одессу для подготовки к государственным экзаменам. Однако, с автономией неожиданно вышло печальное недоразумение. Ею воспользовались не те студенты, которые хотели заниматься, a те, которые были против занятий.
Социалисты – эсдеки и эсеры – автономно завладели аудиториями, стали в них собирать сходки, устраивать заседания комитетов, выносить резолюции о бойкоте будущей Государственной Думы, составлять революционные воззвания к населению… О лекциях нечего было думать. И я решил продолжать пока свое сотрудничество в «Бессарабской жизни».
Наступило 17 октября. Манифест о свободах на территории Империи повсюду был принят чисто по-русски. Как известно, русский человек, получая что-нибудь наравне с другими, обычно недоволен; того, что он получил, ему всегда мало; а того, что получил другой, по его мнению, всегда много. Левые круги считали конституцию для себя слишком умеренной, а правые, наоборот, – слишком большой уступкой для левых.
Поэтому, торжества по случаю радостного события немедленно превратились в беспорядки. Сначала по улицам стали двигаться манифестации с выражением благодарности верховной власти; затем их сменили манифестами с криками «Долой самодержавие»; после этого появились демонстрации, выражавшие недовольство разнузданным поведением левых; потом, во многих городах под руководством социал-демократов начались восстания, бунты. И в качестве апофеоза всех этих торжеств произошли со стороны правых низших слоев населения бесчинства, погромы.
Такого погрома, как известно, не избег и Кишинев. Отвратительное позорное зрелище. Но со стороны левых было гнусной клеветой, будто в организации подобного темного дела участвовали местные власти. Почти с уверенностью можно сказать, что нигде в городах, где происходили погромы, власти не были причастны к этим явлениям; и не только потому, что это казалось им слишком грязной работой, но просто и потому, что всякая лишняя работа для наших администраторов являлась бедствием.
Газета «Бессарабская жизнь» в эти дни не выходила. А когда, после некоторого успокоения в городе, я явился в редакцию, редактор Федор Егорович встретил меня с удивлением.
– Значит, вы не ранены? – радостно воскликнул он.
– Нет. А что?
– Слава Богу! А то мне сегодня утром сообщили, будто Азотнокислый Калий ранен в ногу и доставлен в больницу, где ему оказали первую помощь. Я собирался после завтрака поехать, навестить вас.
– Странно, – удивился я, невольно оглядывая себя беглым взглядом. – Насколько мне известно, ноги мои в полном порядке.
Из любопытства Федор Егорович после завтрака, все-таки навел справки – каким образом я попал в список раненых? И оказалось, что в Кишиневе какой-то молодой еврей выдавал себя за меня и приписывал своему перу мои фельетоны. Судьбе было угодно покарать руками погромщика этого незадачливого самозванца, но, к счастью, легко. Впоследствии мне показывали этого моего двойника.
И как сложна человеческая психология! После упомянутого случая я значительно вырос в своих собственных глазах. Во-первых, потому, что моим блестящим псевдонимом из тщеславия воспользовался какой-то обыватель; а во-вторых потому, что ведь принципиально это был я, тот самый борец за свободу, на которого напал презренный погромщик!
Несколько дней после этого гордо ходил я по улицам города, с загадочной улыбкой человека, чужими страданиями пострадавшего за свою идею.
А наша газета, тем временем, нервно переживала переход от прежнего подцензурного состояния к новому, свободному. По правилам старой цензуры полагалось, чтобы вычеркнутые цензором места не оставались пустыми, и чтобы весь набор перед печатаньем соответственно сжимался. Но уже до окончательного освобождения многие газеты демонстративно стали печатать статьи с пустыми местами, показывая читателям, что здесь прошелся карандаш цензора. Бывали случаи, когда цензор выкидывал всю статью целиком; и тогда это произведение появлялось в газете в виде пустого белого столбца, сверху которого стояло заглавие, а снизу – подпись злополучного автора.
К этому способу протеста наш редактор-издатель Федор Егорович прибегал довольно часто; и мы, сотрудники-студенты, сначала относились к подобной смелости с большим уважением. Однако, при первой выдаче гонорара уважение значительно ослабело. За белые места Федор Егорович категорически отказался платить, философски доказывая, что за ничто никто ничего платить не обязан.
И, все-таки, несмотря на такие грустные материальные потери в борьбе с цензурой, мы, авторы, получали моральное удовлетворение. Таинственная белая полоса на месте «передовой» или фельетона волновала читателей и разжигала их любопытство: что там было написано? На какую тему? Хорошо или плохо? Некоторые нервные люди даже заходили в редакцию узнать, о чем говорил автор в своем погибшем произведении. И нужно было видеть, как мы гордились успехом тех статей, которых никто не прочел! Охотно излагали тему и содержание написанного, выражали свое негодование по адресу цензора, и каждый из нас ясно давал понять собеседнику, что не увидевшие света строки были самыми удачными из всех тех, которые когда-либо приходилось писать автору.
Но, вот, прошла осень, наступила зима. Цензурные оковы окончательно пали. Можно было теперь говорить все, обо всем. Без всяких белых пропусков, даже без эзоповского языка с его аллегориями, намеками, двусмысленностями. И – странно! В большинстве провинциальных газет неожиданно почувствовалась какая-то растерянность, даже как будто бы грусть. Все эти Марки Аврелии, Цицероны, Сенеки и Демосфены, всегда жаловавшиеся на то, что цензура держит их за горло, мешает глаголом жечь сердца людей, говорить громогласно все то, что хочется, – все они, вдруг, залепетали что-то несвязное, плоское, перемешанное с простой бранью по адресу правительства или его ужасных сатрапов.
Это парадоксальное состояние, между прочим, наряду с Цицеронами и Сенеками, испытал и я сам, к собственному своему удивлению. Как я ждал этих блаженных минут, когда можно сказать все, что думаешь! А пришел счастливый миг освобождения – и оказалось, что мне, кроме общих фраз, сказать нечего. Хорошо еще было нашему передовику, социал-демократу; у него были брошюры Бебеля, Каутского57, Бернштейна58, Аксельрода59, из которых он мог черпать свое вдохновение. Кроме того, после падения предварительной цензуры, в России появилась масса новых социалистических изданий: «Начало», заменившее прежнюю нелегальную «Искру»; «Новая жизнь», заменившая «Пролетария»; «Северный голос», «Борьба», «Утро»… Наш эсдек мог брать оттуда любые цитаты, чтобы блеснуть эрудицией.
Студент эсер, писавший руководящие статьи, тоже имел под рукой кое-что из Лаврова или Чернова, не говоря о нескольких томах Михайловского, которые он спешно приволок в редакцию. А я, кадет, был предательски брошен на произвол судьбы, так как кадетская партия тогда еще не обзавелась своими собственными брошюрками. Зная, что на мне, как на конституционном демократе, лежит обязанность проводить западные буржуазно-демократические идеи, попытался я написать что-то о великой французской революции по словарю Брокгауза и Ефрона; затем нечто об английской хартии вольностей, о «хабеас корпус»60. Исчерпав это, с отчаяния стал подумывать, не начать ли теперь, при свободе, ряд очерков о методе координат и его биологическом основании, или о влиянии математики на общественно-социальную жизнь…
Но, понимая, что это совсем не материал для газеты, да еще в такое бурное нематематическое время, отбросил я эту мысль, попытался написать что-то такое о демократии в Древней Греции, о падении Римской империи. И – захандрил. Перо – ослабело, стало вялым, бесцветным.
И это заметил даже редактор – Федор Егорович.
– Вы что? Больны в последнее время? – участливо спросил он.
– Нисколько. А что?
– Да у вас, знаете, в фельетонах нет прежней веселости. Напора этого самого…
– А к чему напор, когда все достигнуто? – грустно возразил я.
И меня, после этого, сразу потянуло в университет. К моим родным дифференциалам, интегралам, к вариационному исчислению, к небесной механике…
Распрощался я с милейшим Федором Егоровичем, с коллегами по газете. И уехал в Одессу готовиться к государственным экзаменам.
Издатель Василий Васильевич
В первые месяцы 1906 года повсюду началось успокоение. Восстания во всех главных очагах были раздавлены. Наступил последний конвульсивный этап неудавшейся революции: выступления отдельных террористов и экспроприаторов, подстреливавших из-за угла городовых и с возгласами «руки вверх» грабивших банки и магазины. К этим «идейным» экспроприаторам стали присоединяться и далеко не идейные, обогащавшие налетами не партийные кассы, а свои собственные. И, постепенно переходя из плоскости политической в плоскость чисто-уголовную, революция так тесно сочеталась с подонками общества, что различить, где выступали революционные деятели, a где работали профессиональные грабители, не мог никто, даже полиция. Тем более, что в подражание своим социалистическим коллегам, бандиты тоже стали применять облагороженные методы нападения на буржуазные кассы, бросали консервные банки или коробки от сардин, начиненные взрывчатым веществом.
Эти разбойные нападения окончательно отвратили большинство российского населения от революции. Обыватель уже порядком устал и от «терпения» японской войны, и от нетерпения революционеров, и от забастовок, и от уличных беспорядков, и от вооруженных восстаний. Особенно начал раздражать мирных граждан рабочий класс, который от лести социал-демократов действительно так возгордился, что искренно стал считать себя помазанником Божиим, вместо Царя.
Не даром в России, в кругах умеренных интеллигентов, пользовалась успехом эпиграмма, помещенная в «Русском вестнике», озаглавленная «К решению рабочего вопроса» и в двух строках выражавшая общее отношение общества к социал-демократической диктатуре пролетариата:
«Мне нравятся рабочие,Но нравятся и прочие.»Наш Новороссийский университет был открыт, чтение лекций возобновилось. Но занятия шли вяло, слушателей было немного; студенты социалисты не появлялись в аудиториях, не желая примириться с тем обстоятельством, что революция проиграна и что надо с военного положения переходить на мирное.
В мае состоялись у нас государственные экзамены. В прежние годы обычно бывало, что окончившие собирались где-нибудь, чтобы вспрыснуть завершение курса наук; но у нас расставание с университетом прошло бесцветно и без особого веселья. Все внимание интеллигенции приковано было тогда к шумливой и экспансивной Первой Государственной Думе, открывшейся 27-го апреля.
Окончив физико-математический факультет, я с грустью стал размышлять, что делать дальше? Прежние наивные мечты сделаться математическим светилом, в роде Ньютона, Лапласа, Лагранжа, или хотя бы Лобачевского, рухнули; таких Лобачевских, как я, наши университеты выпускали ежегодно много десятков, если не целую сотню. Но сделаться простым преподавателем гимназии не позволяло мне самолюбие. Такой исключительный молодой человек и вдруг – учитель математики!
И я вспомнил тогда, что если в качестве математика я никому неизвестен, то в литературном отношении – дело другое. Я – Азотнокислый Калий! Это – не что-нибудь… Меня почти весь Кишинев знает. И даже в Бендерах у меня были читатели. Может быть снова заняться газетной деятельностью?
Вот, только, псевдоним мой – «Азотнокислый Калий» мне стал теперь казаться не совсем удачным. Правда, он очень научен и сильно выделяет меня среди всех этих провинциальных малообразованных Горациев, Демосфенов, Альф, Омег, Тарантулов и Оводов; но в нем, все-таки, чувствуется какая-то излишняя химическая тенденциозность. И почему именно Азотнокислый Калий, а не Хлористый Натр или Закись Азота? Пожалуй, если начать писать в одесских газетах, лучше взять что-нибудь более скромное. Но, с другой стороны, приобретенная в Кишиневе слава погибнет. Неудачный, но прославленный старый псевдоним, все-таки, лучше, чем удачный новый, но никому неизвестный.
И вот, после долгих колебаний, решил я пойти на компромисс со своим тщеславием: слово Калий оставил, Азотнокислый отбросил, написал фельетон на какую-то злободневную тему, подписался – и отправился в редакцию местной газеты «Одесский листок».
Издатель этой газеты – Василий Васильевич Н.61 – был замечательным человеком. Начал он свою карьеру простым типографским мальчиком. Но американский склад характера и природный недюжинный ум быстро повели его вверх по пути материального благополучия. Накопив немного денег, а может быть и просто заняв их, он стал печатать скромный листок объявлений различных одесских фирм, брал за эти объявления небольшую плату и разносил свой листок по адресам наиболее состоятельных жителей города, которым раздавал его даром. Через некоторое время в листке стала появляться и местная хроника, которую Василий Васильевич собирал сам. А когда даровые клиенты уже привыкли к подобной благотворительности типографского мальчика, этот последний прекратил, вдруг, бесплатную раздачу листка и сообщил всем старым абонентам, что отныне будет за каждый номер брать деньги.
Вознегодовали богатые одесситы, что типографский мальчик перестал для них даром трудиться; покряхтели, почесали затылки, но делать нечего – привычка уже создалась, пришлось подписаться.
И через несколько лет, вместо маленького «Листка объявлений», выходила уже довольно большая газета с разнообразным материалом. А прошло еще некоторое время – и у талантливого русского американца возле городского театра вырос огромный дом, с собственной типографией, печатавшей одну из самых солидных провинциальных газет, в которой писал «сам» Влас Дорошевич.
Будучи неизмеримо умнее моего кишиневского редактора Федора Егоровича, Василий Васильевич сам свою газету не редактировал, сознавая, что для этого у него не хватает образования. Предоставив это дело опытному журналисту, он занимался только издательской стороной предприятия, a кроме того по старой памяти зорко следил в газете за хроникой, которую справедливо считал своей специальностью. И горе тому репортеру, который пропускал какое-нибудь известие, о котором сообщала конкурирующая газета «Одесские новости»! Разъяренный Василий Васильевич был тогда весь как Божия гроза.
Обычно рано утром, позавтракав, он спускался из своей квартиры в редакцию, брал свежий номер «Одесского листка», прочитывал хронику и на полях, против заметок своих репортеров, писал карандашом резолюции:
«Финкель! Узнать об этом деле достоконательно!»
Или еще проще:
«Файвилевич! Что это за ерунда?»
После подобного просмотра хроники Василий Васильевич приказывал подать свои дрожки и совершал обычный ежедневный объезд города. Сначала останавливался он около собора, совершал там краткую молитву, a затем ехал смотреть, все ли в Одессе в порядке и на своем месте. Чувствовал ли он себя при этих объездах чем-то в роде полицеймейстера, или градоначальника, трудно сказать; но объезд совершался добросовестно и очень внимательно. С высоты своих дрожек Василий Васильевич пытливым взглядом осматривал базары, товары уличных торговцев, витрины магазинов; смотрел, есть ли уже посетители в кофейнях, много ли прохожих на улицах, благополучно ли происходит движение трамвая… И затем возвращался в редакцию, где обсуждал с редактором программу следующего дня.
По вечерам Василий Васильевич обычно посещал театры, приглашая гостей в свою постоянную ложу. А знакомства у него были огромные, и в артистическом мире, и в промышленном, и среди местной администрации. Иногда он устраивал у себя званые вечера или банкеты, и особенно пышно праздновал день своего Ангела 1-го января62. На этих именинах обедало у него несколько десятков человек, главным образом оперных и драматических артистов. Обычно он редко выступал с речами, удерживаемый от них своей интеллигентной и светской супругой; но на именинах, после нескольких бокалов и рюмок того или этого, язык его развязывался, задерживающие центры в виде директив жены ослабевали, и он был тогда не прочь выступить с каким-нибудь импровизированным спичем. Говорил он всегда умно, нередко – остроумно, но очень часто неправильно с точки зрения употребления слов.
Как-то 1-го января среди приглашенных собрались у него три представителя семьи Петипа: сам Мариус Мариусович, гостивший тогда в Одессе, и драматические актеры – Горелов и Радин. Польщенный присутствием такого знаменитого гостя, как Мариус Мариусович, Василий Васильевич был особенно весел. Хлебнув для большего красноречия лишнюю рюмку чего-то, он встал и с сияющим лицом проговорил:
– Милостивые господа и государыни! Я очень счастлив, что среди нас сегодня находится такой замечательный человек… Это, господа, сам Мариус Мариусович, главный выродок семьи Петипа!
С точки зрения политической Василий Васильевич был человеком умеренных взглядов и причислял себя к кадетам, но не потому, что подробно изучил программу этой партии, а потому, что против кадетов была местная левая газета «Одесские новости». Чтобы придать особый политический вес своему изданию, он решил сделать из него официальный кадетский орган и пригласил в состав сотрудников нескольких местных профессоров – лидеров партии. Профессора должны были собираться время от времени на редакционные собрания с чаем и булками и намечать вместе с редактором ряд вопросов, подлежавших освещению в газете.