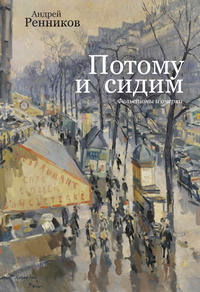Полная версия
Было все, будет все. Мемуарные и нравственно-философские произведения
– Что с вами? – участливо спрашивали меня знакомые. – Не катар ли желудка?
– О, нет. Пишу роман… небрежно отвечал я.
Наконец работа выполнена. Озаглавил я рукопись словами «Сеятели Вечного»; в подзаголовке написал «сатирический роман», чтобы читатели сразу знали, в чем дело; и на свой счет издал книгу у Вольфа в Петербурге. В Одессе печатать не хотел, так как на провинциальные издания у нас смотрели с пренебрежением.
Получив от Вольфа часть экземпляров, стал я их рассылать во все стороны для отзыва. Разослал массу; в столичные газеты и журналы, по провинции, отдельным выдающимся писателям, публицистам, литературным критикам. Не обошел своим вниманием, разумеется, ни Мережковского, ни Бунина, ни Куприна, ни Леонида Андреева, ни Буренина80, ни Меньшикова81…
И, заходя в редакцию «Одесского листка», стал настойчиво искать на столбцах всех получавшихся там изданий: что обо мне пишут в России?
Прошло около двух месяцев – а в России обо мне никто ничего не писал. A затем в некоторых юго-западных и северо-западных газетах стали, наконец, появляться рецензии. И все были – ругательные.
Одни рецензенты говорили, что подобный роман – позор для русского печатного слова. Другие – что такой бездарной вещи они никогда не встречали. Третьи – что это не роман, а отвратительный пасквиль… А что касается столичных газет и журналов, то те обидели меня еще больше: они вообще не дали никаких отзывов. Так же, как и корифеи литературы. Не отозвались ни Мережковский, ни Бунин, ни Куприн, ни Андреев, ни Горький, хотя я всем им при отправке книги написал очень милые сопроводительные письма и дал свой точный адрес: «Одесса, Торговая, номер 10, дом Руссова».
Может быть почта небрежно работала? Оскорблен я был подобным отношением к себе до крайней степени. Ну, хорошо, пусть произведение мое неудачно. Допустим. Но к чему злоба и беспощадность в оценке? Что я им сделал? Кому стал на пути? Может быть это – черная зависть?
Перестал я зачесывать волосы назад, стал снова стричься «ежиком»; сбросил с лица томное выражение, сопровождавшее общение с музой. Погрузился в мрачную меланхолию.
И, вдруг, как-то раз получаю письмо. На штемпеле – Царское Село. А внутри – бисерным почерком несколько страниц. И подпись: М. Меньшиков.
Ура! Меньшиков! Тот самый знаменитый Меньшиков, которого не только друзья, но даже враги считали самым блестящим публицистом в России. Удивительный талант, превзошедший по форме, по несокрушимой логике, по глубине анализа и Герцена, и Михайловского, и А. С. Суворина82. И от него письмо!
Подлинник у меня, понятно, не сохранился. Но содержание было приблизительно следующее:
«Многоуважаемый A. M. Я не знаю, кто Вы. И Вашего имени нигде не встречал. Вообще я романов теперь не читаю, они не стоят того, чтобы на них тратить время. Но, на Ваше счастье, недавно я простудился, слег в постель, доктора запретили временно мне всякую работу, а тут с почты принесли Вашу книгу. Хотя у меня был жар, – а может быть именно потому, что был жар, но роман Ваш мне понравился. Не буду Вас сравнивать с Тургеневым или Достоевским, но если Вы еще не очень стары, то из Вас, пожалуй, выйдет толк. Удивляюсь только Вашей смелости, или наивности: как Вы рискнули среди прочих отрицательных типов описать нескольких провинциальных журналистов-евреев, не скрыв от читателя их национальность? Каждый современный русский беллетрист может выставлять сколько угодно негодных личностей русского, французского, немецкого происхождения. Но отрицательный тип, взятый из еврейской среды, – это гроб для автора. Такому автору дорога в русскую литературу закрыта. Ведь евреи исключительно обидчивые люди: заденешь одного из них, а они уже считают, что оскорблен весь народ. Не даром наши сообразительные писатели выставляют в своих произведениях только хороших евреев. У Куприна – идеальный Яшка; у Чехова – страдающая героиня в одной из пьес; У Арцыбашева83 – неудовлетворенный окружающим мещанством еврей, кончающий самоубийством; а Чириков84 постарался целую пьесу посвятить ужасам еврейских погромов!.. Исходя из того, что Вы в своей книге смеетесь над всеми, я не думаю, чтобы Вы были антисемитом. Но этот ярлык обязательно пришьют Вам рецензенты, ознакомившиеся с Вашим романом.
Между прочим, если хотите, я могу переговорить с редактором “Нового времени” и устроить Вас сотрудником нашей газеты. Судя по Вашему произведению, Вы хорошо знаете газетное дело н, наверно, сами работали в провинциальных изданиях. Напишите мне, принимаете ли Вы мое предложение…»
Раз десять, двадцать, a может быть и тридцать перечел я письмо Меньшикова и один, и вместе с женой. Немедленно ответил, что с радостью перееду в Петербург, что работать в «Новом времени» мне будет очень приятно. А если что меня смущает, то это мой преклонный возраст: мне уже 29 лет, и едва ли я смогу значительно усовершенствоваться в литературном отношении.
В ответном письме Меньшиков сообщил мне, что мой преклонный возраст его не пугает, что он благословляет меня на переезд. И через месяц мы с женой были уже в Петербурге.
Но какое свинство! Неужели рецензенты ругали меня именно за антисемитизм? Ведь я никогда в жизни антисемитом не был!
Петербург
«Люблю тебя, Петра творенье,Люблю твой строгий, стройный вид…»В сердце каждого, кто родился и постоянно жил в Петербурге, всем известное вдохновенное обращение поэта к родной столице вызываете восторженный отклик. Державное течение Невы; прозрачный сумрак белых ночей со спящими громадами дворцов, с отблеском адмиралтейской иглы; две зари, сменяющие друг друга; недвижный воздух и мороз жестокой зимы; бег санок вдоль Невы… Как все близко и дорого коренному петербуржцу!
Но провинциал, попадавший в Петербург, ощущал это очарование не сразу. Южанину с берегов Черного моря летнее небо казалось здесь скромным и бледным: солнце – чопорно-сдержанным; весна – застенчиво-скромной, таящей про себя радость возрожденья природы: и осень – слишком унылой, со мглой туманов, с моросящим дождем; и северное море – бесцветным.
И даже гордость Петербурга – белые ночи, с их беззвучными сказками, были непонятными, чуждыми, вызывавшими не волшебные сны, а нервность бессонницы.
Не скоро уроженцу юга во всей полноте раскрывалась колдовская прелесть столицы. Долго тосковал он по своим летним ночам с темным небом черного бархата; по огненным лучам июльского солнца; по буйной весне, по густому темно-синему морю…
Но проходил срок – и расцветала любовь к красавице севера. Закреплялась навсегда, до последнего вздоха. И в восторженном созерцании и в сладостных воспоминаниях.
Коренные петербуржцы любили свою столицу от рождения – как мать. Петербуржцы же, родившиеся вдалеке от нее, влюблялись в нее: была она для них вечной невестой.
Помню – приехав сюда в конце лета 1912 года из Одессы, был я удивлен и даже огорчен унылым видом столицы. Серое небо, серые здания. На улицах, несмотря на множество народа, как будто бы пусто. Нет столиков на тротуарах возле ресторанов, кондитерских. И все сдержанно, тихо, без всякого оживления. Вместо широких улыбок – серьезные лица. Вместо громкого говора – едва слышная речь. А главное – где полные жизни и смысла одесские жесты?
Одессит, когда говорит, выражает мысли всем своим организмом: и глазами, и бровями, и шеей, и руками, и ногами, и, в придачу, разумеется, языком. А петербуржец разговаривает так, как одессит молчит; не мелькают в воздухе руки, не работают локти, не подергиваются плечи, ноги не принимают участия в беседе. И никто не теребит пуговиц на чужом пиджаке, когда нужно передать особо важную мысль.
И, вообще… Каким безучастно-холодным ко всему показался мне Петербург после провинции! Жители больших домов не знают, кто живет в соседней квартире. На улицах редко кто с кем раскланивается, так как знакомые редко встречаются. Во время очередных сенсаций или происшествий никто не собирается на углах улиц, не комментирует событий с азартом, с горячностью. И все равнодушны к тому, кто прошел мимо или проехал. У нас, в Одессе, едет прокурор Палаты – и все оборачиваются. Промчался полицеймейстер – все глядят вслед. А тут – мелькают министры, губернаторы, приехавшие по делу в столицу, сенаторы, члены Государственной Думы, знаменитости оперы, драмы, живописи, литературы… И почти никакого внимания.
Стоит ли после этого быть знаменитостью, или играть большую роль в жизни страны?
Через несколько дней после приезда в Петербург отправился я с визитом к М. О. Меньшикову в Царское Село.
Разумеется, волновался перед этой поездкой изрядно.
Впоследствии Меньшикова узнал я достаточно хорошо, сохранил о нем трогательное воспоминание. Но до личного знакомства были у меня о нем самые противоречивые сведения. Правые, конечно, превозносили его. Левые же, наоборот, бранили с яростью и во всех отношениях. Называли Иудушкой в политике, Плюшкиным в жизни. Но и те, и другие считали его по дарованию выше всех блиставших в то время публицистов и фельетонистов: А. С. Суворина – «Незнакомца», и Сергея Атавы85, и Буренина, и Амфитеатрова86, и Сигмы-Сыромятникова87, и Дорошевича88.
Однако в силу того, что правая печать была у нас значительно менее популярна, чем левая, то либеральному общественному мнению Меньшиков представлялся каким-то чудовищем, средоточием всего того ужасного, что может заключаться в одном человеке.
Жил он скромно, замкнуто, экономно, несмотря на то, что получал огромный гонорар – около четырех тысяч рублей в месяц. И это давало повод говорить, что он феноменально скуп, что жалеет даже брать извозчика или покупать железнодорожный билет.
Обладал Меньшиков удивительной работоспособностью, умел изумительно быстро ориентироваться в обильных источниках для своих статей. И это создавало слух, будто у него имеется несколько секретарей, помогающих ему готовить очередной материал.
Меньшиков, к голосу которого прислушивались и с которым считались все видные бюрократы, начиная с министров, по общечеловеческой слабости любил, чтобы ему со стороны этих лиц оказывались знаки внимания. Зная это, многие министры, особенно вновь назначенные, делали ему визит, сообщая в беседе о главных линиях своей будущей деятельности. А это порождало нелепые толки о закулисной связи Меньшикова и вообще «Нового Времени» с правительством.
Наконец, бранили Меньшикова за то, что сначала писал он в левом журнале «Неделя» Гайдебурова89, a затем стал сотрудником консервативного «Нового времени». Называли его изменником, «ренегатом».
А, между тем, виноват ли был Меньшиков, что, развивая свое блестящее дарование, он не глупел, a умнел? Мы что-то не встречаем в истории русского и даже мирового журнализма, чтобы публицисты большого калибра, углубляя свои знания и опыт, переходили из правого лагеря в левый. Поправение есть признаки нормального развития всякого честно-мыслящего человека. Полевение же – в лучшем случае признак дегенерации.
Если употреблять жуткое слово «ренегат», то ренегатов у левых было немало, и даже таких, которыми может гордиться Россия. «Ренегатом» оказался Достоевский, который от кружка петрашевцев дошел до «Дневника писателя» и до кабинета «Гражданина» князя Мещерского90. В ренегатстве пытались обвинять Тургенева за его «Отцов и детей» и за «Новь». Ренегатом оказался до некоторой степени Лесков, которого левые ожесточенно травили за роман «Некуда», в котором автор осмелился описать распад «Знаменской Коммуны» нигилистов. О ренегатах Каткове и Льве Тихомирове91 говорить нечего: Катков, бывший в молодости радикалом, стал ярым противником нигилизма и сепаратизма, за что и был предан анафеме в левых кругах. Лев Тихомиров из революционера-террориста превратился в сотрудника «Московских ведомостей».
А в последнее время перед революцией – Струве92, Булгаков93, Франк94 и прочие социалисты, сменившие вехи? A после революции, в эмиграции, сколько поправевших, хотя бы Арцыбашев, Амфитеатров, Тыркова95, Мережковский?
Поэтому как-то странно видеть людей, остающихся социалистами до глубокой старости. Они кажутся застарелыми гимназистами или студентами, на которых многолетний жизненный опыт не произвел никакого впечатления. В рассуждениях этих социалистических старцев всегда чувствуется своеобразный склероз мышления. Подобные старики – меньшевики или эсеры, если они искренни, до некоторой степени напоминают престарелых поэтов, пишущих дрожащими руками любовные вирши. Социализм, анархизм и нигилизм, как и любовная лирика, извинительны только в молодости. Но они сильно компрометируют голову, украшенную почтенной сединой.
Меньшиков принял меня очень любезно. Наружность его была не представительна. Маленький рост, большая голова, жидкая бородка, очки на носу. Сидел он в кресле, поджав под себя одну ногу. Говорил неторопливо, тем усталым, слегка разочарованным тоном, каким говорят обычно люди, избалованные успехом и общим вниманием.
По молодости лет, я думал, что мне следует сразу же рассказать ему свою биографию, чтобы он понял, какой я умный и образованный. Но Меньшиков без особого стеснения ликвидировал мой монолог.
– Я вам дам рекомендательное письмо к главному редактору Михаилу Алексеевичу Суворину, – сказал он. – Вы заранее напишите фельетон, и лучше не один, а два или три, и захватите с моим письмом. Только… вы хорошо ли обдумали, куда поступаете? – неожиданно добавил он, пытливо взглянув на меня.
– То-есть… как?
– Имейте в виду, что быть нововременцем – это в русской литературе клеймо. С нашим клеймом вас уже ни в какой толстый журнал или в книгоиздательство, кроме суворовского, не пустят. Если вы напишете книгу, ни в одной левой газете об вас никакого отзыва не дадут, даже ругательного. Левый лагерь, от которого зависит в России успех или неуспех писателя, накладывает на нововременца настоящее библейское прещение до седьмого поколения. Всероссийская критика приговаривает нас к гражданской смерти. К такой расправе, например, над Лесковым открыто призывал в печати Писарев, прося критиков не писать о Лескове абсолютно ничего, ни хорошего, ни плохого. И вы, наверно, замечаете, что этот прекрасный писатель, в силу отсутствия благожелательных отзывов, сравнительно мало читается. А вот Чехов… Если бы он вовремя не ушел от нас, так бы и остался простым Чехонте. Амфитеатров от нас тоже перешел к левым, чтобы выплыть на большую воду. Да это все и понятно, и строго осуждать нельзя, – со вздохом добавил Меньшиков. – Ведь живопись, литература, музыка – своего рода оранжерейные цветы, которым нужен и уход, и поливка. Самостоятельно и независимо они не в состоянии существовать. Для обывателей цветы только предмет роскоши, без которого они прекрасно могут существовать, кроме редких случаев похорон и свадеб. В прежние времена, когда существовали тираны, дожи, курфюрсты, короли-меценаты, – художники, поэты, композиторы пристраивались к ним, чтобы творить. И у нас, в России, пока все зависело от крепкой императорской власти, поэты писали оды царям. А теперь, когда признание и средства к существованию зависят не от флорентийских властителей или российских Фелиц, а от международных банкиров и революционной печати, все представители литературы и искусства принуждены искать почвы и поливки в либерально-социалистических кругах…
Меньшиков еще некоторое время продолжал развивать свою мысль. Затем снял ногу с кресла, встал и с некоторым сожалением посмотрел на меня.
– Ну, что же? – спросил он. – Не боитесь?
– Ничуть, – покраснев, отвечал я.
– В таком случае, с Богом. Я сейчас напишу письмо.
«Новое время»
Довольно мрачный снаружи, огромный темно-серый дом в Эртелевом переулке, номер шестой. Редакция – в первом этаже. Просторная передняя; слева – большой зал с гигантскими зеркалами, с глубокими кожаными креслами; кабинеты главного редактора и его помощника; длинный коридор, в который выходят многочисленные комнаты для отдельных сотрудников, для хроники, телеграмм, отдела внутренних известий. После провинциальных газет кажется, будто это не редакция, а департамент какого-то необыкновенного министерства.
С замиранием сердца вошел я в переднюю и был встречен редакционным курьером.
– Вам кого? – спросил он, увидев, что я беспомощно озираюсь по сторонам, вертя в руке конверт.
– От Михаила Осиповича Меньшикова… К господину Суворину.
Курьер взял письмо, удалился и вернулся минуть через десять, которые показались мне весьма продолжительными.
– Пожалуйте.
Кабинет Суворина, несмотря на свои размеры, казался тесным от громоздкой старинной мебели, от полок с блестящими переплетенными книгами, от тумб со статуями. На стенах – картины известных русских художников. Сам Михаил Алексеевич сидел за столом, на котором вздымался ворох типографских оттисков, и ожесточенно перечеркивал красным карандашом гранки со статьями сотрудников.
«Какая расправа! – со страхом подумал я, глядя на карандаш. – Не к добру это!»
– Я прочел письмо Михаила Осиповича, – строго произнес Суворин, внимательно глядя на меня сквозь пенсне. – Вы – из Одессы?
– Да… – нерешительно отвечал я, почувствовав в слове «Одесса» некоторое пренебрежение и недоверие. – Но я не одессит. Только учился в университете… А раньше, на Кавказе…
Мою попытку рассказать свою биографию он, как и Меньшиков, пресек в самом начале.
– Да, да. Это неважно. Вы принесли что-нибудь?
– Вот это… Маленькие фельетоны.
– Давайте.
Суворин с безразличным видом углубился в чтение. Пока он читал, я то краснел, то бледнел. От волнения ладони стали влажными. Как-никак – решалась моя судьба. А он продолжал читать с каменным видом и не улыбался. Пропало мое дело!
– Что же… Недурно, – произнес, наконец, он. – Это пройдет. А остальные придержите у себя, мне некогда. Только что здесь за подпись: «Калий»? В чем дело?
– Мой псевдоним, Михаил Алексеевич… Из химии…
– Нет уж, пожалуйста. Без всякой химии. Тут вам не Одесса. Вот, Михаил Осипович пишет вашу фамилию. Какая-то длинная. Сократите ее и сделайте псевдоним. Сядьте в сторонку, подумайте. А я буду работать.
Он продолжал свое прежнее страшное занятие – черкать гранки накрест карандашом. Как потом я узнал, все статьи сотрудников, ненапечатанные на машинке, для удобства чтения редактором и помощником сначала посылались в типографию, a затем уже читались в оттисках и одобрялись или браковались.
– Ну, что? – спросил через несколько минут Суворин. – Как дела?
– А вот, колеблюсь. Может быть, подписываться: Тренников?
– Тренников? Не особенно… Будут вас называть Тренников-Бренников.
– В таком случае – Ренников?
– Ренников? Что же… Хотя Хренникова напоминает, но можно. Подпишите. А теперь идемте к моему помощнику Мазаеву. Я вас познакомлю, и вы обычно будете приносить свои рукописи ему.
Помощник главного редактора Михаил Николаевич Мазаев96 оказался очень милым меланхолическим человеком. Он положил одобренный Сувориным фельетон на стол, предложил сесть и молча уставился на меня своими добрыми усталыми глазами. Эти глаза, как мне показалось, с покорной грустью говорили: «Вот еще один лишний человек, который будет мне надоедать».
Почувствовав в Мазаеве деликатного и безропотного собеседника, я немедленно начал рассказывать ему свою биографию. И он поступил со мною совсем не так резко и безжалостно, как Меньшиков или Суворин. Мило кивал головой, грустно улыбался и о чем-то усиленно думал, время от времени заглядывая в какую-то лежавшую перед ним чужую рукопись.
И, вот, с того дня стал я сотрудником «Нового времени». Однако, странное дело. Прежде, в провинции, писал я непринужденно, легко, не задумываясь над тем, что скажет читатель. А здесь, в продолжение долгого времени, садился за фельетон и ощущал какую-то робость. Напишешь, и самому не нравится. Перечеркнешь, начнешь заново – опять нехорошо. И, главное – никакого контакта с теми, для кого стараешься. Бывало, в Одессе, а особенно в Кишиневе, – выйдешь на улицу, встретишь знакомого, и сразу догадаешься, понравилась ли ему моя очередная статья, или нет. Если сам о ней заговорит, значит неплохо; если же станешь разговор наводить на нее, a собеседник увиливает и говорит о погоде или об общих знакомых, значит дело неважно.
А тут, в «Новом времени», тираж около ста тысяч. Если одну газету читает на круг пять человек, то полмиллиона критиков. И каких! Премьер-министр, министры, придворные чины – камергеры, шталмейстеры, егермейстеры, не считая камер-юнкеров; затем – члены Государственного Совета, сенаторы, члены Святейшего Синода, директора департаментов, губернаторы, жены их, дети, родственники… Есть от чего взволноваться!
Пишешь для них, дрожит в руке перо. И хотя сидишь в своем кабинете один, все равно – страх охватывает. Кажется, будто из одного угла смотрят сенаторы, из другого губернаторы, из третьего члены Святейшего Синода и с негодующим удивлением говорят: «Кто это еще появился? Почему веселится? Кому это надо?».
С ужасом увидел я, что из-за подобного страха статьи мои стали выходить бледными. А, в довершение всего, печатали их редко. Как-то раз, встретив в редакции Меньшикова, я решил пожаловаться ему на свое тяжелое положение.
– А почему вы волнуетесь? – с удивлением спросил Михаил Осипович. – Вам, ведь, определили жалованье?
– Да.
– Вот и будьте довольны. А что редко печатают, не беда. У нас так много сотрудников, что нельзя удовлетворить всех. Вы должны писать непрерывно; бить, так сказать, как фонтан. Ну, а редактор иногда подойдет к вашему бассейну и зачерпнет.
Фонтан Меньшикова меня, разумеется, не утешил. Но делать нечего. Начал я писать каждый день; некоторые статьи сам браковал, некоторые браковал Суворин, перечеркивая их своим зловещим карандашом; но некоторые, все-таки, проходили. Как я заметил, к «Новому времени», как к газете солидной и в некоторой степени «величественной», к голосу которой прислушивалась вся Россия и чужие державы, не подходила та легковесность и развязность, с которой писали провинциальные газетные авторы.
Так, в упорной работе над выработкой хорошего петербургского тона прошло у меня несколько месяцев. И, вдруг, – о, радость! Пришел счастливый день, когда я отличился перед всеми сотрудниками и всеми читателями:
Из-за моего фельетона издательство Суворина оштрафовали на три тысячи рублей!
Произошло это радостное событие так. Написал я о С. Д. Сазонове97 статью, обвиняя министра иностранных дел в провале нашей политики на Балканах в вопросе о Боснии и Герцеговине. Михаилу Алексеевичу фельетон понравился, но он у себя в «Новом времени» напечатать его не решился и передал своему брату Борису в «Вечернее время». В фельетоне Сазонов изображался в довольно карикатурном виде. Задорный и смелый Борис Суворин статью напечатал немедленно, без колебаний. А на следующий день получил из министерства внутренних дел через цензурный комитет извещение, что его газета подвергнута штрафу.
Такие случаи бывали и раньше. Не только «Вечернее время», но и более сдержанное «Новое время» за время своего существования нередко подвергались административным карам в виде предупреждений, запрещения розничной продажи и штрафов, что явно указывало на полную независимость этих газет от правительства.
Дня два спустя после моей статьи к нам в контору явился полицейский чиновник и потребовал уплаты штрафа.
– Вот, пожалуйста, – любезно ответил заведующий, который действовал по инструкции Бориса Суворина. – Получите.
И он галантным жестом указал чиновнику на два огромных тяжелых мешка, перевязанных сверху веревкой.
– То есть, что это? – изумился представитель власти.
– Причитающиеся правительству три тысячи. В медных монетах.
– Позвольте, но я в таком виде не желаю принять!
– Простите… В каком виде получаем от читателей, в таком и выдаем. А если вам самому трудно, вызовите городовых или пожарных.
В день оштрафования газеты чувствовал я себя бенефициантом.
Все шутливо поздравляли, жали руку. Меньшиков, встретив меня в редакции, одобрительно похлопал по плечу.
И с тех пор статьи мои в «Новом времени» стали появляться все чаще и чаще. Спасибо цензурному ведомству!
А. С. Суворин
Мне было очень жаль, что я не застал в живых знаменитого Алексея Сергеевича Суворина. Он скончался за несколько месяцев до моего поступления в «Новое Время».
Память о нем была еще жива в редакции. Про покойного редактора часто говорили, вспоминали с любовью и с уважением.
До основания своего «Нового времени» Алексей Сергеевич был сотрудником «Санкт-Петербургских Ведомостей» Корша98, и его талантливые фельетоны за подписью «Незнакомец» пользовались уже тогда большим успехом. Однако, молодого энергичного журналиста не удовлетворяла работа в чужой газете. Его мечтой было создать свой собственный печатный орган, в котором он мог бы быть вполне независимым.
И, вот, в 1876 году представился случай купить по дешевой цене небольшую, влачившую жалкое существование газетку «Новое время», издававшуюся Киркором99 и Трубниковым100. Суворин сразу преобразовал дело. Отмежевался от прежнего издательства в передовой статье своего первого номера, выпущенного 29-го февраля, в день Кассиана; пригласил в число сотрудников наиболее талантливых старых коллег по «Петербургским ведомостям» – Виктора Петровича Буренина, К. А. Скальковского101, Софью Смирнову102, Б. В. Гея103, – и газета сразу привлекла внимание публики.