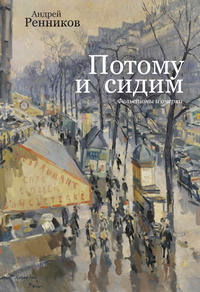Полная версия
Было все, будет все. Мемуарные и нравственно-философские произведения
– Гейман скончался?.. – не зная, что сказать, удивленно переспросил я. – А отчего?..
– Если вам интересно, – от дифтерита. Но это в данном случае не играет роли. Я, разумеется, не вмешиваюсь в вашу систему преподавания. Куда нам, старикам, угоняться за молодежью! Но, по-моему, все-таки, превращать уроки в спиритические сеансы и вызывать души умерших, чтобы поставить им соответственный балл, это – простите. Это не предусмотрено никакими инструкциями Министерства народного просвещения!
Ушел я с педагогического совета совершенно уничтоженный. Точно меня высекли. И пошел жаловаться своему профессору.
– Николай Николаевич, – взмолился я. – Освободите меня от этого дела! Я совсем неспособен быть преподавателем!
– Ничего, ничего, – успокоил меня профессор. – Мало ли кто не способен, а учить? Потерпите немного.
Делать было нечего. Пришлось повиноваться, чтобы не рассердить Николая Николаевича.
Урок психологии
Продолжая, по настоянию профессора, преподавать психологию в гимназии, я все ждал повода, чтобы освободиться от этого тяжкого дела. И, вот, наконец, случай представился.
Нужно сказать, что к «лекциям» своим я относился весьма добросовестно. Всегда сам готовился к очередному уроку, заранее придумывал различные опыты, чтобы заинтересовать слушателей. При объяснении строения глаза попутно показывал, как при помощи двух крестиков, начерченных на бумаге в некотором расстоянии друг от друга, можно обнаружить существование слепого пятна на сетчатке; при разборе зрительных иллюзий развешивал на доске чертежи особых лестниц со ступеньками или параллельных линий, пересеченных многочисленными острыми углами. Это значительно оживляло уроки и иногда действительно привлекало внимание учеников.
И, вот, в конце второй четверти, незадолго до Рождества, рассказал я им об ощущениях, о представлениях, перешел к изложению отдела о внимании, о памяти.
И тут-то пришло избавление.
Начало лекции миновало благополучно. Сообщил я ученикам о внимании произвольном, возникающем благодаря интересу к какому-нибудь представлению или ряду представлений; затем – о внимании непроизвольном, вызываемом внезапно и неожиданно возникающим раздражением. Перешел к «объему» внимания, который всегда бывает более или менее ограниченным и не может вместить в себя одновременно слишком много представлений, особенно имеющих противоречивый характер… И решил в доказательство этой ограниченности объема привести один общеизвестный пример.
– Господа! – обратился я к своей скучающей аудитории. – Вот, пусть кто-нибудь из вас попробует проделать следующий опыт: станет на открытое место и начнет вращать ногой в одном направлении, а рукой – в другом. Как вы увидите, без особого усилия воли ваше внимание не охватит оба движения, и рука с ногой начнут двигаться в одном направлении. Пташкин! – добавил я, обращаясь к толстяку, фамилию которого уже хорошо помнил. – Пожалуйте к кафедре!
Пташкин, в это время мирно дремавший, испуганно раскрыл глаза, поднял голову и обиженно встал с места. Другие же ученики насторожились. Кое-кто прекратил чтение детективного романа, кое-кто прервал писание писем родным и знакомым.
– Вы поняли, в чем дело? – спросил я Пташкина, когда тот, сопя и вздыхая, остановился возле меня.
– Не совсем, – произнес тот сонным голосом. – Меня не было в классе…
– Как не было? Ведь вы же сидели за партой!
– Да, но я в некотором смысле отсутствовал…
– В таком случае, слушайте. Для доказательства того положения, что внимание с трудом может охватить группы противоречивых ассоциаций, сделайте так: станьте сначала твердо на обе ноги и не раскачивайтесь.
– Попробую, – сипло отвечал он.
– Теперь поднимите правую ногу и начните ею вращать по часовой стрелке.
Пташкин лениво оглянулся по сторонам, как бы отыскивая часы, чтобы посмотреть на стрелку; но затем сообразил, в чем дело, апатично взглянул на свою правую ногу и стал неопределенно ею двигать.
– Не так! – Остановил его я. – Не взад и вперед, а по кругу!
– Можно по кругу.
– А теперь, продолжая двигать ногой, протяните вперед правую руку и вращайте ею, но не по часовой стрелке, а наоборот.
Вполне пришедший в себя после сна Пташкин уже освоился с окружающей действительностью и понял, что от него требуется. Он покорно начал производить рукой и ногой нужные движения; но, почувствовав, что это не удается, запыхтел, закачался… И затем, подпрыгнув на месте, беспомощно рухнул на пол.
Падение Пташкина послужило сигналом ко всеобщему ликованию. Раздались крики: «браво!» «бис»! «Да здравствует психология!». Все вскочили с мест, чтобы лучше рассмотреть лежавшую на полу жертву объема внимания. И отовсюду понеслись возгласы с предложением услуг:
– Я хочу!
– Разрешите мне!
– Я тоже умею!
Не успел я ввести в надлежащее русло возникший буйный интерес к опыту, как около десятка молодых психологов без моего разрешения кинулось к кафедре. Заполнив все пространство между мною и партами, они начали кружиться в диком танце, вращая руками, ногами и затем с грохотом падая на пол. Постепенно возле кафедры образовалась груда человеческих тел, с конвульсивно двигавшимися конечностями, напоминавшими псевдоподии корненожек.
– Господа! Голубчики! – растерянно бегая вокруг извивавшихся на полу слушателей, восклицал я. – Это безобразие! Вставайте! Прошу вас!
А в то время, как у меня в классе происходили указанные практические занятия по психологии, в соседней комнате, служившей кабинетом директора, происходил прием посетителей. Обычно посетителями были родители, вызванные Юнгмейстером в связи с печальными успехами их детей. На этот раз в кабинете восседал один местный бюрократ высокого ранга, с которым директор был очень почтителен, хотя и сам состоял в чине действительного статского советника.
Беседа шла о беспутном сыне этого гостя.
– Я делаю все, что возможно, ваше превосходительство, – с любезным, но грустным видом говорил Юнгмейстер. – Нередко прошу преподавателей оказать ему снисхождение. Иногда даже настаиваю. Но я не имею права сам повышать ему баллы! A ваш сын принципиально не хочет ни по одному предмету получать отметки выше двоек.
– Ну, я не думаю, ваше превосходительство, что это основано у него на каком-нибудь принципе, – заступился за своего сына отец. – А ведет он себя, разумеется, возмутительно. Я просто теряюсь, что мне делать с этим негодяем. Нельзя же пороть двадцатилетнего парня!
– Да, пороть, ваше превосходительство, в таком возрасте затруднительно, – задумчиво согласился директор. – Я и так сквозь пальцы смотрю на то, что он в каждом классе остается на второй год. А пороть не только великовозрастных, но даже малолетних сейчас не в моде. Сами знаете, какие веяния. А, может быть, вы бы, ваше превосходительство, с вашим авторитетом попытались воздействовать на него убеждением?
– Убеждением! – горько произнес его превосходительство. Вы думаете, я не пробовал? И кричал, и топал ногами… Но что поделаешь, когда моя супруга души в нем не чает и во всем ему потакает? Нет, ваше превосходительство, это уж ваше дело – воспитывать своих питомцев и делать из них приличных подданных Царя и отечества.
– Простите, ваше превосходительство, но формирование детского характера слагается из двух друг друга дополняющих факторов: семьи и школы. Школа занимается по преимуществу образованием юношей, а семья – воспитанием. Когда молодой человек находится в стенах нашего заведения, за его поведение и успехи отвечаем мы. Но когда он пребывает в лоне семьи, за его воспитание отвечает уже не школа, а семья.
– Позвольте, ваше превосходительство! Но мой сын получает двойки в стенах вашего заведения. Значит за эти двойки отвечаете вы?
– Извините, ваше превосходительство! Уроки то он готовит не у нас, а у вас! И, кроме того, очень часто ваш сын, ваше превосходительство, говорит вам, что идет в гимназию, а на самом деле обретается где-то в неизвестных местах. Мы не можем отвечать за эти случаи!
– Да, но он в этих случаях находится уже не в семье, так как пошел к вам!
– Да, но он в этих случаях не дошел до нас, ваше превосходительство! И значит, не считается находящимся у нас!
– Где не считается? – приложив ладонь к уху, переспросил гость. – Не слышу!
– Я говорю, ваше превосходительство, что поскольку ваш сын не дошел…
– Погодите… Не разбираю… Кто не дошел?
Гость с удивлением взглянул на стену, отделявшую кабинет директора от моего класса, и смолк. Из-за стены, оказавшейся довольно тонкой перегородкой, доносился какой-то рев, смешанный с топотом ног, сопровождаемый отдельными дикими выкриками. Растерявшийся Юнгмейстер вскочил с места и, догадавшись, что у меня происходят практические занятия, хотел было броситься к стене и постучать в нее кулаком. Но, сообразив, что подобное приглашение к порядку не совместимо с достоинством средне-учебного заведения, воздержался от этого, и весь красный, с дрожавшими от гнева руками, стал у стены, как бы стараясь заслонить ее от встревоженного гостя.
– Вообще, ваше превосходительство… – бессвязно забормотал он, – бывают случаи… когда функции семьи и школы… впадают в коллизию… Нет, это черт знает, что! Я не могу больше!
– А, да, понимаю: вы говорите – большая перемена началась?
– Не перемена, а урок психологии! – с отчаянием выкрикнул Юнгмейстер. – Простите, сейчас вернусь!.. На минутку!
Он выбежал из кабинета и ринулся ко мне в класс. Наш опыт с объемом внимания уже кончался. Расцепив свои руки и ноги, ученики по одиночке выползали из общей груды, с удовлетворенным рычанием поднимались с пола и расходились по местам.
– Что здесь такое? – яростно накинулся директор на меня. – Это так вы преподаете? Эта у вас называется лекцией? Я не могу в своем кабинете работать! Я не могу принять посетителя!
Сообразив, что делать при учениках подобный грубый выговор преподавателю недопустимо, Юнгмейстер отвернулся от меня, набросился на притихших учеников и несколько минуть отчитывал их, грозя оставлением после уроков, общим снижением четвертной отметки за поведение. A затем, вспомнив, что его ждет в кабинете его превосходительство, внезапно исчез.
Нечего говорить, как был я оскорблен подобным обращением со мною. Я столько души и труда вложил в преподавание своего предмета. Я столько свежей струи влил в затхлую систему обучения. Так много принес тем, кто в науке искал света и правды…
Разумеется, в тот же день отправил я Юнгмейстеру письмо с просьбой не считать меня больше в числе его преподавателей.
И моя педагогическая деятельность закончилась.
Роковые сомнения
Освободившись от преподавания в гимназии, начал я усиленно готовиться к магистрантскому экзамену, чтобы получить право на доцентуру по кафедре философии.
И – странное дело. Чем больше углублялся я в свой предмет, тем больше сомнений возникало у меня относительно его ценности. Конечно, в истории человеческой мысли были величавые философские системы, начиная с Платона и кончая Гегелем. Как прекрасно, например, учение Платона об идеях, с его художественным критерием познания!
Как убедительна дедукция Декарта, выводящая из основных положений всю концепцию мира. Как математически заманчив геометрический метод Спинозы, у которого и Бог и вселенная укладываются в простые теоремы. И эмпиристы хороши, начиная с Бэкона и кончая Миллем: читая их, убеждаешься, что вовсе не французская дедукция, a английская индукция постигает сущность мира. А относительно учения Канта и говорить нечего. Кант, действительно захватывает своей убедительностью в его своеобразном примирении дедукции с индукцией, опыта с априорностью, теоретического знания с верой.
Все это в отдельности превосходно, интересно, как будто неопровержимо. А когда соберешь все вместе и начнешь сопоставлять… Что получается, в конце концов?
Кто из этих великих мыслителей прав? И кто достиг действительной истины? Ведь этой истины на противоречивых системах не построишь. Следовательно, история философии в своей совокупности никакого определенного ответа дать не может. А если это в состоянии сделать только какой-нибудь отдельный мыслитель, то кто же он, проникший в великую тайну? Платон? Декарт? Кант? Но если, в самом деле, это кто-то из них, то он не просто мыслитель, профессор, или автор многотомных трудов, a поистине бог, принесший человечеству откровение, сверкающее вечной ослепляющей правдой!
Углублялся я, изучал, приходил в смущение, иногда испытывал от напряжения мысли головокружения, иногда доходил до метафизического страха перед бесконечностью, вечностью… И, о ужас! Меня снова потянуло к газете.
Вот, где все ясно, реально, хотя большей частью ничтожно и мелко.
Стал я в виде отдыха от высот философии снова писать бытовые рассказы, помещать их в «Одесском листке». И однажды вызвал меня к себе мой университетский патрон профессор Н. Н. Ланге, от которого зависела моя будущая доцентура.
– Вы что? – строго спросил он, когда я явился. – Опять взялись за газетное дело?
– Да, Николай Николаевич, – с виноватым видом признался я. – Иногда пишу, чтобы освежить голову.
– Наверно вы хотите сказать – не освежить, а засорить? Ведь я же просил вас не делать этого. Чтобы стать профессором философии, нужно поддерживать свою мысль на определенной высоте, тренировать ее углублением в вопросы бытия. А вы занимаетесь юмористикой. Неужели не понимаете, что газетная работа ведет к поверхностному пониманию жизни?
Суровый выговор Николая Николаевича оставил во мне некоторый осадок обиды. Почему такое презрение к юмористике и к сатире? И почему глубина всегда лучше поверхности? Углубление, конечно, очень часто – полезно. Хорошо оно для того, чтобы вскопать почву и облегчить рост новым побегам. Хорошо углубление и в тех случаях, когда производятся археологические раскопки; или извлекаются из земли тела мамонтов; или добываются с промышленной целью нефть и каменный уголь. Но принципиально сидеть всегда в глубине, среди червей, кротов и личинок майских жуков – это и скучно, и едва ли кому-нибудь нужно.
А на поверхности – все самое прекрасное и самое ценное: и свет, и краски, и небо, и ласки солнца, и мерцание звезд, и цветы… А что рядом с этим на поверхности – и ничтожество, и пустяки, и утомительная бессмыслица, и уродливость, и туманы вместо ясного неба, то это только оттеняет прекрасное…
Однако, чтобы быть лояльным к своему профессору, бросил я писать рассказы. И после иностранных философов стал знакомиться с произведениями русских мыслителей. Но здесь снова начались различные сомнения.
Как оказывается, русскому философу, если он не просто профессор, пересказывающий чужие системы, совсем не по дороге с философией Запада. Мы, русские, никогда не давали миру ни Декартов, ни Спиноз, ни Юмов, ни Кантов, и – очевидно – никогда не дадим. И не потому, что мало способны к отвлеченному мышлению, а потому, что нам этого вообще не надо. Для искания истины русскому духу необходима не дедукция, не индукция, не трансцендентальный кантовский метод, а что-то другое; не рационализм, не эмпиризм, а – интуиция. Не познающая логика, а познающее чувство.
И отвлеченная наука с ее математической обработкой тоже не может служить для нас основой настоящего знания. Всякая натурфилософия, покоящаяся на выводах из научных сведений, для нашего мироощущения недостаточна, так как охватывает только внешнюю сторону бытия, не проникая в его настоящую сущность. Да и как построить на науке что-либо прочное, когда вся она пронизана противоречиями гипотез, теорий, и время от времени испытывает коренную ломку своих собственных взглядов?
Конечно, ординарные профессора философии могли быть у нас адептами и позитивизма, и материализма, и кантианства, и шеллингианства, и гегельянства. Но когда кто-либо из них выходил за пределы ординарности и вместо профессора философии становился профессором-философом, тогда обязательно впадал он в русский иррационализм и в русскую православную мистику.
Да только ли национальных наших мыслителей, в роде Соловьева, отличала эта черта. И у писателей, задолго до Достоевского, можно встретить подобные родные мотивы.
«Ум не есть высшая в нас способность, – говорит Гоголь. – Его должность не более как полицейская: он может только привести в порядок и расставить по местам все то, что у нас уже есть».
«Все наши знания – мечта,Вся наша мудрость – суета»…Так высказывался Карамзин.
Как-то пришел я к Н. Н. Ланге побеседовать о подобных сомнениях. Стал говорить о возникшем во мне скептицизме по отношению к логическому мышлению. Перешел затем к своим подозрениям о ценности всякой теории познания…
Профессору моя речь чрезвычайно не понравилась. Как ученик Вундта, он боготворил науку и считал необходимым математически обрабатывать даже психические явления. В теории же познания был он ярым кантианцем.
Сухо выслушав меня, Николай Николаевич спросил:
– Значит, как я вас понял, вы считаете, что логическим рассуждением никакую теорию познания обосновать нельзя?
– Да, по-моему, так.
– На чем же вы основываете это свое отрицание?
– На том, что во всех этих изысканиях наш ум сам себя судит. Выходит, что он в одно время и судья и подсудимый. А это приносит с собой внутреннее противоречие. Ведь каждый философ-гносеолог, приступая к построению своей системы, обладает определенной суммой идей, понятий и представлений. Это, так сказать, его мыслительный материал, с которым он должен оперировать, созидая систему. Но что это за материал? В него могут входить априорные идеи, врожденные. Могут входить представления и понятия, выведенные из опыта. В процессе мышления участвуют у него и те, и другие. Но что делает гносеолог? Если он рационалист, придающий ценность только априорным или врожденным идеям, то он совершает следующую ошибку: отрицает значение тех эмпирических понятий, которые помогали ему строить систему. Если же гносеолог – сторонник эмпиризма, то он делает ошибку с другой стороны: отрицает ценность тех врожденных идей, которые участвовали в его мышлении. Таким образом, ошибаются и рационалисты и эмпиристы.
– Ну, a кантовский критицизм вы тоже отрицаете? – покраснев от негодования, спросил профессор.
– Да, если разрешите говорить откровенно, я его тоже не признаю. Ведь у Канта все явления внешнего мира – простые феномены, а не ноумены, и потому не дают нам истинного понимания вещи в себе. А сама кантовская система тоже явление внешнего мира! Значит, она не может претендовать на неопровержимость своих утверждений.
– Как? – дрогнувшим голосом произнес Николай Николаевич. – Вы такой жалкой софистикой думаете опровергнуть ценность трансцендентального идеализма?
– Не опровергаю, а просто сомневаюсь, Николай Николаевич. Вот, когда я читаю, например, «Критику чистого разума»… Я знакомлюсь с нею при помощи форм пространства и времени, а также при помощи категорий рассудка. Но и формы эти и категории, по учению Канта, хотя и общеобязательны, но субъективны. Значит, если я отниму у этой книги ее формы и ее рассудочные положения, от нее ничего в смысле вещи в себе не останется, или останется нечто непостижимое.
– Нет, это чудовищно! – вне себя воскликнул профессор. – A кантовский практический разум разве вам не подсказывает, что при чтении «Критики чистого разума» вы улавливаете неопровержимую истину?
– Практический разум, Николай Николаевич, устанавливает через категорический императив истинность нравственных идей и идею Бога, но вовсе не истинность произведений кенигсбергского философа, хотя бы и гениального! Вообще, по-моему, чтобы избежать противоречий, теорию познания нужно создавать или на интуиции, или просто на мистике.
– В таком случае, я вам скажу вот что… – встав с места и презрительно взглянув на меня, проговорил Николай Николаевич. – Идите в Духовную Академию и постарайтесь получить профессуру там. А я не могу иметь своим учеником того, кто отрицает в корне всякую философию. Во всяком случае свою кафедру я впоследствии передать вам отказываюсь.
Будь я тогда старше и благоразумнее, я бы попросил Николая Николаевича рассеять мои сомнения и объяснить, в чем я неправ. Да и будь сам Николай Николаевич более снисходителен и терпим к моему молодому задору, он мог бы легко ликвидировать этот идеологический конфликт. Но мы еще немного официально поговорили, сухо распрощались. И я ушел с видом человека, оскорбленного в лучших своих мыслях.
Передо мною впереди снова оказалась пустота… С философией покончено. С научной деятельностью тоже не вышло. Газетная работа казалась ничтожной и мелкой. А к духовному образованию не тянуло: в те времена я боялся всякого догматизма, хотя и был верующим.
Что же делать теперь? Чем заняться?
Игра случая
После разрыва с профессором Ланге у меня пропал всякий интерес к научной деятельности, и я снова начал писать в «Одесском листке». Но работал там уже без особой охоты. Политика мало интересовала, общественная жизнь – тоже.
И, вот, пришло мне в голову написать роман. Разумеется, блестящий по форме, убийственно-сатирический по содержанию. В общем такой, чтобы об нем с изумлением заговорила вся Россия. Фоном романа должна быть среда провинциальных журналистов и провинциальных профессоров, с которой я был хорошо знаком. Придумать фабулу удалось довольно скоро. Но – в какую форму облечь свое детище?
Беллетристика наша в те времена, после Толстого, уже вырождалась; большой роман рассыпался на блестки чеховских рассказов, и восстановить его не могли уже ни Куприн, ни Бунин, ни Горький. Романы стали писать только женщины, да и те – безответственные: Вербицкая77, Бебутова78, Крыжановская79… А в отношении стиля была полная путаница: наряду с прежним нормальным построением фраз появилась декадентская и футуристическая манера письма, при которой изложение состояло из неопределенных мазков, штрихов и загадок, иногда без подлежащего, иногда без сказуемого, иногда даже без намека на то, что автор хочет сказать.
Восстановить в полном величии отживший русский роман и было моей скромной задачей.
Составил я план на 36 глав; набросал чертеж квартиры, в которой жил мой герой, чтобы тот не путался – где его спальня, где кабинет, где выход на парадную лестницу, – и приступил к делу. Особого стиля изложения я так и не выбрал, решив писать естественно, как выходит. Ведь у Достоевского, например, стиль тоже не особенно важный, а между тем, как все его читают и как увлекаются!
Однако, чем дальше подвигался я в своей работе, тем больше всяких трудностей встречал на пути. Прежде всего, нужно все время помнить, как зовут каждого из многочисленных действующих лиц по фамилии и по имени-отчеству. Это и автору неловко, и читателю неприятно, когда одна и та же дама утром называется Верой Петровной, а вечером Екатериной Ивановной. Кроме того, иногда от небрежности автора тот или иной герой меняет свой рост или цвет волос на разных страницах.
Понятно, чтобы избежать этого, лучше всего поступить так, как делал, кажется, Александр Дюма-отец: вылепить из глины отдельные фигурки действующих лиц, раскрасить и расставлять по мере надобности на письменном столе. Но как их лепить или кому заказать?
Затем возникло и другое затруднение, чисто стилистического характера. Сначала, давая диалоги, я писал так: «Хорошо, – улыбнулась она.» «И неужели вы ему поверили? – расхохотался он.» «Да, я ему никогда не доверяла, – села она на диван…»
Но, к счастью, в период своего творчества прочел я случайно где-то строгий отзыв Толстого о новых русских писателях. Толстой говорил: «Хорошо пишут теперь! Например: Я согласна, – дрыгнула она ногой.»
Поняв, что Толстой, действительно прав, стал я спешно переделывать свои диалоги и ставить везде «проговорил он» или «сказала она». Но какая это работа! Ведь в русском языке очень немного подходящих для данной цели глаголов: сказал, проговорил, произнес, спросил, ответил, заметил, прибавил, согласился… Есть еще – «молвил» или «изрек». Но никто сейчас не употребляет этих архаических слов.
И, наконец, – образы или метафоры. В прежние времена писателю легко сходили с рук такие выражения, как «мраморные плечи», «жгучие взгляды», «коралловые губки», «лицо – кровь с молоком». А теперь за такие вещи авторов презирают. Для плеч и губ нужен другой материал. Сравнения должны быть новые, незаезженные, которых никто не употреблял до сих пор. Но хорошо требовать. А как найти?
Целый год сидел я над романом и провел это время точно в забытьи. Чтобы показать окружающим, что Аполлон призвал меня к священной жертве, придал я своей внешности соответственный вид. Не стригся ежиком, как раньше, а запустил длинные волосы и зачесывал их назад. И лицу придавал выражение загадочной томности, необходимой для непрерывного общения с музой.
Впрочем, я и на самом деле тогда значительно побледнел и похудел.