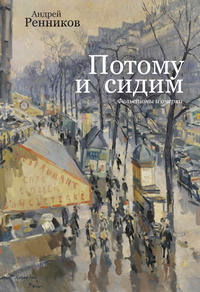Полная версия
Было все, будет все. Мемуарные и нравственно-философские произведения
Редактор был этим нововведением не очень доволен, так как считал подобные совещания вмешательством в его редакторские права; но практичный Василий Васильевич его успокоил, сказав ему по секрету, что профессорам скоро надоест ходить на собрания, и они оставят газету в покое. Зато имена их останутся и будут приманкой для солидных читателей.
На организационном собрании вместе с профессорами Василий Васильевич почтительно сидел на своем месте в конце стола и ни во что не вмешивался, когда вокруг произносились закругленные и увесистые программные речи новых ученых сотрудников. Но когда заседание пришло к концу, он скромно встал и сказал:
– Господа! Я очень рад, что вы согласились писать. В добрый час. Только разрешите мне попросить об одном: когда вы будете подписывать свои статьи, не пишите сокращенно «проф. такой-то» или «проф. такой». Пишите, пожалуйста, полностью «профессор». А то не всякий человек, особенно на Молдаванке или на Пересыпи, поймет, что значит «проф.», хорошо это, или плохо.
Просьба издателя была, конечно, наивной. Но в ней не было и тени иронии. Василий Васильевич не знал, что на «проф.» начинается не только слово профессор, но и слово профан.
Барометрическая дама
Немало любопытных эпизодов вспоминается мне из времен сотрудничества моего в «Одесском листке».
У неутомимого нашего издателя всегда были какие-нибудь очередные новые планы для улучшения дела. Он никак не мог примириться с тем обстоятельством, что конкурирующая левая газета «Одесские новости» имеет тираж не меньше, чем его «Одесский листок».
Однажды обычной своей торопливой походкой вошел он в кабинет редактора и взволнованно заговорил:
– Дорогой мой… Бросьте исправлять рукописи. Я вам скажу что-то очень важное. Вы видите эту газету? Мне дал ее один знакомый. Она – на французском языке, но это ничего, знакомый все объяснил. Так вот, в Париже некоторые газеты делают замечательную вещь: каждый день предсказывают погоду в виде дамы. Смотрят на это… как его, барометр, и вставляют тот или другой рисунок. Когда барометр показывает хорошую погоду, на первой странице ставится дама в легком платье, с шикарной шляпой, с сумочкой в руке; когда барометр, наоборот, указывает сильный дождь, даму ставят одетую в пальто, с раскрытым зонтиком, а над зонтиком косые линии – это значит – ливень… А когда погода ожидается на следующий день не то ни се, дама держит в руке закрытый зонтик – на всякий случай. Здесь, в номере, как раз она стоит в таком виде. Посмотрите! Здорово, а?
Меланхоличный редактор оторвался от рукописи и усталыми глазами рассеянно взглянул сначала на французскую даму, a затем на издателя.
– Да, вижу, – безразличным тоном проговорил он. – И что же?
– И что же! – обиженно повторил Василий Васильевич, слегка раздраженный равнодушием своего собеседника. – Такая дама – клад для газеты! Все читатели у нас встрепенутся, если мы заведем у себя такую особу. А «Одесским новостям» – будет щелчок! Мы купим этот самый барометр, закажем нашему художнику рисунки, сделаем три клише… И вы каждый день будете смотреть, какая погода ожидается, и помечать типографии, какое из клише ставить в номер.
– Я? – испуганно произнес редактор. – О, нет, Василий Васильевич. Увольте.
– А почему?
– Я в метеорологии мало что понимаю. А барометры, кроме того, часто врут. Я не хочу на себя брать ответственность за такие предсказания.
– Да, но это очень интересно! Если хотите, мы можем каждый вечер вместе совещаться…
– Все равно. Каждый раз будет риск. Вот, обратитесь лучше к Калию: он астроном и математик, пусть и займется.
В тот же день Василий Васильевич поймал меня в редакции и подробно изложил свой проект. Но я тоже испугался. Обстоятельно стал объяснять Василию Васильевичу, что представляет собой барометрическое давление, каково устройство ртутных барометров и анероидов; указал, что слабое давление бывает при циклонах, приносящих с собою осадки, а высокое давление, наоборот, при антициклонах, сопровождающихся ясной погодой и засухой. Но одного барометра, сказал я в заключение, не достаточно, если не иметь показаний всей сети метеорологических станций, так как циклоны и антициклоны иногда меняют свое направление.
– Все равно! – упрямо ответил Василий Васильевич, не совсем разобравшись в моей лекции. – Если французы в Париже могут печатать такую даму, мы, русские, можем то же самое делать в Одессе. Поедем в город покупать барометр! Вы только смотрите внимательно, чтобы не подсунули второй сорт.
Покупка барометра вызвала в редакции сенсацию. Репортеры обступили издателя, когда он в общей комнате сотрудников торжественно вынул анероид из картонной коробки и бережно начал рассматривать, расспрашивая меня о способах пользования им. Несколько дней, пока художник делал рисунки, а цинкография по этим рисункам приготавливала клише, Василий Васильевич был буквально одержим своим планом. Он сначала поставил барометр в репортерской комнате на этажерку; затем испугался, что кто-нибудь из репортеров его украдет, и перенес драгоценный прибор в кабинет редактора; но редактор иногда приходил в редакцию поздно, и Василий Васильевич решил запереть барометр в шкап. Однако такое пребывание в шкапу продолжалось недолго; встревожившись, что в темноте барометр не разберет, какую погоду надо показывать, Василий Васильевич извлек его на свежий воздух и опять водрузил на камин.
Так продолжалось два дня, пока не случилось одного тревожного обстоятельства: в соседнем сквере Пале Рояля садовник стал из кишки поливать газон. Обильная струя взвивалась в воздух, изгибалась наверху и падала вниз на траву эффектным дождем. Заметив все это из окна своей квартиры, Василий Васильевич торопливо спустился вниз, схватил барометр с камина и опять запер его в шкап, пока поливка не кончилась и газон не подсох.
– А вдруг ему покажется, что идет дождь? – объяснил он свои действия редактору, который с тревогой смотрел на него.
Но, вот, наконец, наступил желанный торжественный день. С трех клише, изображавших одну и ту же даму в 3-х различных видах, принесли Василию Васильевичу из типографии оттиски. Дама очень удалась нашему придворному художнику, бывшему в то же время и нашим фотографом. Она была красива, и элегантна не только в своей позиции при хорошей погоде, но и во время дождя; под ливнем держала зонтик наклонно вперед, точно пробивая себе дорогу сквозь гущу водяных капель; свободной рукой подхватывала платье почти до колен, для большей грациозности поддерживая его двумя пальчиками; и обнаженные ноги в туфельках на высоких каблуках в каком-то милом танце едва прикасались к луже, которая находилась под ними. А очаровательное личико с кокетливой улыбкой было повернуто к зрителю, точно дождь казался ей не досадным явлением, а пикантной загадочной авантюрой.
Василий Васильевич был в восторге. Так как за несколько дней ожидания он уже свыкся с барометром и не боялся его, то решил заведовать им сам лично, к великой радости редактора и моей. Поздно вечером, когда версталась первая страница, он, благословясь, спустился в типографию и торжественно вручил метранпажу клише.
– Вот, дорогой. Ставьте с Богом.
– Слушаю-с, – почтительно проговорил метранпаж, заранее посвященный в предприятие с дамой. – Даете без зонтика? – добавил он, мельком взглянув на клише.
– Да, барометр показывает ясно, – авторитетно ответил Василий Васильевич. – Кроме того, я еще его постукал несколько раз. Идет направо.
– Ну, в добрый час.
Указав метранпажу, что даму лучше всего поставить наверху справа, недалеко от заголовка газеты, Василий Васильевич поговорил еще об очередных делах, вручил своему собеседнику два остальных клише дамы, которые тот должен был хранить в столе и ушел.
Было около двенадцати часов ночи. Придя к себе в спальню, Василий Васильевич, прежде чем ложиться, открыл окно и пытливо стал разглядывать небо. Ночь была чудесная, тихая, звездная. На небе – ни признака туч. Но это – с южной стороны. А с северной?
Василий Васильевич вышел в коридор, отправился в ванную комнату, чтобы никого не тревожить, открыл окно там и, высунув голову, осмотрел северную часть неба.
– Тоже хорошо, – успокоительно пробормотал он. – Теперь можно ложиться.
Обычно сон был у него крепкий, спокойный, несмотря на нервную жизнь. Однако, на этот раз спалось ему не так, как всегда. Из-за барометрической ли дамы или из-за чего-нибудь другого, но он долго ворочался на кровати, пока уснул. И сколько спал – неизвестно. Но вот ночью, вдруг, точно какой-то внутренний толчок разбудил его. Он испуганно приподнялся, прислушался… И в ужасе замер.
– Кал, кап, кап… – слышалось за окном зловещее, страшное.
Да, это был дождь. Настоящий хороший освежающий дождь, с теми крупными уверенными каплями, которые бывают только летом.
Соскочив с постели, Василий Васильевич порывисто надел халат, побежал по коридору, и опрометью скатился по лестнице вниз, в типографию.
– Остановить машину! – взревел он.
– Не беспокойтесь, Василий Васильевич, – мягко заговорил появившиеся из-за наборных касс метранпаж. – Я задержал первую страницу. Слышу – дождь, решил подождать, чтобы прошел. А если не пройдет, разбудить вас.
– Ну, спасибо, дорогой мой, – обрадовался Василий Васильевич. – Отлично. Только, разве этот мерзавец пройдет? Послушайте, как подлец хлещет. Проклятый барометр!
– Да, пройти ему, пожалуй, трудно, – почтительно согласился метранпаж. – Значит, как вы полагаете? Поставить дамочку с зонтиком?
– Разумеется!
– С раскрытым?
– Я думаю, с раскрытым! Кто в ливень ходит с закрытым? Ах, Господи, Господи!
Василий Васильевич проследил, как метранпаж вынул из рамы первой страницы легкомысленную даму в легком платье, заменил ее другой, элегантно переходящей через лужу воды, и, успокоившись, вернулся к себе. Открыв окно и удостоверившись, что дождь продолжает идти и все небо обложено тучами, он сбросил халат, перекрестился, лег в постель и сразу погрузился в глубокий сон.
Было совсем светло, когда Василий Васильевич проснулся, освеженный и отдохнувший от треволнений предыдущего дня. Сладко потянувшись, он приоткрыл глаза, посмотрел в сторону окна… И со страхом зажмурился. Ему показалось, что он еще спит; что все, только что увиденное им, – глупое сновидение, игра испуганного воображения. Нужно только встряхнуться, ущипнуть себя, или громко уверенно откашляться, и все пройдет, наступит радостная спокойная действительность.
Василий Васильевич громко кашлянул, слегка приподнял веки, опять взглянул на окно… И глубокий стон вырвался из его груди.
Небо было ясное, нежно-голубое, прозрачно-радостное. В сквере, приветствуя чудесное утро, оживленно щебетали птицы. Благодатные капли ночного дождя сверкали в листве деревьев под косыми лучами взошедшего солнца.
A Василий Васильевич сидел у окна за маленьким столиком, уронив голову, охватив ее руками. И первый раз в жизни ощущал в себе острую ненависть к голубому небу, к ясному утру, к щебечущим птицам.
После этого несчастного случая барометрическая дама просуществовала у нас в газете около двух месяцев и вела себя хорошо. Прекратил ее Василий Васильевич осенью, когда погода стала слишком путанной и когда на один день приходилось нередко по три дождя и по три «ясного неба».
А когда кто-либо из читателей спрашивал Василия Васильевича, почему дама не появляется, он угрюмо отвечал:
– Ни одной женщине в мире ни в чем нельзя верить.
Одесские журналисты
Вспоминаются мне, помимо нашего милейшего издателя Василия Васильевича, кое-какие сотрудники «Одесского листка» и «Одесских новостей».
Были среди них, разумеется и люди солидные, местные профессора или общественные деятели, писавшие скучно, но весьма обстоятельно; были не менее почтенные старые журналисты, с радикальным закалом, боготворившие Добролюбова, Писарева, Чернышевского, и дававшие торжественные статьи на любые темы, всегда приходившие к выводу, что русский Карфаген должен быть разрушен. Но, в отличие от профессоров, эти либеральные Сципионы обычно оживляли свои произведения ассортиментом цитат, который брали из Пушкина, Гоголя, Грибоедова, из сборника латинских поговорок или из календаря; редкий их фельетон или передовая статья обходились без «сик транзита глориа мунди»63, без «де мортуис ниль низи бене»64, или без «свежо предание, но верится с трудом».
Среди этих почтенных журналистов в «Одесских новостях», как и в «Киевской мысли», встречались также и имена политических эмигрантов того времени. Например, имя будущего светила большевицкой революции Л. Троцкого. Несмотря на «ужасный гнет» царского правительства этот страдалец не только печатал в «Одесских новостях» свои статьи, но и исправно получал за них гонорар. А подобного явления, как известно, никогда впоследствии не наблюдалось у новых эмигрантов журналистов, когда после октябрьской революции Троцкий и Ленин заменили собой «проклятую царскую власть».
Помимо упомянутых главных кадров южнорусской журналистики, пришлось познакомиться мне и с многочисленными одесскими репортерами. Это был особый тип людей, без которых не только южные, но и вообще все российские газеты не могли существовать. Репортеры-одесситы всем своим существом, не только душой, но и телом, были созданы для репортажа и добывания хроники. Это была их стихия. В поисках информационного материала они проникали сквозь закрытые окна и двери; свободно входили туда, где надпись гласила: «вход воспрещается»; накидывались на свои жертвы в учреждениях, на улице, в трамвае, во время купания на Ланжероне или в Аркадии. Король этих репортеров, некий Горелик, в деле интервьюирования проделывал чудеса. Он на ходу вскакивал в поезд, в котором следовала какая-нибудь важная особа, и появившись в салон-вагоне, требовал интервью до тех пор, пока особа не произносила несколько слов, в роде «ступайте вон» или «оставьте меня в покое». Тогда, высаженный из поезда на ближайшей станции жандармами, Горелик мчался в редакцию и, основываясь на высказанных высокопоставленным лицом мыслях, описывал свою беседу в пространной статье.
Из таких наиболее способных и наименее стесняющихся репортеров нередко выходили передовики, фельетонисты и даже редакторы. Так, два репортера «Одесского листка» – Финкель и какой-то другой – возымели гениальную мысль издавать «Газету-Копейку». Успех этой «Копейки» среди мелких чиновников, почтальонов и дворников был потрясающий. Финкель, когда-то продававший на базаре рыбу, сделался маститым редактором и писал сам передовые статьи с грозными предостережениями Петербургу: «В последний раз предупреждаем правительство»… А его компаньон за подписью «Фауст» строчил фельетоны, игриво начиная их такими словами: «Онегин, я скрывать не стану, что делается у нас в Городской Управе», или: «Доколе ты, Катилина, будешь злоупотреблять с нашим терпением на базаре, где стоит такая вонь?».
В скором времени, однако, оба приятеля чего-то не поделили – не то славы, не то денег, разошлись и стали каждый издавать отдельную «Копейку». Финкель со своей трибуны разоблачал прошлую общественную деятельность «Фауста», который был комиссионером большой гостиницы и услужливо поставлял гостям все, что им было угодно; а Фауст, чтобы сбить противника с его литературного пьедестала, стал печатать у себя фотографию Финкеля, окруженную со всех сторон рыбами.
Иногда из таких мелких репортеров вырабатывались бойкие фельетонисты и для крупных газет. Помню, например, одного такого – Александра Александровича Т.
Этот Александр Александрович приехал в Одессу из Крыма, где был кажется, хроникером «Крымского вестника», и предложил свои услуги Василию Васильевичу. Писал он живо и свободно по всем вопросам, в которых разбирался и не разбирался, и сразу завоевал симпатии издателя. Был он брюнетом лет 30-ти какого-то неопределенного восточного типа. Носил и летом, и зимой рыжую барашковую шапку, высокие сапоги и, почему-то, хлыст. Добродушный, разговорчивый, он вначале всем нам понравился, но постепенно мы начали замечать в нем кое-какие странности.
Прежде всего, по его словам, происходил он из знатного татарского крымского рода, а какого – неизвестно. Затем окончил блестяще юридический факультет, a где – тоже неизвестно. Далее – наездником был он замечательным, брал на скачках призы, но на каких именно, – никто не знал. Золотистый жеребец его «Джигит» пользовался во всем Крыму огромной славой, и Александр Александрович решил привезти его с собой из Феодосии в Одессу. Но во время погрузки несчастный «Джигит» оступился на сходнях, упал в воду между пароходом и пристанью, утонул, и никто из нас так его и не видел.
Художником Александр Александрович был незаурядным, его марины где-то пользовались огромным успехом. И морское дело знал отлично, так как каждое лето на собственной яхте совершал прогулки с берегов Крыма в Константинополь.
– Скажите, – во время одной из бесед с ним искренно спросил я. – А вы, случайно, не музыкант?
– Ну, конечно, – просто, без чванства, ответил он. – А что?
– Да я ищу для нашего любительского струнного квартета партнера, который играл бы на альте.
– В самом деле? – обрадовался он. – Это удачно. Я, как раз, играю на альте и имею превосходный инструмент, нечто среднее между Страдивариусом и Амати.
Ответ Александра Александровича воодушевил меня. Как известно, найти альтиста среди музыкантов любителей очень трудно. И я в тот же день сообщил своим партнерам эту приятную новость.
Но прошла неделя, другая, третья. При каждой встрече я спрашивал Александра Александровича, когда же он придет ко мне со своим инструментом. Каждый раз он объяснял, что еще не успел распаковать свои сорок пять чемоданов, которые привез из Крыма. И, наконец, когда однажды я снова задал ему тот же вопрос, он тяжело вздохнул и грустно ответил:
– Представьте, дорогой мой, какое несчастье! На днях вешал я на стену картину Рубенса, подлинник, который мне достался по наследству от хана Гирея… Рама у картины очень тяжелая… А внизу, под картиной, на столике, без футляра лежал альт… Гвоздь сорвался, рама упала и углом разбила у альта всю верхнюю деку. Пришлось для починки послать инструмента в Италию.
Картина Рубенса и несчастье с альтом уже вызвали во мне кое-какие сомнения. А один случай совсем поколебал веру в точность утверждений Александра Александровича.
Дело в том, что этот всесторонне образованный человек уверял всех своих новых знакомых, что он знает восемь восточных языков, прекрасно говорит по-турецки и по-арабски. В одном доме, где собирались иногда за чашкой чая мы, студенты и курсистки, одна коварная девица решила как-то проверить, действительно ли Александр Александрович, приходивший иногда на наши собрания, знает арабский язык. Она случайно достала санитарную инструкцию, которую местные власти отпечатали для русских мусульман-паломников, ездивших через Одессу на поклонение в Мекку. Инструкция была составлена по-арабски и по-русски; с одной стороны, арабский текст, с другой – параллельный русский.
За чаем, когда Александр Александрович явился в качестве заранее приглашенного гостя, безжалостная курсистка привела в исполнение свой жестокий план. Протянула оторванную страницу арабского текста и с невинным видом спросила:
– Александр Александрович… Переведите, пожалуйста, что здесь напечатано?
Мускулы на лице гостя не дрогнули. Наоборот. Лицо приняло радостное выражение. В глазах засветилось снисходительное любопытство. Он взял в руку текст, небрежно взглянул на него и твердо произнес:
– Ага. Это известная мусульманская молитва.
– А какая именно?
– А вот… Сейчас. «Велик Аллах и Магомета, пророк Его. Алла, Алла! Все в мире происходит по твоему замыслу… Без твоего одобрения не растет на земле трава, не дует в воздухе ветер, не колышется на своем ложе море…»
За столом наступила напряженная тишина. Все были растроганы красотой молитвы, которую произнес Александр Александрович. А когда он окончил говорить, курсистка достала из сумочки страницу с русским текстом и удивленно сказала:
– Как странно! A здесь, в переводе, представьте, сказано: «Все паломники, сходя с парохода, обязаны направляться в санитарный пункта возле таможни, где должны вымыться в бане и сдать свои вещи для дезинфекции…»
Прошло еще месяца два, и все знакомые окончательно перестали верить Александру Александровичу. Даже тогда, когда он говорил правду. A некоторые его и жалели. Да и понятно. Человек, который за все берется, все знает и все умеет, в конце концов вызывает в ближних такую же снисходительную жалость, как человек, боящийся за что-либо взяться, ничего не знающий и ничего не умеющий.
Однако, как ни удивительно, издатель наш почему-то продолжал верить Александру Александровичу, часто с ним совещался, давал темы для статей или какие-нибудь поручения из области репортажа. И Александр Александрович старался. Советы давал решительные, хронику приносил исключительную, а в фельетонах своих окончательно закусывал удила и не знал удержу в цитатах. Какую-нибудь остроту, подслушанную в кафе Робина, он выдавал за восточную мудрость; смешивал слова Цезаря со словами Наполеона; а царю Соломону приписывал все изречения, происхождение которых ему было неясно.
Так жил и работал во славу южнорусской печати Александр Александрович Т., который потом перебрался в Москву и там, во время революции, давал населению точную информацию о происходивших событиях.
Артистическая жизнь
За время сотрудничества своего в «Одесском листке» немало встречал я любопытных фигур и популярных людей того времени.
Видел я Уточкина65, известного гонщика-автомобилиста, который стал одним из наших первых авиаторов. Это был замечательный человек, с отчаянной рыжей головой, с бесстрашной душой. На Николаевском бульваре он проделывал опыт: разгонял свой автомобиль до предельной скорости по направлению к обрыву и у самого парапета внезапно останавливался. На аэроплане, построенном им самим из какого-то примитивного материала, он смело совершал первые свои авиационные опыты, лихо перелетая через заборы и деревья на Малом Фонтане, приводя в ужас и в восторг присутствовавших зрителей.
Были тогда в Одессе и знаменитый борец Заикин66, и популярный певец Морфесси67, и приятель А. И. Куприна клоун Жакомино68, и сам Куприн. Веселились они там изрядно, а однажды на потеху публики устроили в пользу студентов спектакль, поставив «Прекрасную Елену». Куприн играл Калхаса, Заикин – Ахилла, Морфесси – Менелая. Что происходило на сцене – жутко сказать. Заикин-Ахилл пыхтел, рычал и грозно шевелил своими бицепсами; а Куприн-Калхас, для храбрости хвативший заранее большое количество семидесятиградусного нектара, стоял в одежде жреца среди цветов со слезами на глазах, бормотал что-то неподобное и умоляюще поглядывал на кулисы, намереваясь туда улизнуть.
Куприн и Бунин в те времена часто приезжали в Одессу и подолгу в ней жили. Куприна, конечно, публика больше любила и как автора, и как человека. Он держал себя мило, благожелательно, без всякой рисовки, и писал так же, как жил: искренно, просто, неряшливо. Писал то, что думал и чувствовал. Таланта повествования в смысле выдумки и занимательности сюжета был у него выше, чем у Бунина. Кроме того, в его произведениях наблюдалась и мягкость, и нежность, и некоторая любовь к людям, им описываемым. А Бунин уже с молодости проявлял сухость, черствость, и из всех героев своих повестей и рассказов любил только себя. Если Куприн, в силу своей безалаберной жизни, писал хуже, чем мог дать его талант, то с Буниным было наоборот – благодаря своей усидчивости и тщательной обработке написанного, он всегда казался выше своего действительного таланта.
Из-за печальной склонности к земному нектару, так ярко обнаружившейся в исполнении партии Калхаса, Куприн не попал в Академию Наук по отделу изящной словесности, на что по существу имел несомненное право. К слову сказать, с нашими изящными академиками при выборе их произошло грустное недоразумение. Кандидатами были – Чехов, Горький, Мережковский, Куприн, Бунин. Но президент Академии – Великий князь Константин Константинович отклонил кандидатуру Горького из-за близости этого просвещенного босяка к революционным кругам. Чехов обиделся за Горького и отказался. Мережковский не попал в число бессмертных, кажется, за то, что интересовался «черными мессами». А Куприн своим образом жизни совершенно не походил на академика, особенно по ночам, когда академики должны спать и набираться сил для дальнейшей полезной деятельности.
Так, например, рассказывали, что, будучи еще офицером Днепровского полка, он в Проскурове подготовился к Академии Генерального штаба, поехал в Петербург и блестяще начал сдавать экзамены. Но когда испытания уже приходили к концу, злополучного офицера-днепровца вызвали в канцелярию и заявили, что дальнейшие экзамены ему держать запрещено. Оказалось, что перед отъездом из Проскурова несдержанный Александр Иванович кутил в местном летнем саду и при помощи своих собутыльников выкупал в реке Буге присутствовавшего помощника пристава. Общими силами помощник был погружен в воду и после этого извлечен на берег. Но, к сожалению, Куприн в этой истории сам тоже не вышел сухим из воды: местные власти, помимо командира полка, дали знать губернатору, губернатор сообщил в Петербург… И Академия Генерального штаба Куприну улыбнулась.