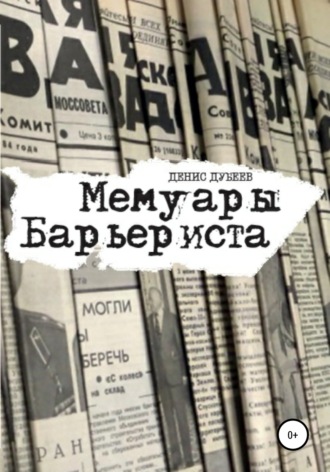 полная версия
полная версияМемуары Барьериста
Радиодетали для этих ячеек были все те же, что для приемников, телевизоров, радиол итп. Производились они промышленностью независимо от ЭВМ, использовались в теле-, радио- и акустической аппаратуре обычным радиотехническим путем, их можно было выписать в любом количестве через «отдел комплектации» на производстве, а в небольших количествах – просто в магазине радиотоваров купить. Запасные, вполне укомплектованные ячейки приходили в достаточном количестве вместе с ЭВМ. На всякий случай и пустые каркасы включались в ЗИП, а если их почему-либо и не хватало, то в крайнем случае изготовить правильный каркас можно было в обычной экспериментальной мастерской из подходящих материалов по образцу, или направляли в командировку «толкача» на завод.
Из всего этого становится ясно, что в принципе тогда еще можно было явочным порядком вносить изменения в схему соединения ячеек ЭВМ, а также своей головой разрабатывать и своими руками собирать не только ячейки нового, своего типа, но и какие-нибудь более крупные функциональные блоки ЭВМ с такой же легкостью и простотой, с какой некоторые продвинутые детки мастерили себе сами или в кружках детекторные приемники, аппараты для «охоты на лис» и прочее в этом роде, а более продвинутые дяденьки-радиолюбители – тогдашние телевизоры, например. В принципе можно было бы и всю ЭВМ собрать, затруднение было бы прежде всего количественное – это сколько же зарплат и сколько лет нужно для того, чтобы изготовить своими руками пусть даже и не всю ЭВМ, но хотя бы только каркасы для размещения нескольких десятков тысяч типовых радиодеталей в составе ЭВМ, затем каждую детальку из этих тысяч в отдельности или мелкими упаковками нужно было тогда в магазине радиотоваров покупать, да и площади дачного домика на шести сотках явно недостает, спорь не спорь, для того, чтобы все это как-то в процессе изготовления ЭВМ разумным образом расположить.
Однако то, что практически неосуществимо силами одного радиолюбителя дома, может быть реализовано в производственных условиях соответствующим коллективом, располагающим на работе материалами, инструментами и мастерской. Обычная эксплуатационная бригада технического обслуживания большой ламповой ЭВМ на предприятии, не считая операторов и программистов, включала в себя семь-восемь, о то и более (в зависимости от категории ЭВМ) квалифицированных специалистов разных профессиональных категорий (инженеры, техники, рабочие) из коих все имели базовое образование (согласно категории) в области электро- и/или радиотехники, а некоторые из этих людей имели сверх своего базового образования еще и специальную подготовку на курсах завода-изготовителя данного типа ЭВМ со свидетельством от завода-изготовителя на право технической эксплуатации таковых, в том числе обязательно инженеры – такая бригада вполне могла в процессе эксплуатации ЭВМ на своем предприятии выявить и при всесторонней поддержке предприятия своими силами устранить недочет не только в изготовлении, но и в начальной разработке каких-либо укрупненных электронных схем, входящих в состав ЭВМ и состоящих на соответствующем уровне интеграции из элементарных частей, но также такая бригада могла и разработать что-либо новое схемотехническое для своей ЭВМ. Спрашивается, а была ли такая самодеятельная модернизация ЭВМ актуальной в те времена?
Да, была. В те времена в целом в мире еще не было ни достаточного опыта в разработке сложных логико-электронных схем, ни даже достаточной теоретической базы. Не было еще тех систем автоматизированного проектирования и моделирования, без которых немыслим современный творческий процесс разработки сложных электронных систем. Учитывая сверх всего этого, что народное хозяйство испытывало колоссальную потребность в ЭВМ, а процесс разработки ЭВМ был длительным и очень дорого стоил, было бы экономически нецелесообразно затягивать этот процесс. Вследствие всего этого в эксплуатацию выпускались ЭВМ, в принципе спроектированные разумно, однако недоработанные по мелочам. А каждая такая мелкая недоработка с высокой степенью вероятности приводила к снижению работоспособности ЭВМ, увеличению количества отказов и сбоев в ее повседневной работе по решению тех задач, для которых она, собственно говоря, и была-то в системе народного хозяйства нужна.
Поэтому эксплуатационники естественным образом в рабочем порядке и дорабатывали уже на местах в структуре готовых уже ЭВМ все, что выплывало в процессе эксплуатации на вид. Каждая такая доработка не только могла, но и должна была бы быть оформлена как так называемое «рационализаторское предложение» – конечно, если в ней не было достаточной патентной новизны для оформления на уровне изобретений.
Изобретения эксплуатационных групп на уровне частичного усовершенствования уже сданных в производственную эксплуатацию ЭВМ лично мне не известны, а рацпредложений – не счесть. Случались рацпредложения и у меня за долгое время работы на ЭВМ различных типов и поколений – но по аппаратуре довольно редко, заметно меньше, чем у некоторых моих коллег.
Поначалу существовали как бы официальные научно-технические общества пользователей ЭВМ с разбивкой по типам ЭВМ, то есть общество пользователей ЭВМ типа «Минск», общество пользователей ЭВМ типа «Урал» и т. д. Насколько я понимаю, членами этих сообществ были юридические лица – предприятия, имевшие соответствующие ЭВМ. Общества издавали и распространяли материалы типа скромных технических журналов, через которые шел обмен опытом эксплуатации ЭВМ, включая и улучшения тоже. Таким образом, завод-изготовитель ЭВМ и КБ разработчика имели возможность получать профессиональную информацию о выявленных недоработках, и ссылаться на незнание темы они не могли.
Спрашивается, учитывалось ли это при выпуске новых экземпляров ЭВМ уже разработанных типов. Увы и еще раз увы. Учитывалось, но с огромными затруднениями и скрипом. Внесение любых изменений в уже отлаженный процесс громоздкого, очень сложного в техническом отношении производства требовало и хлопот, и затрат, и труда от работников этих заводов и практически ничего не давало им. От них требовалось выполнение плана выпуска ЭВМ по заранее утвержденной технической документации, они выполняли свой план, получали за это зарплату и премии, лишняя докука им была не нужна. А предприятия, получавшие такие вычислительные машины по планам технической модернизации и развития своего производства, утверждаемых в министерствах и выше, были довольны уже тем, что хоть какую-то ЭВМ им удавалось «пробить». Я видел материалы таких обществ давным-давно, когда работал в начале 60-х годов на той машине «Урал». Из них и об обществах этих узнал. Более поздние примеры не припомню, так что по истории этих обществ ничего здесь сказать не могу.
В тех же годах ситуация на Западе была радикально иной. С одной стороны, ничто не мешало капиталистическому предприятию купить примерно такую же, как и у нас, большую ламповую ЭВМ западного производства, поставить ее на своем предприятии в соответствии с техническими условиями на помещение для нее, набрать специалистов и вариться в собственном соку, как это делалось в СССР. Но у них и другая возможность была – они не покупали ЭВМ – они покупали товарное машинное время для решения своих задач, и оплачивали только его. Да, они могли согласно заключаемому контракту предоставить фирме-посреднику производственную площадку надлежащего качества на территории своего предприятия для размещения на ней ЭВМ указанного в контракте типа, но сама ЭВМ, как предмет, оставалась в собственности либо посредника, либо своего завода-изготовителя, а заказчику, по большому счету, было безразлично, какой договор заключат между собою посредник и поставщик ЭВМ. Посредник набирал также и технический персонал для работы на ЭВМ, и зарплату тоже ему тот же посредник платил, а не «заказчик» работы на ЭВМ, он же пользователь ЭВМ. Заказчик платил деньги посреднику только за то машинное время, которое согласно контракту он мог использовать для решения своих задач, при условии, что ЭВМ в это время вполне исправной была.
Такая постановка дела приводила, с одной стороны, к четкой научно-технической проработке вопроса о природе и диагностике исправных и неисправных состояний ЭВМ (с чем у нас заметное отставание сразу пошло) а с другой стороны, такое положение обусловило практику и опыт оперативной реакции всей этой системы деловых отношений на выявленные в процессе эксплуатации недоработки ЭВМ. Фирма-посредник была заинтересована деньгами в том, чтобы ЭВМ не сбивались, так как в этом случае по согласованным методикам учета товарного времени слишком много машинного времени списывалось на сбой и не оплачивалось никем. Поэтому фирма-посредник мигом рассылала по всем своим эксплуатационным бригадам предложения по улучшению работы ЭВМ, и те оперативно внедряли их. И на заводы-изготовители ЭВМ такие фирмы тоже умели нажать или по-деловому договориться с ними – ибо и у заводов тоже был в этом товарном «машинном времени нетто» свой конкурентный денежный интерес.
Вследствие всего этого на Западе еще на уровне старинных ламповых ЭВМ сложилась своеобразная строгая, ответственная КУЛЬТУРА разработки, эксплуатации и применения ЭВМ, до которой нам было очень и очень далеко. Именно на этой культуре они и начали нас уверенно обгонять, к огромной досаде рядовых специалистов в нашей стране, которые все это видели, знали, но ничего изменить не могли. Я узнал об этом вследствие профессионального общения в коллективе еще на той ЭВМ Урал-4, на которую впервые тогда пришел, и осознание безысходности ситуации с этим делом в нашей стране тяжелым камнем легло в тот барьер, который с детских лет меня от нелепого взрослого мира уверенно отделял. Я продолжал работать как бы играя в школьном кружке, любые разговоры с кем бы то ни было о возможной карьере в этом отвратительном «мире взрослых людей» вызывала реакцию «фу!» – разумеется, при более вежливой попытке с моей стороны переменить разговор.
Для определенности уточню, что описанная здесь схема эксплуатации ЭВМ через продажу машинного времени нетто без продажи самой ЭВМ относится именно к тем далеким уже временам. По мере стремительного развития вычислительной техники в мире менялись и способы её эксплуатации. Но это в тему данного мемуара уже не войдет.
ГЛАВА 16. НОВЫЕ, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ЗНАКОМСТВА
Первоначально на новом рабочем месте в Отделе Математических Методов Исследования мои обязанности состояли в том, чтобы в качестве младшего члена бригады обслуживания участвовать в технической эксплуатации двух «средних» ЭВМ: Урал-4 и БЭСМ-4, затем к этому добавилась обязанность самостоятельно обслуживать две малые ЭВМ типа «Проминь», которые выведены в серии «ДД в НИИГОГО» под условным наименованием «умор». Эти маленькие машинки правильнее было бы называть «Промiнь», так как это киевская разработка знаменитого КБ Глушкова, по-украински это значит «луч», а нынешний интернет отзывается на оба варианта в наименования этих «малых» даже по тому времени ЭВМ. Эти машинки в техническом отношении в то, свое для них время, были настолько интересны, что по другой линии мемуаров заслуживают отдельной статьи. Но здесь я замечу только то, что эти малые ЭВМ описаны мною в серии про НИИГОГО правильно, однако по тому беспощадному методу, которым часто злоупотребляют жестко заангажированные, несвободные СМИ: что-то выпятим, о чем-то умолчим – и никто не придерется, ни слова лжи, но невозможно узнать, что же там в действительности произошло. Прямо как в цирке – никто же не верит, что фокусник проглотил большой мяч, но аплодируют в цирке все. То же и тут.
Вообще-то я советую серию про ДД в НИИГОГО прочитать, так как там всего лишь чуть-чуть утрирован юмористический оттенок бытия, реальные факты моей биографии подкорректированы вполне реалистически под образ растяпы Дениса Дубеева, и если не считать грубым искажением прототипа тот факт, что тот Денис Дубеев принимал участие в неформальной самодеятельности и порою в закоулках своего факультета даже ночевал будучи уже студентом Университета, тогда как прототип Дениса Дубеева проделывал все это благодаря знакомствам в студенческой среде еще до поступления в Университет, то рассказы те правдивы настолько, что невозможно вычислить как. Лично я считаю, что обстоятельства основных событий и образы всех персонажей той серии соответствуют тому, как я видел этих людей, и подкорректированы с учетом литературной сюжетики только чуть-чуть. По-моему, все персонажи той серии описаны мною с любовью. Кто не нравился мне – тот туда не попал, и забудем о них.
В дополнении к занятиям Дениса Дубеева в НИИГОГО я добавлю лишь то, что в этом ОММИ, помимо высококвалифицированных, вполне «остепененных» специалистов, в общем штатном составе порядка 120 человек оказалось также какое-то население младшего технического состава, в котором большинство училось заочно-вечерне в разных вузах нашего городка. Администрация всячески шла им навстречу, в частности, все сквозь пальцы смотрели на то, что эти ребята в рабочее время и на своих рабочих местах готовились к занятиям, делали контрольные работы итп. Среди этой учащейся молодежи оказались лодыри и лентяи, которые повадились бегать ко мне за консультациями по поводу этих учебных дел. Я прекрасно понимал, что делаю плохо для них и для страны, что это делать нехорошо, однако мне и самому хотелось бы знать, чему и как учат в технических вузах их. Я спрашивал у них методички и, так сказать, «помогал». (Я не знаю, были ли лентяйки среди девушек-заочниц, но девушки по таким пустякам, как учеба, уже не приставали ко мне. Это не школа, вот оно что – возраст уже иной.)
Как-то незаметно освоился я и с программированием для ЭВМ – коды, ассемблеры, алголы, фортран. Рассуждения мои были просты. Несведущий в программировании наладчик ЭВМ подобен ветеринару, который может пощупать собачке носик, но не может ее спросить. Сведущий же в программировании наладчик подобен врачу, который и нос пощупает, если нужно, и вопросы задаст страдающей недугом ЭВМ. Также как-то само собой получилось, что ко мне стали обращаться за консультациями сотрудники разных отделов НИИ, которым ЭВМ давала непонятные решения задач (химических, физических и разных таких других) а группа обслуживания ЭВМ отвечала, что техника вся, мол, ОК. Ох, если бы наша страна вместо этой англоязычной идиомы переняла бы у Запада культуру непрерывного тестирования и методики расчета товарного и нетоварного времени работы ЭВМ! Увы, об этом было сказано много и горько в предыдущей главе, зачем повторяться здесь.
В этих разговорах с коллегами из разных отделов мне весьма помогало то, что к тому времени я уже кое-что и по классической логике самостоятельно подчитал, и по основам математической логики тоже прослушал на матмехе спецкурс (еще туда формально не поступая,) к сожалению, курс небольшой. Это действительно помогало мне разбираться в хитросплетениях разных чужих задач, и я с удивлением видел, что мои коллеги с дипломами серьезных технических вузов, на должностях научных сотрудников большого, всесоюзно значимого НПО просто плавают в четких понятиях логики, лишь понаслышке зная о них.
Огромное положительное значение для меня имело общение с несколькими действительно серьезно образованными людьми, работавшими в ОММИ, а также и в других отделах НИИ. А также и с людьми, которые степеней не достигли еще, но отличались ясным умом и серьезным отношением к делу. В других линиях мемуаров я подробно о них расскажу. Каждый из них был светочем для меня, но все они, за исключением двух-трех руководителей предприятия и членов парткома, находились на невысоких служебных местах. Впрочем, это не диво. Так ли уж много было поэтов-вельмож или астрономов-царей? Все эти темы не помещаются здесь, но я постараюсь со временем обо всем рассказать.
К этому времени руководство отдела уже оставляло меня старшим по смене на ЭВМ и в вечер, и в ночь, а однажды ко мне подошел начальник лаборатории программирования (лаборатории были частью отделов в том НИИ) и сказал что-то вроде того: – Оказывается, вы программируете? Вот тут отдел главного технолога просит решить им одну задачку, что-то со станками ЧПУ, а у нас программисты заняты практически все. Не могли бы вы посмотреть, что там и как? – так начался мой многолетний путь, описанный в следующих главах. А в этой главе важно теперь только то, что я счел себя достаточно подготовленным для дальнейшей учебы и решил поступать на матмех.
ГЛАВА 17. МАТМЕХ
При подготовке к экзаменам в университет имел место забавный, хотя и совсем незначительный случай, который все же следует здесь привести, так как это покажет нам наивность нашего героя, несмотря на то, что возраст как бы уже и к серьезности располагал, и последующее развитие событий от этого примера станет более ясным нам.
На предварительных консультациях почтенная представительница нашего деканата академически мягким, даже несколько ласковым тоном объясняла огромной аудитории «абитуриентов» порядок прохождения вступительных экзаменов на матмех. Закончив рассказ, мадам предложила присутствовавшим задавать ей вопросы. Однако огромная аудитория молчала, еще не успев как следует эту лекцию осознать. А я вообще ни в каких собраниях участвовать не любил, а если уж приходилось, терпеть не мог, когда докладчик от молчащей аудитории какого-то действия безрезультатно ждал. Быстрёхонько сообразив бессмысленную тему вопроса, я встал и спросил, как следует поступить в том случае, если экзаменационная задача окажется разрешимой средствами высшей математики более корректным, более компактным путем, чем если решать ее средствами школьной программы. Разрешается ли на экзаменах выходить за рамки тех методов и приемов, которые в школьную программу вошли. Сказать по правде, я вовсе ту «высшую математику» достаточно-то и не знал, но надо же было вопросом рассеять в аудитории тишину. Цели я достиг – аудитория насторожилась и шевельнулась, тараща глаза и на лидершу, и на меня.
– Можете, – очень мило хозяйка той ситуации ответила мне и, чуть улыбнувшись, добавила – но имейте в виду, что и оценивать такую работу мы станем по критериям совершенно иным…
– Спасибо, понял. – веско ответил я и сел на место, очень довольный собой. Из этого вы можете сделать предположение, что и само по себе поступление в Университет изначально было для меня родом кружковщины, родом игры, как и работа вся вообще. Оправдается ли такое предположение в дальнейшем – скоро будем смотреть.
На первом курсе заочного отделения матмеха следовало пройти следующие науки:
– первый том трилогии на тему дифференциального и интегрального исчисления сочинения известнейшего мэтра Фихтенгольца – толстый серьезный том;
– немного менее толстый томик аналитической геометрии, автора не помню;
– по выбору, либо томик средней толщины Никольского, либо тонкое руководство, почти брошюру, Боревича на тему линейной алгебры, определителей и матриц;
– курс диалектического материализма, автора не помню;
– что-то краткое по немецкому языку.
На первой же сессии я скинул без особых затей только немецкий язык и, кажется, аналитическую геометрию (или она осталась в хвостах, не помню уже.) Со всем остальным я чудил, а занятия посещал сначала прилежно, затем менее прилежно, затем совсем перестал. И в самом-то деле, зачем заочнику вечерами на те же лекции ходить, когда есть книжки, например, и методички к ним. И я, будучи еще со школы теми уроками утомлен, стал всё по книжицам учить. Изложение же предметных чудачеств начнем снизу вверх.
Для зачета по диамату на первом семестре было достаточно какую-то «контрольную работу» написать, тема свободной была. Придумал я тему себе «Наивный реализм». Мысль была та, что тончайшее проникновение в сущностные глубины материи хорошо лишь в условиях обеспеченной безопасности людей. Мир же опасностями полон, необходимостью хлеб насущный себе добывать и действовать в природе вообще. Именно для уверенного действия живых существ в природе эволюция и выработала упрощенное отношение в животном мире к ней; дальнейшее, рационализированное развитие этого отношения на человеческом уровне развития материи и представляет собою наивный реализм. Представьте себе на минуту, что вы стали свидетелем начинающейся аварийной ситуации в цехе какого-нибудь завода. Вы же не станете в эти мгновения рассуждать о том, через непрерывный ли воздушный флюид наблюдаете вы картину событий, сквозь молекулярно-воздушную сетку или сквозь эйнштейнианские релятивистские поля? Нет, и еще раз нет. Мгновенным прыжком вы перескочите через стоящий поблизости ящик и рванете вниз рукоятку электрошкафа у входа в цех – а такую свободу стремительных, точных, но в то же время рационально мотивированных движений дает только удивительное слияние разума и природы, именуемое «наивный реализм»… и вот такими приблизительно рассуждениями была заполнена простая ученическая тетрадь.
Сдал я ее на проверку с волнением примерно таким же, с каким отсылал когда-то в журнал свой первый литературный рассказ. Оценка оказалась проста: три балла, научный уровень низок. Разыскал я на кафедре марксизма-ленинизма преподавательницу, которая проверяла заочникам работы. Это оказалась девушка моих примерно лет, видать, сама только этой весною окончила курс философских наук. Очень была она удивлена уже тем, что какой-то заочник недоволен ее трояком. Я объяснил, что с оценкой по количеству баллов в ней я полностью согласен, но ведь я же «учусь». Объясните, пожалуйста, вашу короткую рецензию насчет научного уровня. В чем именно состоят мои ошибки в данной работе, иначе как же смогу я в дальнейшем их избежать? Юная философиня ответила, что содержание работы в принципе верное, ошибок в нем нет, оценка же снижена по причине отсутствия списка литературы, откуда я это все взял. Я говорю, что конкретно не взял ниоткуда, именно так я думаю сам. – Вот то-то и плохо, – объяснила преподавательница, – в науке принято источники изучать… Конечно, уж с этим-то мне согласиться пришлось. И в самом-то деле, тут ничего не поделаешь, ведь это действительно так. Вдруг кто-нибудь ранее нечто такое писал – вот обидно-то будет ему, если узнает, что даже студенты-заочники – и те не читают его.
При объяснении списка учебной литературы нам коротко сказали, что министерство назначило учебник Никольского, но факультет рекомендует Боревича. Это наш питерский математик, профессор, лучше возьмите его. Делового объяснения не было, а я с детства всякую надутую рекламольную «питерщину, ленинградщину» в упор терпеть не могу. Ах, белые ночи, белые ночи… А ночи то у нас вовсе не «белые». «Серые» ночи у нас, вот и все! Не понравился мне этот местечковый патриотизм, и я принципиально в библиотеке Никольского взял. (Надо бы оба издания взять, но не смекнул, увы.) На экзамене преподаватель удивлен: – «Постойте, постойте, что это такое вы говорите? Ах, у Никольского так? Ну ладно, валяйте по Никольскому, я и это пойму…". После экзамена я тут же в библиотеке Боревича взял, и что бы вы думали? Если есть на Земле хоть один гениальный учебник, то это краткое, тонкое руководство Боревича «Определители и матрицы», кажется, так называлось оно. Я никогда не думал, что такие отвлеченные вопросы на простейших примерах можно так ясно, так кратко и так теоретически чисто изложить. У Никольского тоже свои достоинства есть – тяжеловесные, академические, сухие. По Боревичу хорошо сей предмет начинать, по Никольскому – повторять, и никто именно этого в самом начале не объяснил.
Аналитическая геометрия представляет собою перекрестную игру геометрических образов и числовых величин. Это очень полезная в технических приложениях дисциплина; в последующие годы я постоянно имел дело с ней, но что было с ней на матмехе – извините, забыл. Помню, что трудностей она вроде бы не вызывала, задачки решались легко.
По настоящему трудным во всей этой истории был только основательный Фихтенгольц, точнее, его предмет. Этот предмет давно уже известен миру под двумя разными названиями: – " дифференциальное и интегральное исчисления» и «математический анализ бесконечно малых величин», или просто «матанализ» на учебном арго. Иногда еще неопределенно какой-то «высшей математикой» называют его, но это название неудобно из-за неясности в соотношении между общим и специальными смыслами этих слов. Трудность матанализа заключается в том, что предметом изучения в нем являются объекты, даже аналоги которых отсутствуют в природе или в комнате под рукой, так что набросок, чертеж, модель или, на худой конец, даже анекдот об увлечении невинного простофили Интеграла коварной искусительницей Производной из правого двумерного пространства в левое пространство более четырех измерений и жестокого отмщения обоим со стороны серьезной Первообразной могут помочь пониманию сути дела только после того, как эта суть будет понята и осознана через чисто логический путь.
В этом исчислении «бесконечно малая положительная величина» есть такая величина, которая вообще-то нулю не равна, но заведомо меньше любого заранее заданного малого положительного числа. Интересно, как это студент-первокурсник может представить и отразить вспомогательным чертежом эту «величину»? Что такое «заранее заданное малое число»? Одна стомиллионная ангстрема? Не смешите меня, одна стомиллионная ангстрема по отношению к любой бесконечно малой величине есть бесконечно большая величина… Одна стомиллионная от той стомиллионной? Какая ей разница, сколько КОНКРЕТНЫХ раз вы будете ту КОНКРЕТНУЮ границу на ваши КОНКРЕТНЫЕ сто миллионов делить. Вдумайтесь в определение и перестаньте меня утомлять… Однако если одну бесконечно малую величину разделить на другую бесконечно малую величину, то получится все что угодно в зависимости от индивидуальных особенностей этих двух условных «величин». Вот вокруг этого деления и пирует в течение последних трехсот лет вся теория механики макромира, то есть нашего слоя материи, в котором столь правильно действует вышеупомянутый наивный реализм. Однако поскольку бесконечно малые величины непредставимы модельно, то любые попытки упрощенно этот предмет изложить не упрощают, но опрощают его. Даже лучшие популярные сочинения Зельдовича для начинающих, даже учебники втузов – это не «матанализ», это попытки трехлетнего дитяти объяснить воспитательнице детского сада кинетику воздушно-топливной смеси в цилиндрах двигателя автомобиля отца. А вот про Фихтенгольца такое не скажешь – он действительно этот предмет изложил. Зато и трилогия получилась большая, ее интересно, но трудно читать.

