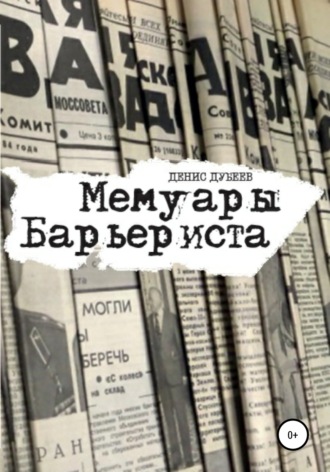 полная версия
полная версияМемуары Барьериста
Для разных исследований также и разные приборы были нужны, их привозили из города на машинах, вместе с людьми иногда. Некоторые приборы были транспортабельны и легки, другие представляли собою металлические короба весом килограммов под пятьдесят, и, как это ни странно, именно они были изготовлены чехословацкими заводами ТЕСЛА, тогда как только внешняя отделка коробов, на мой взыскательный взгляд, соответствовала технической славе этой известнейшей марки, а тяжесть откуда взялась? Известно ведь всем, прогресс идет в сторону уменьшения массы приборов, что-то не вяжется тут. Мне объясняли, что прогресс вообще-то движется извилистыми путями, а по физике дела в данном конкретном случае именно масса активных элементов прибора, как физический параметр, играет определенную роль. Так что не горюй, проповедник прогресса, на сегодняшний день это лучший в мире прибор.
На пути от лаборатории до машины было препятствие в виде охраны на проходной внизу. Во избежание переговоров и проволочек, одной лаборанточке, девушке милой и хрупкой, был выписан именной постоянный пропуск на вынос приборов за территорию предприятия сквозь проходную, и обычно она сопровождала приборы до проходной.
И вот, представьте себе, эта девушка, весело помахивая пропуском, цокая шпильками туфелек по коридорам НИИ, приближается к проходной института, а следом за ней двое рослых лаборантов (в том числе ваш покорный слуга) несут за надежные железные ручки тяжеленный прибор. На выходе в будке у турникета дежурит новая вахтерша, которая местных обычаев, по-видимому, еще не знает, но добросовестно выучила уже устав караульной службы, я думаю, наизусть. Она изучает пропуск и разрешает девушке пройти, но тут же блокирует турникет:
– Молодые люди, вы куда?
– А? Мы? – Вот прибор.
– Отойдите в сторонку и не мешайте. Девушка, вы можете выносить.
– Но мне же его не поднять!
– Это ваши проблемы. Молодые люди могут пройти отдельно и подождать вас с той стороны.
…Начальник караула, вызванный вахтершей для разруливания ситуации, оказался в положении действительно дурацком. Ситуация в принципе ясная, дело обычное, машина на улице ждет. Но если он сейчас пойдет против своей подчиненной вахтерши, в дальнейшем будет она пропускать все подряд. Он счел за благо более ответственному руководителю по этому поводу позвонить – и поставил тем самым в очень неловкое положение теперь уже и его… А чем там кончилось дело, я уж не помню теперь, но помню, как смеялись мы в лаборатории, неоднократно вспоминая тот эпизод.
Веселые были люди, смеялись по пустякам.
Была там какая-то темная комната, в которой на прочных скамьях и, кажется, еще на стеллажах стояли и кисли прямоугольные крупные банки из толстого, литого, прозрачного стекла. В банках крепились металлические пластины и был налит электролит, и все это коммутировалось разными способами посредством клемм, шайб и проводов. Это были, как мне казалось тогда, аккумуляторы банальных старинных систем, однако, будучи заряженными электрическим током через выпрямители от сети, они давали простой постоянный ток очень высокого качества, пригодный для научных работ, каковой ток и разводился по проводам вдоль стен в нужные для опытов места.
В процессе функционирования тех аккумуляторов электролит и пластины взаимно разлагали друг друга, отчего качество тока снижалось, а в банках возникал и накапливался темный, липкий так называемый «шлам», каковое слово по-немецки (Schlamm) означает просто «тина» и «грязь». Одновременно выделялся и запах столь мощной химической силы, что от него ржавели клеммы, шайбы и провода и портилось все вокруг. Поддерживать в этой комнате порядок и менять электролит было обязанностью лаборантов, но они манкировали этим как могли и довели аккумуляторную до такого гадостного состояния, что новому в лаборатории человеку было трудно туда войти.
Ознакомившись с этической компонентой этого сложнейшего вопроса, я решил, что работа – это работа, химия – это химия, шлам – явление научное, во всяком случае, это не «грязь» в бытовом значении этого слова, а кто любит науку, должен и к побочным эффектам относиться легко. Посему надел я поверх своего нового рабочего халата огромный желтый клеёнчатый фартук, влез в резиновые сапоги, надел резиновые перчатки и занялся полезным для лаборатории делом – стал аккумуляторную в порядок приводить. Оказалось, что это не просто так взял да в порядок весь этот гадюшник привел. Там было много окислившихся контактов, требовалось менять электролит… Короче, не помню я, сколько дней возился я там конкретно, но помню, что приличный, почти что чистенький и новый клеёнчатый фартук почти что до невозможности извазюкал я там едким шламом, и что не одни только местные начальники заглядывали через открытую дверь ко мне, но подходили также и простые сотрудники, таращили на меня свои восхищенные глазенапы (как в цирке на ученого шимпанзе) подначивали разными шуточками и уходили в трудовую тишину своих глубокомудрых «отделов» продолжать научные дела. По окончании этой работы я почувствовал, что стал в лаборатории личностью довольно популярной, хотя считалось, что я – оригинал.
…Вскоре нашел я там занятие, которое оказалось как раз по мне. В некоторых отделах лаборатории громоздились на столах приборы, нередко друг на друге в два этажа. Они затеняли от света стол, и там добавлялись еще настольные лампы системы «дайдоспать». Серые, окрашенные шаровой краской металлические корпуса приборов, темные приборные панели, белесые циферблаты на них, негромкое пение электросхем – все это наводило такую индукцию сна, что никакая чашечка никакого, даже лучшего тогдашнего кофе не могла ее преодолеть. Будучи знаком с работою в этих отделах, я никоим образом не стал бы осуждать молодых инженеров приятного пола (неужели «инженериц»?! ) только за то, что они отрывались от этой работы и шли посмотреть, как новый лаборант разносит аккумуляторную станцию в драбадан.
Работа в тех отделах была такая:
Руководствуясь какими-то своими «схемами эксперимента», девушка-инженер поворачивала в нужное положение установочные лимбы приборов, нажимала кнопки и поджидала, когда разбуженные кнопками стрелки приборов перестанут в своем новом положении качаться-колебаться и в этом новом своем положении снова уснут. Тогда она считывала с циферблатов в определенном порядке показания приборов и диктовала их лаборанту, который обычно чуть сзади рядом сидел и записывал цифры новой строкой в журнал. По окончании записи девушка-инженер, руководствуясь какими-то своими «схемами эксперимента», поворачивала в нужное положение установочные лимбы приборов, нажимала кнопки и поджидала, когда разбуженные кнопками стрелки приборов перестанут в своем новом положении качаться-колебаться и в этом новом своем положении снова уснут. Тогда она считывала с циферблатов в определенном порядке показания приборов и диктовала их лаборанту, который обычно чуть сзади рядом сидел и записывал цифры новой строкой в журнал. По окончании записи девушка-инженер, руководствуясь какими-то своими «схемами эксперимента»… и вот это занятие, представьте себе, продолжалось весь день. Иногда работа несколько разнообразилась тем, что «инженер-исследователь» вооружался секундомером и ориентировался в чем-то по нему, остальное было все то же, как написано здесь.
По заполнении тех довольно толстых журналов типа амбарных книг следовало в два этапа обстоятельно их «обсчитать». Сначала, насколько я эту методику припоминаю теперь, их обсчитывали по простым арифметическим формулам типа «сложить, умножить, подытожить», по ним выводились аккуратные усредненные величины, и весь этот этап заканчивался сведением полученных арифметических результатов в новые таблицы теперь уже меньшего объема, чем исходный журнал.
Такое мощное изобретение, как ЭВМ, тогда еще считалось новинкой в определенных кругах и до нашего НИИ не дошло. Наиболее успешно мечты о нем осваивали писатели-фантасты, внедрение же ЭВМ на практике шло более реалистичным путем. Поэтому такая простая арифметическая обработка сырых «экспериментальных данных» велась с помощью ручных арифмометров типа «железный Феликс», и выполняли ее, естественно, женщины-инженеры и девушки-лаборантки, мужчин же ни тех ни других к этой работе было нежелательно допускать, так как мужчины – народ необузданный, мужчина может в приступе раздражения испортить железный прибор. А то, что механический арифмометр является источником повышенного раздражения – знают все, кто ручки ему крутил. Уж на что я был парнишкой уравновешенным и был способен часами сидеть в двадцати сантиметрах от пышных локонов над складками халата, вдыхая аромат таинственных духов, слушать диктуемые цифры и машинально вписывать их в журнал, думая о чем-то своем – но и мне «железного Феликса» не доверяли, боялись – сломаю еще.
Однако полученные таким образом промежуточные таблицы нужно было еще по сложным многоярусным логарифмическим и тригонометрическим функциям посредством логарифмической линейки окончательно обсчитать – и вот тут-то и наступал для меня звездный час. Не ведомо мне почему, но логарифмическая линейка чем-то нравилась мне, и нежелание сотрудников делать эти расчеты удивляло меня. И вдруг при первой же попытке по длинным формулам что-то полезное рассчитать я с искренним недоумением обнаружил, что повторный расчет по тем же формулам, в том же порядке и по тем же исходным данным дал мне неузнаваемо иной результат. Подтвердилось основное свойство логарифмической линейки – она дает верные результаты только в очень умелых руках. Даже самое простое требование к профессионалу, а именно, автоматически, не думая об этом, всегда держать визирную линию в момент установки строго против носа – и то было почти невыполнимым потому, что вступало в противоречие с природным предпочтением человека смотреть на близкие предметы перед собой одними только глазами, не целясь носом на них. О других, более сложных условиях счета на этой линейке я уж и не говорю, не всё оказалось так просто, как кажется нам в первый раз. В школе же были у нас только простые примеры, да я и не помню точно теперь, входила ли линейка в школьный курс. Мне приходилось иной раз обижать лучшее чувство справедливости в представительницах моего поколения напоминанием о том, что коль скоро то или иное положение достойной уважения науки входило в школьный курс, то его нужно помнить и применять. В результате подобного спора обиженная сторона неизменно доказывала, что то или иное положение достойной уважения науки в школьный курс не входило, а если некоторые тут путают и сваливают в одну общую кучу школьный курс, физический кружок, дополнительную литературу и невесть что еще – то нечего других-то в невежестве тут обвинять, за своей собственной памятью лучше присматривать надо. Так что я и не знаю теперь, такими ли уж злонамеренными саботажницами были представительницы прекрасного пола, когда, вдоволь накрутившись ручкой «железного Феликса», отказывались на линейке считать на одном только том основании, что они не умеют, а научиться не могут. Это выше сил человеческих, на линейке так много считать. Мужчины же, как известно, тоже всегда отговорку найдут (какая еще линейка, провод мне скручивать надо! и т.п.) Мое желание попробовать в этом невинном занятии скромные силы свои было встречено с пониманием, первое фиаско не обескуражило никого. Я обзавелся известным руководством Панова и тренировался по нему даже дома, вольно на диване развалясь и ноги повыше положив, а заинтересованные лица по-прежнему верили в меня. Вскоре мне стали доверять эти, как считалось, самые сложные расчеты; первое время проверяли, потом перестали проверять.
На основании этих окончательных вычислений составлялись итоговые таблицы, которые собственно и содержали в себе результаты работы лаборатории в цифровой сжатой форме, а для наглядности, как это делается обычно, по итоговым таблицам еще и графики строились в надлежащих масштабах (в том числе логарифмическом) иной раз цветными карандашами, иной раз с прорисовкой пунктирных, штрихпунктирных и прочих фигурных линий простым карандашом. Этим тоже с удовольствием занимался наш универсальный лаборант, при случае выполняя также и свою «нормальную» работу, то есть припаять, отпаять, открутить, прикрутить, сеть нечаянно коротнуть и т. п. – много, короче, дел. Уже тогда я стал замечать, что мне и там тоже прощают и начальники, и товарищи многое, как прощалось мне многое в школе, как прощается многое любимой собачке в семье. Но к такому я с детства привык и, к моему глубокому, но, увы, запоздалому сожалению, этому значения не придавал.
Судьба, однако же, бывает справедлива, и в данном случае судьба без промедления наказала тех, кто слишком много мне в том НИИ доверял. Произошло это так.
С момента моего прихода в лабораторию я неоднократно там слышал пугающее слово ОТЧЕТ. Сначала сотрудники произносили его небрежно, мелкими буквами: ладно, ладно, будем делать отчет, тогда и вставим эти цифры сюда… Затем в этом слове появился выделяющий его в общем потоке курсив, затем уже грозно: ОТЧЕТ.
Наконец более или менее обычные работы прекратились, данные, полученные за весь период работы – перепроверялись; писались, обсуждались, редактировались и беспрестанно уточнялись какие-то сложные, непонятные, терминоемкие тексты… Напряженность росла и росла. Вот одна из старших сотрудниц дала мне какие-то тщательно отобранные, выверенные таблицы и попросила построить к ним графики, но поаккуратнее, пожалуйста, это пойдет в ОТЧЕТ. Я постарался как только мог, вроде бы трижды на линейке все пересчитал, а уж как старался штрихпунктир соблюдать – вообще и сравнения нет. И, конечно же, в той запарке и эту мою работу не проверил никто! Привычка – страшная сила, и тут она всех подвела.
Наконец-то отчет готов. Это столбики машинописных и светокопировальных листов, так называемых «синек», в аккуратненьких, свеженьких, чуть еще липких, приятно пахнущих, коленкоровых переплетах вежливых, солидных, однотонно темных цветов из фирменной профессиональной переплетной мастерской. Все, что долженствует быть опечатанным и прошитым – все опечатано и прошито, на всех титульных листах вереницы ответственных виз. Все готово к рассылке по «организациям» нашего министерства и по другим адресам. Все довольны, на работе приятная расслабленность после страды – и вдруг…
Какая-то тень пробежала по нашим отделам. Товарищи шепчутся, с ужасом посматривают на меня. Я же не понимаю, в чем дело, все мне боятся сказать. Наконец вызывают меня на ковер.
В кабинете начальника лаборатории целая комиссия собралась. Начальник, его заместители, какие-то люди еще, чужие, влиятельные фигуры. Женщина, которая давала мне те злополучные таблицы, спряталась за шкафом и дрожит. Кто-то из посторонних смотрит с недоумением на меня как на чужую кошку на дачной кухне в углу и говорит: – «И этот олух царя небесного делает ответственные расчеты для вас?»
Представьте себе, уважаемый читатель, что вы приобрели дорогой электронный прибор… Ах, в каком же веке вы читаете это? В 2014-м году? Ну, тогда вы купили всего лишь новейший смартфон. В инструкции написано, что в 99-ти случаях из ста этот прибор благополучно выдерживает падение с высоты полутора метров на бетонный пол. Скажите откровенно, дорогие мои, неужели вас не охватит неодолимое желание узнать, во скольких случаях из ста этот прибор благополучно выдержит падение на бетонный пол с чуть большей высоты, не с метра пятьдесят как указано, а с метра шестьдесят, и неужели вы устоите перед желанием этот вариант рассчитать?
Наши инженеры получили задание исследовать некоторые электромагнитные процессы в техногенных системах в определенных границах изменения величин. Эти границы были согласованы со всеми заинтересованными организациями и соответствовали ГОСТу по тем временам. А наши умные инженеры, под предлогом обезопасить научные выводы от казусов и случайностей, с какими нередко бывает связано установление априорных границ для природных, пусть даже и техногенных, явлений, в своей повседневной работе брали несколько расширенный диапазон в расчете на то, что при чистовом оформлении для отчета лишнее будет отстранено. В официальный отчет попадет только то, что положено, а более полный вариант останется в лаборатории как накопленный опыт, как внутреннее ноу-хау лаборатории, коли на то пошло. Я об этом понятия не имел и выполнил те злополучные графики как всегда, и никто не проверил их!!!
Если бы я заузил диапазон – была бы катастрофа для руководителей лаборатории прежде всего. А так – получился всего лишь очень неприятный конфуз для всех более или менее ответственных лиц. Куда смотрел так называемый «нормоконтроль»? С чем еще в этом липовом «отчете» с прямыми отступлениями от согласованного ТЗ и ГОСТа не счел нужным ознакомиться Главный Инженер Научно-исследовательского Института, когда своей визой утверждал этот странный отчет, каким еще «неучам» и «олухам» доверяют в этом НИИ ответственные расчеты, которые вообще-то должен выполнять квалифицированный инженерно-технический персонал?
Как там выкручивался институт, я не знаю. Говорили мне, что, слава Богу, заметили это до рассылки отчета по адресам и успели поправить дела. Но как бы то ни было, для меня это был очень хороший урок. Я его помню всю жизнь и в своей дальнейшей работе учитывал возможность подобных неожиданных ляпов всегда. А самое удивительное в этом – это то, что такое крайне нежелательное происшествие никак не повлияло на отношение в лаборатории ко мне. Меня по-прежнему любили, считали чудаковатым, но «своим», а я, олух царя небесного, так долго этого не понимал…
ГЛАВА 13. БАРЬЕР КРЕПЧАЛ
Эта глава может показаться для понимания трудной, так как она противоречит светлому, оптимистичному, жизне- и человеколюбивому настрою предыдущей главы. Герой нашего повествования пришел в то НИИ в каком-то раздрае своих человеческих сил, без каких бы то ни было планов на будущее, с явным нежеланием что-либо подобное обсуждать – но со способностью напрягаться и работать на легкой, не слишком-то обременительной работе. Эта мимикрия обманывала многих, отсюда и оптимизм предыдущей главы. Однако ничего удивительного в этом нет – старшие классы школы приучили героя к мимикрии, и остается только гадать, каких успехов в земной суете мог бы достичь тот книговоспитанный юноша, имел бы он конкретную жизнесуетную цель.
По-прежнему совсем не размышления о перспективах жизненного пути заполняли мой повседневный внутренний мир – по-прежнему только чтение оставалось основным состоянием личности библиофага подобно тому, как своеобразная дрема остается обычным состоянием дачного кота, прерываемая прогулками в терра-инкогнита в кустарнике у ручья и приключениями по вечерам. Круг чтения становился все более и более серьезным, легкомысленные приключения Атосов да Портосов исчезли уже давно, уходили Жюль Верны и Луи Буссенары, читались Диккенс, Грин, Паустовский, Поль де Крюи, Аксенов и др., а также по-прежнему оставалась любимой фантастика чуть ли не всех родов; подходила эра более серьезного чтения – учебника логики, например. Совершенствовался и внутренний фантастический мир – дополнение к воображаемому миру книг, мир ярких цветных фантазий, переходящих в такие же сны. Писалась бесконечно любимая мною повесть «Снежинка в трещине метеорита», которая никогда не увидит свет, потому что литконсультант в том, еще не забытом в те годы ответе, был совершенно прав, и не каждую песню души вдруг подхватит читательский хор.
Ребенок, живущий во многоязычной среде, обычно позже начинает говорить – но сразу на всех языках. Так и я, бесконечно с детских лет забивавший свою голову и чувства содержанием всяческих книг, даже и после окончания школы не имел правильного представления о реальном содержании тех объектов, которые в жизни окружали меня. Так, Научно-исследовательский Институт, как явление в обществе, представлялся мне торжественным храмом науки, в котором люди, наделенные особенной мудростью и особо выдающимся интеллектом, вершат таинственные, непостижимые простому разуму дела. Несогласие такого представления со здравым смыслом мешало реально жить, но не мешало пассивно влачить существование, что я и делал в те времена.
Кстати, именно в таком состоянии вечно пребывают иные, вполне «адекватные» поэты, в чем они сами нередко, порою и с горечью даже, признаются в стихах. Был «адекватным» и я, когда оказался в реальном НИИ и увидел, что оно так же сильно отличается от моего идеала, как реальный дорожный велосипед отличается от Конька-горбунка. Ну посудите сами, велик ли идеал в той истории, которую я вам сейчас расскажу.
Применялись в нашем деле некоторые вспомогательные приборы, которые изготавливались либо кустарно в самой лаборатории, либо полукустарно в институтских мастерских; в последнем случае они имели и внутри, и снаружи вполне промышленный вид. (Изготовленные же в лаборатории приборы такого совершенного вида иметь не могли, так как не все еще (не будем показывать пальцем) лаборанты этой лаборатории умели профессионально паять:) Так вот, один из наших сотрудников был на семинаре в ГДР и с холодной завистью созерцал там такие же по назначению гэдээровские приборы, по всем своим характеристикам, и техническим, и видовым, намного лучше наших из мастерских. Обида за Родину – это опасное чувство, и он там ляпнул где-то не по делу, что в нашем НИИ есть приборы намного лучшего качества, если и не по внешнему виду (приборы ведь вспомогательные, красота не нужна) но по техническим возможностям – факт!
Вернулся патриот наш домой не чуя грядущей беды. Вдруг вызывают его куда надо и спрашивают, чего такого он там про наши приборы трепал. Оказывается, немецкие специалисты едут с ответным визитом к нам и просят включить в программу консультаций вспомогательные, но очень нужные приборы, о которых советский товарищ им рассказал… Две недели, а может быть, больше, вся наша лаборатория стояла на ушах. Ничего мы не делали другого, кроме того, что те товарищи, которые научными рангами повыше, разрабатывали, а товарищи, которые пониже, изготавливали, а в средних чинах – испытывали и проверяли образцы. Запарка была такая, что к изготовлению катушек индуктивности, подгонке резисторов и тому подобным занятиям был привлечен даже ваш покорный слуга, не слишком-то опытный к тому моменту в подобных делах.
Несмотря на мое участие в деле – приборы получились как надо (!!!) и наша лаборатория обрела-таки самый совершенный вспомогательный прибор, пусть неказистенький с виду, зато характеристики – во!!!
В такой обстановке не устоит ни один идеал, не устоял и мой идеал совершенного воображаемого НИИ. Храм высокой науки остался во мне идеально и отвлеченно от мира вещей и людей; и всего-то за несколько месяцев в том жизнерадостном, теплом, душевном НИИ из ребенка с задержкой языкового развития я превратился в ребенка, раздельно говорящего уже на двух языках. На языке идеалов – с одной стороны. На бытовом языке – с другой. Однако ребенок остается ребенком, и речь его – детская, на скольких бы языках ни начинал говорить.
Кажется, в повести «Белый Бим, Черное Ухо» есть эпизод, когда охотничья собака с отменным собачьим чутьем вдруг обнаруживает, что хозяин – бесчутый. Разумеется, собачка в повести антропоморфна, но тем не менее ее переживания по этому поводу описаны интересно, и я бы сравнил их с моим отношением к товарищам в том НИИ, когда я обнаружил, что ничего «возвышенного», «поэтичного» в этой лаборатории нет, и более того, инженеры лаборатории как будто бы не реагировали на глубину, широту, красоту населяемого нами мира, на высокое призвание Человека Науки в нем. Вполне возможно, в лаборатории по каким-то причинам не заладился тон, может быть, это я был еще слишком молод для этих людей и не ловил флюиды их души – но именно там я впервые задал себе вопрос: откуда берется серый инженер? И четко ответил на него: из высшей школы, откуда же еще. Расспрашивал я своих старших товарищей по работе о том, где, как и чему учились они в институтах, слышал ностальгические нотки в их рассказах о студенческих временах, но все более и более склонялся к мысли о том, что учиться в нашей высшей школе вредно для людей.
Действительно, требующийся объем чисто технических знаний инженера таков, что необходимая гуманитарная составляющая, достаточно тяжелая для равновесия с технической составляющей профессионального курса, но органически связанная с ним в единый профильный комплекс, никоим образом не поместится в пятилетний курс. Находясь под мощным давлением потока усваиваемых технических знаний, студенты невольно модифицируют свою личность, «техницируют» ее, перестают быть гармоничными, но сами этого не замечают – вот вам и «серый» инженер, ремесленник умственного труда. Конечно, я относился к каждому из них с огромным естественным уважением, я понимал, что это не их вина – это беда всего нашего технологичного века, но для себя я решил, что буду учиться в высшей школе только после того, как достаточно окрепну душой, чтобы успешно такому давлению противостоять. Вопрос карьеры, заработной платы, социального роста и т. п. в связи с этой темой вообще меня не интересовал – это был детский лепет, если правду сказать.

