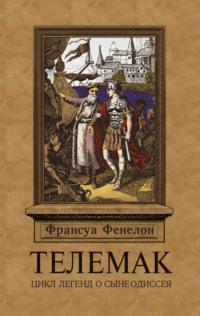полная версия
полная версияТелемак
Подкупленные Адрастом предатели играли слабостями обоих царей. С одной стороны, Нестору они непрестанно сплетали самые лестные похвалы, превозносили прежние его победы, дивились его прозорливости, не истощались в прославлении мудрого старца. С другой стороны, безотходно ставили сети нетерпеливому нраву Филоктетову, говорили ему о неудачах, препятствиях, неудобствах, опасностях, невознаградимых погрешностях. Лишь только огненный нрав его воспламенялся, мудрость его затмевалась, и он тогда не походил на Филоктета.
Телемак при всех своих недостатках был гораздо осмотрительнее: приучили его к тому несчастья и нужда еще с малолетства скрывать свои намерения от всех, искавших руки его матери. Без всякой лжи он умел блюсти тайну, даже никогда не принимал на себя вида таинственного и осторожного, свойственного людям скрытным, на лице его не показывалось и тени какой-либо тайны в душе. Но, говоря все, что не могло иметь никакого последствия, он умел остановиться без всякого притворства именно в том месте, где мог возбудить подозрение и подать повод разгадать свою тайну. Оттого сердце его было недоступно и непроницаемо. Самые близкие друзья знали от него только то, что он считал полезным и нужным сообщить им, чтобы воспользоваться их суждениями. Одному Ментору он открывал всю свою душу, имел доверие и к прочим друзьям, но не равное, а по мере опытов дружбы и разума каждого.
Неоднократно он примечал преждевременное разглашение того, о чем говорилось на совещаниях, и предварял о том Нестора и Филоктета. Но при всей опытности они не внимали спасительному предостережению. Старость непреклонна. Раба закоренелых привычек, она невольно послушна всем своим слабостям. Подобно дереву, скривленный и усеянный сучьями ствол которого, окрепнув от времени, не может уже выпрямиться, человек, склоняясь к закату жизни, лишается силы сопротивляться привычкам, возросшим вместе с ним и проникнувшим в глубину его сердца. Часто он их усматривает, но всегда уже поздно, стенает под их игом, но всегда тщетно. Юность – тот возраст, когда еще во власти человека исправить свои недостатки.
В союзной рати был некто Евримах, долопанин, вкрадчивый льстец, искусный в науке нравиться царям по вкусу и склонности каждого, неутомимый и хитрый угодник. По словам его, все было легко и удобно. Требовал ли кто от него мнения – он предугадывал, что кому по сердцу. Забавный в беседе, уклончивый перед сильным, кого боялся, он не умел щадить слабого, похвалам давал такой умный и тонкий оборот, что и скромность не отвергала этой жертвы, был с важными важен, с веселыми весел, ничего не стоило ему надеть не ту, так другую личину. Искренние и благолюбивые люди, всегда одинаковые, всегда равно покорные правилам добродетели, никогда не могут быть так милы царям, как льстецы, слуги страстей, в них господствующих. Евримах знал ратное дело, был вообще с дарованиями, долго скитался, пристал потом к Нестору, вкрался к нему в доверие, и всякую тайну, какую хотел, читал в его сердце, не совсем чуждом любви к похвалам и тщеславию.
Филоктет не имел к нему веры, но что касается Нестора, то благодаря его гневу и нраву пылкому, при первом ему прекословии Евримах узнавал от него все, ему нужное. Адраст платил изменнику золотом за вести о намерениях союзников и содержал в их стане лазутчиков, переходивших к нему по мере надобности. Во всяком важном случае Евримах посылал к нему то того, то другого, но обман не мог скоро открыться: письменных известий никогда при них не находилось, так что подозрение и при поимке их не могло пасть на Евримаха.
Между тем Адраст предварял все виды союзников. Сегодня назначалось в военном совете новое движение войскам, завтра донияне располагали по тому самому предначертанию все преграды успеху. Телемак неусыпно изыскивал причины неудач и старался внушить осторожность Нестору и Филоктету, но труд его был бесполезен, они оставались в ослеплении.
Положено было в совете дождаться сильного, на подходе уже находившегося подкрепления, а чтобы войска от гористого берега, куда следовали, могли поспешнее примкнуть к главным силам, собрано к тому месту сто судов для перевоза их тайно ночной порой. В стане между тем все покоилось за крепкой стражей в тесных ущельях ближней горы, составлявшей неприступный почти хребет гор Апеннинских. Союзная рать стояла по берегам реки Галез недалеко от моря, в прелестной долине, богатой пажитями и всеми плодами к продовольствованию войска. Адраст был за горой и, полагали, не мог пройти сквозь ущелье. Но, зная слабые силы союзников, скорое прибытие к ним подкрепления, суда, ожидавшие свежей рати, раздор в союзном войске от распри между Фалантом и Телемаком, он спешил обойти дальними путями ущелья и гору с неимоверной быстротой шел днем и ночью и прибыл к берегу моря по местам и дорогам непроходимым. Так превозмогаются величайшие преграды упорным трудом и смелостью. Для человека решительного и мужественного в терпении нет почти ничего невозможного. Засыпающий в робкой мысли, что трудное дело невозможно, достойно наказывается внезапным страхом и поражением.
Заря утренняя только еще занималась, когда Адраст напал на суда, принадлежавшие союзникам. Стража при них была немногочисленна, и та в спокойной беспечности; он овладел ими без сопротивления, посадил на них свои войска, с невероятной скоростью достигнул устья Галеза и столь же быстро поднялся вверх по реке. Передовые к реке около союзного стана отряды, полагая, что суда следуют с ожидаемым подкреплением, встретили их громкими, радостными кликами. Адраст высадил рать свою на берег, а в стане и в мысль никому еще не приходило, что это был неприятель: он грянул и нашел союзные войска в беззащитном месте, в неустройстве, без вождя, без оружия.
Первый удар он обратил на то крыло стана, где стояли тарентинцы под знаменами Фаланта. Донияне ринулись с таким стремительным натиском, что юные воины лакедемонские, изумленные внезапным нападением, не могли отразить силы силой. Между тем, как они, бросаясь к оружию, в тревоге друг другу мешали, Адраст велел зажечь стан тарентинский. Шатры запылали; огонь взвился до облаков с шумом, подобным шуму потока, когда он разливается по обширной долине и быстрыми волнами уносит высокие дубы с глубокими корнями, стада и их кровы, жатву и житницы. Ветер бросал пламя с шатра на шатер бурными порывали, и стан в короткое время стал подобен древнему лесу, загоревшемуся от искры.
Фалант, измеряя всю опасность, не находит средства к спасению, видит, с одной стороны, что войска, если тотчас не выйдут из стана, должны пасть жертвой пламени, с другой – что отступление в смутной тревоге перед лицом победоносного неприятеля будет не менее пагубно, решается вывести из окопов своих лакедемонян, не совсем еще вооруженных. Но Адраст по пятам их преследует. Там искусные стрелки его разят их стрелами, здесь пращники мечут в них градом огромные камни. Сам он с мечом в руке, под заревом пылающего стана, перед отборной дружиной неустрашимых гонит бегущие толпы, пожинает острым железом все, что спасается от пламени, устилает трупами поле, несытый кровопролитной сечью. Не с большей лютостью львы и тигры голодные терзают стадо и стражей. Воины Фалантовы, слабые в силах, упали и духом. Бледная смерть, ведомая адской фурией с головой, змеями обвитой, рыщет; стынет кровь от нее в жилах, леденеют оцепеневшие руки, а трепет ног отъемлет надежду и к бегству.
Стыд и отчаяние оживляли еще в Фаланте слабую искру силы и мужества, но он возвел только к небу очи и руки, когда увидел у ног своих брата, сраженного громоносной рукой Адрастовой. Гиппиас, простертый в пыли, борется со смертью. Струей бьет черная кровь из глубокой в ребре его раны, свет в глазах его меркнет, и дух, еще сильный свирепством, исходит с кровью. Обагренный родной кровью, бессильный подать брату руку помощи, Фалант сам окружен врагами, у всех одно усилие – свергнуть его наземь, и он со щитом, пробитым стрелами, весь в ранах теряет надежду собрать бегущие войска. Боги видят побиение и не состраждут.
Книга семнадцатая
Телемак поражает торжествующего неприятеля.
Попечение его о больных и раненых.
Юпитер в сонме всех небожителей смотрел с высоты Олимпа на поражение союзников. В тот же час он проникнул в Книгу непреложной Судьбы и читал в ней имена всех вождей, которых нить жизни должна была в тот роковой день пресечь неумолимая Парка. Все боги, безмолвные, желали предугадать по лицу Громодержца его волю. Отец богов сказал им кротким и величественным голосом:
– Вы видите бедствие союзников, видите, как Адраст разит и гонит своих неприятелей. Ложное зрелище! Слава и счастье злых ненадолго. Адраст, клятвопреступник, не одержит полной победы. Это бедствие в наставление союзникам, чтобы они исправили свои пути и хранили втайне свои советы. Мудрая Минерва готовит здесь юному Телемаку новую славу. Он утеха ее сердца.
Так говорил Юпитер. Боги в глубокой тишине смотрели на битву.
Между тем Нестор и Филоктет получили известие, что одно крыло стана обращено уже в пепел, пламя, ветром раздуваемое, распространялось, все войска были в смятении, Фалант не мог долее противоборствовать силам неприятеля. Едва печальная весть достигает их слуха – они вооружаются, собирают ратоводцев, спешат выйти из стана и спасти войска от пламени.
Телемак, доселе сокрушенный и неутешный, забыв горесть, надевает доспехи, драгоценный дар мудрой Минервы, которая в образе Ментора, по сказаниям, приобрела их у одного из превосходных в Саленте мастеров, а в действительности умолила Вулкана выковать их в огнедышащих пропастях Этны.
Доспехи были чисты и ясны, как зеркало, блистали, как лучи солнца. Представлялись на них Нептун и Паллада в споре о славе, кому из них назвать новый город своим именем. Нептун трезубцем ударил в землю – и бурый конь выпрянул из недр земли: из очей сыпались искры, из рта клубилась пена, ветер играл волнистой гривой, быстро и сильно дугой гнулись гибкие ноги, не шел он, мчался, как вихорь следа по нем не оставалось, только что не был слышан звук его ржания.
С другой стороны Минерва вручала обитателям нового своего города оливковую ветвь, плод взращенного ею дерева. Ветвь с плодами была знаком благословенного мира и изобилия, вожделеннейших бранного грома, которого конь был изображением. Даром простым, но полезным богиня одержала победу, и гордые Афины украсились ее именем.
Та же Минерва собирала под кров свой изящные художества, нежных, крылатых младенцев – они стекались к ней в страхе и трепете от кровожадного Марса, как боязливые агнцы бегут к матери от голодного волка, когда он ринется на них с разверстой и пламенной пастью.
Там же Минерва, с лицом гневным и с негодованием, посрамляла красотой своих рукоделий безумную надменность Арахны, которая дерзнула спорить с ней о превосходстве тканей. Несчастная таяла, все ее члены, превращаясь в паука, изменялись, чахли.
Вслед за тем еще являлась Минерва, как она в брани с гигантами подавала совет самому Громодержцу и всех смущенных богов успокаивала.
Она же представлялась с копьем и эгидом на берегах Симоиса и Ксанта, вела за руку Улисса, новым духом оживляла греческие войска, обращенные в бегство, удерживала стремление бурных ратоводцев троянских и страшного Гектора, наконец, вводила Улисса в ту роковую громаду, которой суждено было ниспровергнуть в одну ночь царство Приамово.
С другой стороны щита видна была Церера на плодоносных полях Энских в Сицилии: она созывала рассеянных той страны обитателей. Иные из них гонялись в лесах за зверями, другие собирали под деревьями желуди. Она наставляла дикарей, как возделывать землю и доставать пищу из неистощимых ее недр, показывала им плуг, учила смирять волов под ярмо. Взрыхлялась земля, послушная плугу, тучные нивы одевались золотыми колосьями, жнец ссекал серпом благословенную жатву, за труд свой возмездие, и железо, орудие пагубы и истребления, предуготовляло избыток, рождало утехи.
Нимфы, в венках из цветов, хороводом плясали по лугу на берегу реки под сенью рощи. Пан играл на свирели, в стороне скакали резвые сатиры и фавны. Вакх в венке из повилики, опершись одной рукой на жезл, в другой держал виноградную лозу, богатую листьями и гроздьями, – сам живой образ красоты, исполненной чувства, с благородством, спиянным с томной и страстной негой. В таком виде он некогда явился несчастной Ариадне, покинутой на чужом берегу, одинокой, снедаемой грустью.
Со всех сторон видно было множество народа. Старцы несли начатки плодов в храмы на жертву, юноши, утомленные дневным трудом, возвращались под свои кровы, спешили к ним жены навстречу, вели за руки детей и лелеяли. Пастухи пели песни, иные плясали под звуки цевницы. Все представляло мир, изобилие, радость, все процветало и веселилось. Волки на пажитях играли с овцами, лев и тигр, забыв свою лютость, паслись вместе с робкими агнцами, и малый отрок с пастушеским посохом гонял их в одном стаде по своей воле: приятнейшее изображение, напоминавшее все счастье золотого века!
Надев на себя божественные доспехи, Телемак взял не свой щит, а ужасный эгид, который Минерва прислала ему с Ирисой, быстрой вестницей богов. Его щит Ириса тайно сокрыла и на место его положила эгид, страшный и небожителям.
Так вооруженный, он выходит из пылающего стана и сильным голосом зовет к себе военачальников. Могучий голос отдается в сердцах устрашенных союзников. Божественный огонь горит в глазах юного витязя. Кроткий, спокойный, внимательный, он раздает повеления так свободно, как мудрый старец наставляет сынов и устраивает семейство, но он скор и быстр в исполнении, подобно реке, которой пенистые волны, гоня одна другую, уносят огромные корабли в бурном стремлении.
Филоктет, Нестор, вожди мандуриян и всех прочих народов невольно внемлют и покоряются власти сына Улиссова, молчит перед ним опытность старцев, дух совета и мудрости отъемлется от ратоводцев, даже зависть, чувство, знакомое людям, таится безгласная. Все удивляются, безмолвные, готовые повиноваться Телемаку без размышления, будто по древней привычке исполнять его волю. Он всходит на холм, оттуда обозревает расположение сил неприятельских и видит, что они сами смешались от пожара в стане; решился внезапно ударить на них прежде, чем они могли устроиться, спешит обвести в обход союзные войска; все вожди за ним следуют.
Донияне считали союзников жертвой пламени. Вдруг Телемак грянул на них с тыла – обмерли от ужаса и под острием меча его падали, как лист в лесу валится с деревьев в глубокую осень, когда от бурных порывов грозного аквилона корни стонут и дубы столетние гнутся. Земля устлана трупами воинов, сраженных сыном Улиссовым. Копьем он пронзает в сердце Ификлеса, младшего сына Адрастова: дерзнул противостать ему в битве, ограждая отца от грозившей опасности. Телемак и Ификлес, оба цветущие красотой, оба витязи силой, мужеством и искусством в боях, были одних лет, одного роста, равно милы родителям. Но Ификлес был подобен развившемуся и подсеченному в полном цвете серпом жнеца крину. Потом Телемак низлагает Ефориона, знаменитейшего из всех пришедших в Этрурию лидян, наконец, сражает мечом Клеомена, новобрачного, который обещал юной супруге своей возвратиться с богатой добычей, но которому суждено было никогда уже не видеть ее.
Адраст кипел яростью в сердце, видя падение любезного сына, смерть многих своих ратоводцев и победу, из рук его исторгаемую. Фалант, теснимый Адрастом и обессиленный, подобен был жертве, прободенной, но не в сердце, когда она, ускользнув от священного ножа, бежит далеко от капища. Еще одно мгновение – и могучий лакедемонянин пал бы под рукой Адраста.
Облитый кровью своей и кровью сподвижников, он вдруг слышит голос Телемака, идущего к нему на помощь, – и жизнь, угасавшая в нем, воскресает, и мрак пред глазами его рассыпается. Донияне, изумленные неожиданным нападением, бегут от Фаланта отразить нового врага опаснейшего. Адраст рыщет, как тигр, когда пастухи, ставши дружиной, отнимают у него добычу из пасти. Телемак ищет его посреди сечи и хочет одним ударом и войну прекратить, и союзников избавить от непримиримого неприятеля. Но Юпитеру неугодно было даровать так скоро сыну Улиссову нетрудной победы. Сама Минерва желала испытать его долее в несчастьях, чтобы он лучше узнал науку народоправления. Отец богов пощадил пока Адраста, а Телемаку тем самым предоставил время возрасти в доблести и стяжать блистательнейшую славу. Собралась по мановению Громодержца черная туча, страшный гром возвестил волю богов. Затряслись над головами слабых смертных вечные своды Олимпа, молния рассекала тучу от края до края неба, все пылало, и потом вдруг все одевалось ужасным мраком. Хлынул наконец дождь и разлучил враждебные рати.
Адраст обратил помощь от богов в свою пользу, но не смирился перед их всемогуществом и неблагодарностью изострил еще стрелы праведной мести. Между станом в огне и простиравшимся до самой реки болотом он провел рать свою в таком порядке, с такой поспешностью, что отступление было новым опытом его искусства и присутствия духа. Ободренные Телемаком союзники ударились в погоню, но, заслоненный сумраком тучи, он ускользнул от них, как из сетей ловца улетает быстро парящая птица.
Союзники, возвратясь, приступили к восстановлению опустошенного стана. Тут им представилась вся картина горестных последствий войны. Больные и раненые, без силы выйти из-под навесов, не могли спастись от пламени, лежали все обожженные и слабыми, могильными голосами умоляли небо пресечь их страдания. Это печальное зрелище раздирало сердце сына Улиссова, он заплакал, смыкая глаза от ужаса и жалости, не мог без содрогания смотреть на тела, еще живые, но на медленную и мучительную смерть обреченные, подобные жертвам, сжигаемым в капищах и слышным по духу далеко в окрестности.
– Вот бедствия, неразлучные с войной! – говорил Телемак. – Какое неистовство ослепляет несчастных людей! Малы дни их жизни под солнцем, и те исчезают в беде и суетах. Зачем бы еще гоняться за смертью, и без того всегда к нам близкой; к горестям, которыми боги усеяли краткий наш путь на земле, прилагать меч и огонь со всеми их ужасами? Люди братья, а друг друга терзают. Хищные звери не так кровожадны. Львы не восстают на львов, ни тигры на тигров: человек с даром разума один делает то, чего никогда не делали бессмысленные животные. И к чему брани? Не будет ли во вселенной каждому в удел столько земли, сколько и не возделает? Сколько пустынь, еще необитаемых? Не наполнит их весь род человеческий. Ложная слава, желание приобрести пустое имя завоевателя зажигают войну и переносят ее в необозримые степи. Один человек, посланный на землю разгневанными богами, осуждает тысячи в жертву своему властолюбию. Все гибнет, все тонет в крови, огнем пожирается, спасенный от меча и от пламени не может спастись от голода, всех казней мучительнейшего, для того, чтобы один человек, играя природой, нашел себе потеху и славу в разрушении. Ужасная слава! Ненависть и презрение всего мира – слишком легкое наказание за столь глубокое забвение человечества. Такой бич – не только не полубог, но и не человек, и вместо удивления, ожидаемого им от поздних веков, век веку должен передавать его имя с проклятьями. О, с каким попечением надобно стараться избегать войны, прежде чем бранный меч обнажится! Война должна быть справедлива, мало того: она должна быть еще необходима для общего блага. Кровь народа не должна проливаться ни для чего иного, как только для его же спасения в неотвратимых опасностях. Советы ласкателей, ложные понятия о славе, малодушная зависть, несправедливая алчность с лицом благовидным, наконец, мелкие уважения, незаметно превращаемые в обязанности, вовлекают царей в войны, где ждут их несчастья, где они жертвуют всем наудачу без всякой нужды и где их подданные столько же страждут, как и неприятели.
Так размышляя, Телемак не ограничивался слезами о бедственных плодах войны, а старался уврачевать раны, сам приходил в шатры подавать руку помощи страждущим, снабжал их лекарствами и деньгами, утешал и ободрял их дружескими беседами, кого сам не мог посещать, к тем посылал своих спутников.
Были при нем два критянина, старцы Тромофил и Нозофуг. Тромофил был под Троей с Идоменеем и там от сынов Эскулаповых принял божественный дар целить язвы. В самые глубокие и застарелые раны он вливал благовонный состав, истреблявший без всякого искусства руки гнилые и мертвые части тела так, что они в короткое время возрождались с новой крепостью.
Нозофуг не знал сынов Эскулаповых, но посредством Мериона получил священную, таинственную книгу, оставленную Эскулапом в наследство детям. Сам он был друг богов, сочинял песни в честь дочерей Латониных и ежедневно приносил белую овцу в жертву Аполлону за вдохновение свыше. Посмотрев на больного, он узнавал по глазам, по цвету лица, по дыханию, по образованию тела причину болезни, пользовал лекарствами, производящими пот, изъясняя по мере их действия, до какой степени остановленная или свободная испарина расстраивала или подкрепляла все сложение тела, при расслаблении сил давал питье укрепляющее, которое, действуя постепенно на внутренний состав и очищая кровь, обновляло в больном юность и силы. Но он утверждал, что с добродетелью, с мужеством против страстей человеку не было бы нужды так часто лечиться.
– Стыдно людям, – говорил он, – что между ними столько болезней. Надежнейший страж здоровья – непорочность нравов. Невоздержность претворяет целительнейшие снеди в яд смертоносный. Все врачевства не могут столько продлить жизни человеческой, сколько сокращают ее неумеренные наслаждения. Бедные не столько страждут от недостатка в пище, сколько богатые от пресыщения. Снеди лакомые и прихотливые – не пища, а отрава. Лекарство само по себе уже зло, подмывающее природную крепость, и надлежит употреблять его только в необходимости. Великое, всегда невинное, всегда спасительное лекарство – трезвость, умеренность в наслаждениях, спокойствие духа, телесные упражнения. Тогда кровь течет тихо, без всякого волнения, и все излишние в теле мокроты сами по себе истребляются.
Таким образом мудрый Нозофуг славился не столько еще врачеванием, сколько советами о умеренности, которая верный щит от болезней и при которой искусство врача мало нужно.
Телемак поручил обоим старцам осмотреть больных и раненых в стане. Многих они исцелили лекарствами, но еще более попечением о благовременном во всем пособии, содержанием больных в чистоте, на свежем воздухе и наблюдением строгой умеренности при выздоровлении. Умиленные сострадательной заботливостью, воины благословляли богов за то, что послали им Телемака.
Он не человек, говорили, а, без сомнения, бог благотворный во образе смертного, если же и человек, то ближе к богам, нежели к людям. Каждый час его жизни ознаменован благодеяниями. Нельзя не любить его за доблесть и мужество, но он стократно еще любезнее кротостью и благосердием. О, если бы мы были под его державой! Но боги хранят его для другого, счастливейшего нас, любимого ими народа, в стране которого желают возобновить блаженство золотого века.
Телемак, всегда осторожный против Адраста, известного ратной хитростью, обходя стан ночной порой, слышал эти похвалы, неподозрительные, чуждые лести, совсем отличные от тех похвал, которыми часто ласкатели вслух и в глаза превозносят царей, не опасаясь встретиться со стыдом или скромностью и зная, что немолчная хвала не сегодня завтра входит прямо в сердце и в милость. Сыну Улиссову то только могло быть приятно, что было истинно, и та только хвала была для него не омерзительна, которая воздавалась ему втайне, не вслух, по заслугам. Ктаким похвалам нехладно было сердце его, знакомое с тем сладостным небесным удовольствием, которое боги даровали в удел одной добродетели, которое никогда не проникало в сердце порочное и для такого сердца навсегда останется непостижимой тайной. Но он и здесь не упивался удовольствием, приходили ему на память все прежние его преткновения, природная надменность, бесчувственность к людям. Он сгорал от стыда, размышляя, что родился с лицом, дышащим любовью, а с сердцем каменным, и всю славу, ему приписываемую, воссылал с чувством недостоинства, как жертву мудрой Минерве.
– Ты, великая богиня, – говорил он – даровала мне Ментора для наставления и исправления злых моих склонностей, ты отверзаешь мне ум познавать свои слабости и быть на страже у сердца, ты укрощаешь мои бурные страсти, научаешь меня находить сладость в пособии страждущим, без тебя я был бы ненавидим и достоин общей ненависти, прилагал бы погрешность к погрешности, был бы подобен младенцу, который, не чувствуя своего бессилия, отходит от матери и на первом шагу, преткнувшись, падает.
Нестор и Филоктет, видя кротость сына Улиссова, всегдашнюю мысль его делать другим добро и удовольствие, готовность к услугам и помощь, рвение предварять всякую нужду, не могли надивиться столь великой в нем перемене, не верили глазам своим, не узнавали Телемака.
Но еще более он удивил их попечением при погребении Гиппиаса. Сам он пошел на то место, где тело витязя, облитое кровью и обезображенное, лежало под грудой трупов, сам его поднял и оросил благоговейными слезами.