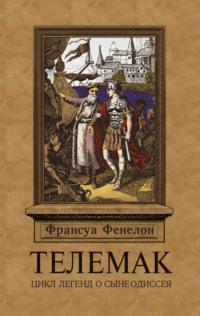полная версия
полная версияТелемак
Как громом сраженный, гордый любитель мудрости не мог сносить самого себя. Удовольствие, с которым он любовался своей кротостью, силой духа и чувствами любви к ближнему, переменяется на отчаяние. Лютая казнь для него – каждый взгляд в свое богоотступное сердце, он видит себя и не может перестать себя видеть, видит вместе и суетность судов человеческих, для которых зиждил весь труд своей жизни. Во всем существе его ничего не осталось на своем основании, все сместилось, будто обрушилось. Он не узнает себя, не находит в сердце опоры, а совесть, дотоле льстивая его угодница, воспрянув, обличает его с немолчным упреком в заблуждении и ложной мечте добродетелей, которых началом и пределом не было служение богу. В смущении, в горести, он стоит посрамленный, с сердцем, раздранным в отчаянии. Не терзают его фурии: довольно того, что он ими сам себе предан, довольно уже мстит ему за презренных богов его собственное сердце. Он ищет мрачных и недоступных вертепов, таится от других мертвых, бессильный укрыться от самого себя, ищет тьмы и не находит. Мучительный свет всюду за ним следует, и всепроницающие лучи истины карают его за отверженную истину. Все, прежде любимое, ненавистно ему как источник страдания нескончаемого. «Безумный! – говорит он сам себе. – Я не знал ни богов, ни людей, ни самого себя, ничего не знал, не любив единого истинного блага, ходил по путям лжи и лукавства, мудрость моя была безумием, добродетель – богопротивной и ослепленной гордостью, сам себе я поклонялся».
Наконец Телемак достиг того места, где заключены цари, осужденные за злоупотребление властью. С одной стороны фурия-мстительница держала перед ними зеркало, в котором все ужасы пороков их живописались. Там они видели, – обреченные видеть вечно одно и то же, – свое тщеславие с бесстыдной жаждой похвал, столь же бесстыдных, жестокосердие к людям, которых счастье устраивать они были призваны, бесчувственность к добродетели, страх услышать голос истины, преданность подлым клевретам-угодникам, праздность, негу и усыпление, несправедливые подозрения, пышность и роскошь, властолюбие, покупавшее ценой крови подданных мимолетный звук суетной славы, и бесчеловечие, искавшее всегда новых прохлад и сладостей в слезах и отчаянии несчастных. Непрестанно они видели себя в зеркале, и ни химера, побежденная Беллерофонтом, ни гидра лернейская, низложенная Геркулесом, ни даже Цербер с тройной разверстой пастью, изрыгающей смертоносную кровь, сильную истребить все племена земнородных, не представлялись им столь ужасными чудовищами, какими они сами себя находили.
В то же время с другой стороны другая фурия повторяла им все похвалы, которые льстецы воспевали им в жизни, и держала перед ними другое зеркало, где они видели себя во всем том величии, в том блеске доблестей, в каком лесть немолчно их представляла. Столь противоположные изображения составляли казнь их тщеславия. Видно было в зеркале, что блистательнейшие похвалы были сплетаемы самым злым царям. Злые, властвуя страхом, требуют себе подлой лести от витий и стихотворцев своего века.
Стенают они в глубоких пропастях тьмы, осужденные на вечный позор и поругание: куда ни обратятся, все им прекословит, все их посрамляет и гонит. На земле они тешились, играли жизнью подданных, думая, что все было создано им на служение, а в Тартаре сами они отданы в полную власть рабов, свирепых своевольством, и испивают всю чашу лютейшего рабства, служат им с горестным сокрушением, не видя ни искры надежды освободиться из плена, – истязаемые безжалостными мучителями, некогда их рабами, как циклопы бьют молотом железо, когда Вулкан шлет их на работу в пылающие горнила Этны.
Вслед за тем Телемак встретил бледные, отвратительные, отчаянные лица: мрачная грусть гложет несчастных, в непрестанном от омерзения к самим себе ужасе они не могут избавиться от столь мучительного чувства, с бытием их ужас слился навеки. За все преступления одна им казнь – те же самые преступления, другой и не нужно, они везде и всегда перед ними во всем безобразии, представляются им на каждом шагу, по пятам их преследуют, – страшные призраки. Спасаясь от них, они ищут смерти, не той, которая разлучила их с телом, но в отчаянии взывают к смерти могущественнейшей, которая уничтожила бы в них всякое чувство, всю силу познания, молят бездны поглотить и сокрыть их от мстительного света истины, везде им гонимые. Но судьба блюдет их на жертву небесному мщению, огнем оно на них медленно каплет и никогда уже не истощится. Они боялись на земле узреть лицо истины, за это она здесь их мучение. Они видят истину, в месть им вооруженную, и ничего иного не видят. Как стрела, она проходит сквозь все существо, раздирает их, душу из них вырывает. Как молния, ничего не разрушая извне, она проникает до внутреннейшего основания жизни. Как железо в пылающем горне, так в огне мести душа растопляется, все от него тлеет, и ничто не гибнет, сокровеннейшие начала бытия, разлагаясь, истаивают, а человек не умирает. Душа, сама от себя отторгаемая, не находит ни на миг ни покоя, ни помощи, живет одной уже яростью против самой себя и отчаянием, переходящим в неистовство.
Между несчастными Телемак, объятый ужасом, увидел многих древних Лидийских царей, мучимых за предпочтение прохлад праздной жизни труду царского звания, возлагаемого для блага народов. Они укоряли друг друга ослеплением.
Отец говорил сыну: «Не умолял ли я тебя на старости перед смертью исправить зло, допущенное моим небрежением?» «Несчастный отец! – отвечал сын. – Ты погубил меня своим примером. От тебя я взял пышность, гордость, сластолюбие, жестокосердие к людям, видя тебя на престоле в неге и усыплении, в кругу раболепных клевретов, я так же привык к лести и сластолюбию, думал, что для царей люди то же, что рабочий скот для их подданных, – бессловесные животные, содержимые, пока служат и пока есть от них польза. Так я мыслил, получив от тебя в наследство такой образ мыслей. Теперь стражду за то, что шел по следам твоим». Укоризны они оканчивали страшными проклятиями, дыша свирепством, готовые ринуться один на другого.
Носились еще около них, как птицы ночные во мраке, мучительные подозрения, вымышленные смуты, недоверчивость – кара владыкам за бесчувственность к подданным, ненасытная алчность к богатству, ложное, всегда кровожадное славолюбие и усыпленная роскошь, которая прилагает бедствие к бедствию, но никогда не приносит истинного удовольствия.
Многие из царей страдали не за зло содеянное, а за добро упущенное. Вменялись им в вину все преступления подданных от слабости в наблюдении за исполнением законов: власть для того, чтобы законы ею царствовали. Приписывались им и все неустройства от пышности, роскоши и расточительности, которые, исторгая человека из мирных пределов его состояния, заставляют презирать закон для неправедного стяжания. Тяготела рука правосудия особенно над теми, которые, вместо того, чтобы быть добрыми, бдительными пастырями народа, расхищали вверенное им стадо.
Но с живейшим сокрушением Телемак увидел в бездне тьмы и мучений царей, славных некогда в мире добротой, и осужденных в Тартаре на казни за преданность людям злым и коварным, за зло, их именем и властью содеянное. Большая часть из них не были ни злы, ни добры: до того доходила их слабость. Равнодушные к истине, знали они или не знали ее, они не имели ни искры любви к добродетели, и удовольствие добро творить было им совсем неизвестно.
Книга девятнадцатая
Описание Полей Елисейских.
Оставив место скорби и плача, Телемак вздохнул свободно: камень отпал от его сердца. По собственному чувству он измерял несчастие заключенных во тьме без всякой надежды выйти из страны горестей и содрогался от ужаса, размышляя, до какой степени участь царей мучительнее участи других осужденных. Столько обязанностей, – говорил он, – столько сетей, преткновений, преград в познании истины, в брани с другими, с самим собой: и после всего труда, всех козней от зависти, всех превратностей в столь краткой жизни – в аду еще столько неизъяснимых страданий! Безумен тот, кто ищет власти! Счастлив довольный частной долей под мирным своим кровом, где путь к добродетели менее усеян тернами.
Смутился он и вострепетал при столь печальном размышлении, – и мрачная грусть, запав в его сердце, дала ему вкусить от отчаяния осужденных.
По мере того, как он отходил от места ужаса, тьмы и страданий, дух мужества оживал в нем. Наконец он успокоился и скоро увидел чистый, приятнейший свет жилища героев.
В отдалении от других праведных находились обители добрых царей, управлявших народами с мудростью. Как муки злых царей в Тартаре превосходили все мучения преступников частных состояний, так добрые цари в Елисейских Полях наслаждались высшим, несравненным блаженством против прочих людей, ходивших на земле путем добродетели.
Телемак пошел к тем царям в сады райские, на луга вечно зеленые, вечно цветущие. Ручьи светлой воды, в бесчисленном множестве, омывая эти прелестные места, разливают приятнейшую прохладу. Тысячи птиц с очаровательными голосами не умолкают. Цветы юной весны только что родятся еще под ногами, а на деревьях уже видно все богатство осенних плодов. Никогда не проникали туда ни палящий зной, ни грозная зима, ни бурные вихри. Бегут от той счастливой страны мира и кровожадная война, и злобная зависть с полным яда зубом и со змеями, около рук и персей обвившимися, и вражда, и подозрения, и страх, и все суетные желания. День не оканчивается, и ночь с мрачными тенями там совсем неизвестна. Свет живоносный, чистейший сияет над избранными, тела их одеты светом, как ризой.
Это не наш слабый свет – тьма перед ним – который озаряет глаза земнородных, это не свет, а блистание славы небесной, он проходит сквозь самые твердые тела быстрее, чем луч солнца сквозь чистейший кристалл, не ослепляет – дает еще глазам крепость, а душу наполняет какой-то невообразимой ясностью. Одним этим светом питаются избранные, из них он исходит и к ним обращается, всепроницающий, он сливается с их существом, как пища с нами совоплощается. Они дышат им, его видят, его ощущают. Он в них источник мира и радости, текущий в бесконечную вечность. Они плавают, как рыбы в море, в беспредельности сладостей. Нет уже в них никакого желания, они имеют все, ничего не имея: ощущение чистого света утоляет весь глад и всю жажду их сердца. Все желания их совершились, и они в полноте совершенства воспаряют выше всего того, чего ищут на земле суетные и алчные люди, ни во что вменяют даже все вокруг них сладости рая, упившись сладостью высочайшего блаженства, из глубины души истекающего, они уже не могут принимать впечатлений от внешних чудес небесных обителей, они подобны богам, которые, насытясь нектаром и амброзией, не прикоснулись бы к яствам на великолепнейших пиршествах у смертных. Отбежали навеки все скорби от этого места покоя. Никогда не приближаются к нему ни смерть, ни болезнь, ни бедность, ни печаль, ни упреки, ни сетования, ни страх, ни надежда, часто мучительнейшая самого страха, ни раздор, ни гнев, ни унылая скука.
Заоблачные горы фракийские, обложенные от начала мира снегом и льдами, обрушатся с утвержденных в недрах земли оснований скорее, чем сердце праведных поколеблется. Они только скорбят о бедствиях жизни человеческой, но благолюбивая, мирная жалость нимало не изменяет невозмутимого их наслаждения. На лицах их написаны вечный цвет юности, бесконечное блаженство, божественная слава, но радость их не есть веселье скоротекущее, бурное: она всегда ровна, спокойна, исполнена величия, она есть высочайшее ощущение истины и добродетели – восторг души неизглаголанный. Непрерывно, ежеминутно они в таком восхищении сердца, какое чувствует мать, неожиданно увидевшая сына, давно оплаканного, но радость, преходящая скоро в материнском сердце, никогда не умирает в сердце небожителей, ни на одно мгновение не умаляется, всегда для них первое, новое чувство. Они в восторге упоения с духом невозмутимым и светлым.
Совокупно они беседуют обо всем, что видят и чем наслаждаются, презирают и вместе оплакивают все утехи и все величие прежнего своего сана, с удовольствием возвращаются мыслию на то печальное, но краткое поприще, где надлежало им для победы над злом бороться с собой и идти против потока растления, благословляют вышнюю руку, приведшую их к добродетели от скорби великой. Непрестанно течет сквозь сердца их что-то неизъяснимое, излияние от самого божества, с ними соединяющегося. Они видят, ощущают свое блаженство и чувствуют, что будут вечно блаженствовать, поют хвалу богам и все вместе составляют один голос, один ум, одно сердце. Волны блаженства льются в их души, соединенные неразрывным навеки союзом.
В божественном восхищении века протекают у них быстрее, чем у смертных часы, и тысячи тысяч протекших веков не убавляют ни одной капли в беспредельном море их блаженства, вечно нового и преисполненного. Все они царствуют не на престолах, сокрушаемых рукой человеческой, но в самих себе, с непоколебимой силой и властью. Не нужно уже им быть страшными чуждой силой, не носят они тленных венцов, скрывающих под блеском труд и печали: боги сами возложили на них иные венцы непомрачимые.
Телемак, вступая в эти места, сначала боялся найти там отца, но до того восхищен был неописуемой тишиной и райским блаженством, что желал уже встретить Улисса и сетовал, что сам должен был возвратиться в страну смертных. Здесь, – говорил он, – истинная жизнь, а на земле мы не живем – умираем. Потом он, изумленный, не верил глазам своим, сравнивая великое число заключенных в Тартаре с немногими избранными на Елисейских Полях. Мало царей, сильных духом и твердой волей, не всегда послушных своей власти, врагов лести, не внемлющих толпе угодников! Герои добродетели редки. Большая часть людей так злы, что боги не были бы правосудны, если бы после долготерпения в мире оставили их по смерти без наказания.
Не встречая отца между царями, Телемак искал, по крайней мере, своего деда, Лаерта божественного, но равным образом тщетно. Между тем подошел к нему старец, исполненный величества. Старость его не имела ни тени той старости, под бременем которой на земле человек изнемогает: видно только было, что он перед смертью был уже в преклонных летах. Величие старости сливалось в нем со всеми приятностями юности: приятности в полном цвете возрождаются в самых ветхих летами старцах, лишь только они ступят на Поля Елисейские. Он спешил и издалека еще смотрел на Телемака со светлым лицом удовольствия, как на человека, любезного его сердцу. Не узнавая его, Телемак был в недоумении.
– Прощаю тебе, сын мой, что ты не узнаешь меня, – говорил ему старец. – Я Арцезий, отец Лаертов. Я скончался прежде, нежели Улисс, внук мой, пошел в поход против Трои. Ты был тогда еще в младенчестве, но я уже предвидел в тебе отличные дарования, и надежда моя совершилась: вижу тебя в царстве Плутоновом, и в подвиге сыновней любви боги сами ведут тебя под своим кровом. Счастливый юноша! Ты мил богам: они готовят тебе славу, как новому Улиссу. Счастлив и я, что вижу тебя. Не ищи здесь Улисса. Он еще жив и возвратится восставить дом наш в Итаке. Лаерт, ветхий летами и силой, так же еще наслаждается солнечным светом и ожидает, чтобы сын пришел закрыть ему очи. Так человек приходит, подобно полевому цветку: поутру разовьется, под вечер вянет, растоптанный. Идут поколения за поколениями, как в быстрой реке струя бежит за струей. Время не останавливается и влечет с собой все, на вид даже несокрушимое. И ты, сын мой, здравый ныне юностью, полной жизни и удовольствий, помни, что твой возраст так же, как цвет: распустится и засохнет. И не заметишь, как переменишься. Исчезнут, как волшебный сон, и веселые приятности, и невинные забавы, твои спутницы, и сила, и здоровье, и радость, останется в тебе только печальное о них воспоминание. Придет с болезнями старость, враг удовольствий, морщинами проложит след по себе на лице твоем, согнет твое тело, расслабит члены, иссушит в сердце источник веселья, опротивеет тебе все настоящее, она истерзает тебя страхом будущего, убьет в тебе всякое чувство, но не чувство болезни и горести.
Это время кажется тебе отдаленным: ошибаешься, сын мой! Оно бежит, по пятам твоим следует, вот оно! То недалеко, что мчится с таким быстрым порывом. Далеко уже от тебя, напротив того, час настоящий, мимо идущий посреди нашей беседы и исчезающий навсегда безвозвратно. Не полагайся на настоящее, сын мой! Думай о будущем и, крепкий этой мыслию, мужайся на многотрудном пути добродетели. Приготовляй себе непорочностью жизни, любовью к справедливости место в счастливой стране покоя.
Скоро наконец ты увидишь отца в Итаке вновь на престоле и сам будешь царствовать. Но, сын мой, обманчив царский венец: издалека – величие, блеск и веселье, вблизи – труд и печали! Не бесславна в частной доле жизнь безвестная, тихая; царь не может без посрамления себя предпочитать покойную и праздную жизнь тяжким трудам управления. Он принадлежит не себе, а своим подданным, никогда не властен жить для самого себя. Погрешности его, и малые, часто влекут за собой роковые последствия: народ иногда страждет от них целые века. Он должен смирять наглость порока, низлагать клевету, быть щитом для невинности. Мало того, если он только не делает зла, он должен делать все возможное добро, предваряя тем все нужды своей области. Не довольно и того, если он сам трудится об устроении общего блага: долг его поставить преграду всем злодеяниям, на которые другие могли бы дерзнуть без обуздания. Страшись, сын мой, столь опасного звания и будь непрестанно на страже против самого себя, против своих страстей и ласкателей!
Оживленный божественным огнем, Арцезий смотрел на Телемака с лицом, исполненным сострадания к бедствиям, неразлучным с царским достоинством.
– Оно – жезл железный, – говорил он, – в руках того, кто приемлет его в потеху страстям своим, тяжкое рабство, требующее исполинского терпения и мужества от того, кто приемлет его с твердой волей исполнить обязанности и управлять народом с отеческой бдительностью. Зато царствовавшие на земле с чистой добродетелью здесь наслаждаются всем тем, чем только могут всесильные боги преисполнить меру блаженства.
Все слова великого старца проходили в глубину сердца сына Улиссова и печатлелись на нем; так искусный художник резцом выводит из меди на свет любимое лицо, завещая его отдаленнейшему потомству. Слова мудрого старца, как тончайший огонь, проникали в его душу, горело в нем сердце растроганное, истаивало от божественной силы. Запавшая во внутреннейшее основание души мысль снедала его втайне, он не мог ни подавить, ни сносить ее, ни сопротивляться могущественному ее излиянию– чувству живейшему, сладостному, но и мучительному, сильному исторгнуть душу из тела.
Наконец он успокоился и приметил в лице Арцезия большое сходство с Лаертом, приходили ему, хотя и слабо, на память такие же черты и в Улиссе, когда он отправлялся в Троянский поход.
Умиленный воспоминанием, он пролил от радости сладкие слезы и не один раз хотел обнять старца, но тщетно: уходила от рук его легкая тень, как сновидение бежит от спящего в ту самую пору, когда он мечтает им наслаждаться; то устами он хватает, томимый жаждой, мимо текущую воду, то движением губ трудится составить речь с усилиями, которым усыпленный язык непослушен, то простирает руки с быстрым порывом и ничего не находит. Так Телемак заключал в себе все излияние нежности, видел и слышал Арцезия, говорил с ним, но не мог прижать его к сердцу, неосязаемого, наконец, спросил его, кто мужи, им видимые?
– Сын мой! – отвечал ему старец. – Они были каждый красой своего века, славой, даром благодатным для рода человеческого – избранные из царей, достойные венценосцы, верно проходившие звание богов на земле. Другие, отделенные от них легким облаком, приняли меньшую славу, это герои: возмездие за мужество и ратные подвиги не может сравниться с воздаянием за мудрое, правосудное и благотворное царствование.
Между героями ты видишь Тезея с прискорбным лицом. Он испытал несчастные последствия легковерного внимания к внушениям коварной жены и теперь еще сокрушается, что несправедливо молил Нептуна о жестокой смерти сыну своему Ипполиту – был бы он счастлив, если бы не всегда следовал первому движению сердца, быстрого к гневу.
Далее Ахиллес опирается еще и теперь на копье от нанесенной Парисом в пяту ему раны, от которой и смерть его. Если бы в нем справедливость, мудрость и власть над собой были равны неустрашимости, то боги даровали бы ему долговременное царствование. Но они сжалились над фиотами и долопанами, наследственным достоянием его после Пелея, и не соблаговолили отдать целые племена на произвол человеку неистовому, всегда готовому закипеть гневом скорее бурного моря. Парки пресекли нить его дней преждевременно. Он был подобен цветку, едва только развившемуся, подрезанному острием плуга и мертвому еще перед закатом в первый раз для него взошедшего солнца. Боги воздвигли его, как быстрый поток или грозную бурю в казнь людям за злодеяния, послали его сокрушить стены Трои в месть за вероломство Лаомедоново и за преступную страсть Приамова сына. Но, употребив его орудием правосудия, они умилосердились и не вняли уже ни слезам, ни молению Фетиды о продолжении жизни юного героя, способного только умножать смуты, обращать города в пепел, опустошать царства.
Но видишь ли ты вдали от нас тень с лицом раздраженным? То Аякс, сын Теламонов, сродник Ахиллесов. Слава его в битвах, без сомнения, известна тебе. По смерти Ахиллеса он спорил, что доспехи его не могли принадлежать никому другому, как только ему. Отец твой не вменил себе в обязанность уступить ему этого оружия. Греки присудили его Улиссу. Аякс в отчаянии лишил себя жизни. Ярость и негодование на лице его живо еще написаны. Не подходи к нему, сын мой! Он подумает, что ты ругаешься над ним в несчастье, а он достоин сожаления. Не примечаешь ли ты, с какой досадой он смотрит на нас? Вдруг отворотился и пошел в мрачную рощу: мы ненавистны ему.
С другой стороны видишь Гектора – непобедимого, если бы сын Фетидин не был его современником. Но вот идет Агамемнон со свежими еще на себе знаками вероломства Клитемнестрина. Сын мой! Я содрогаюсь, когда вспомню несчастья дома преступного Тантала. Раздор братьев, Атрея и Тиеста, наполнил его кровью и ужасами. О, сколько преступлений влечет за собой одно злодеяние! Агамемнон, глава греков, возвратясь от Трои, не мог спокойно насладиться под родным кровом стяжанной славой. И таков жребий всех почти завоевателей! Все эти герои были страшны в бранях и знамениты, но не любовью к ним народов и не добродетелями. Потому дана им и в Елисейских Полях только вторая обитель.
Мирные цари, напротив того, царствовали правосудно, любили своих подданных, и за то они друзья богов. Между тем, как Ахиллес и Агамемнон, все еще дыша распрями и битвами, принесли и сюда свои скорби и с природными слабостями сетуют о потерянной жизни, и с горестью видят, что сами здесь не что иное, как бессильные, праздные тени – цари праведные, очищенные питающим их божественным светом, ничего уже не требуют к исполнению меры блаженства, с состраданием взирают на всю суету между смертными, и величайшие дела – смутный труд властолюбцев – кажутся им игрой младенцев. С сердцем довольным, насыщенным истиной и добродетелью прямо из источника, они не знают печали ни от других, ни от самих себя, нет уже для них ни желаний, ни нужды, ни страха, все для них кончилось, но не радость нескончаемая.
Посмотри, сын мой, на древнего царя Инаха, основателя царства Аргосского! Какая приятнейшая и величественная старость! Цветы родятся под ногами его, он не идет, а парит, как легкая птица, и с лирой из слоновой кости поет дивные дела богов в веч ном восторге. Из сердца и уст его исходит сладостнейшее благовоние, звук его лиры и голоса восхитил бы смертных и небожителей. Так он вознагражден за любовь к народу, которому дал законы, собрав его в общество.
С другой стороны видишь под тенью миртов Цекропса, египтянина, первого царя в Афинах, городе, посвященном богине мудрости и названном по ее имени. Из Египта, откуда науки и образованность перешли в Грецию, Цекропс принес полезные законы в Аттику, укротил свирепые нравы рассеянных весей[17], ввел между ними союз общества, был правосуден, человеколюбив, сострадателен, оставил народ в изобилии, а семейство свое в скудости, и не хотел передать детям власти, считая других того достойнейшими.
Я должен еще показать тебе Ерихтона – там же в малой долине. Ему принадлежит изобретение денег. Он полагал доставить более свободы в торговых сношениях между греческими островами, но предвидел и неудобства своего изобретения. «Старайтесь, – говорил он грекам, – умножать у себя истинные богатства природы, возделывайте землю, чтобы иметь в избытке хлеб, вино, плоды, масло, содержите стада, которых молоко будет вам служить в пищу, а руна для одеяния. Тогда не бойтесь бедности. Увеличится у вас население, но когда ваши потомки не отстанут от труда, то возрастет и богатство. Земля не истощается, по числу прилежных рук умножается еще ее плодородность; щедрая для трудолюбивого, она скупа и неблагодарна только для ленивых. Приобретайте прежде всего истинные богатства для удовлетворения истинных же надобностей. Деньги могут иметь цену только тогда, когда нужны или для неизбежной войны вне отечества, или для получения необходимых иноземных произведений. Но и в торговле надлежало бы вообще воспретить все предметы великолепия, роскоши, неги.