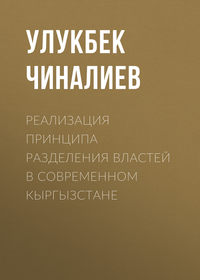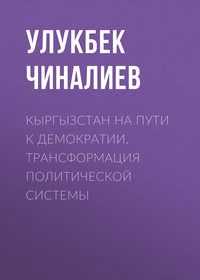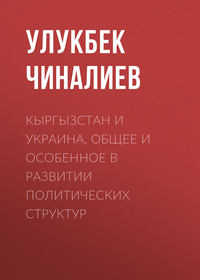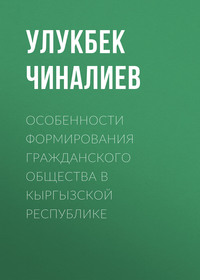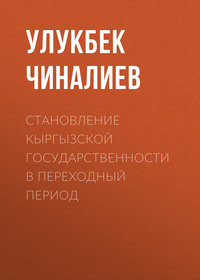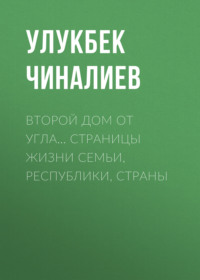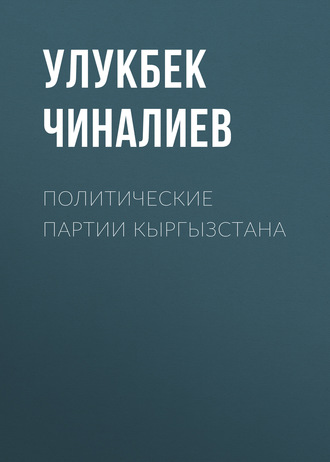 полная версия
полная версияПолитические партии Кыргызстана
После распада СССР новые независимые государства вступили в новый этап своей истории, характеризующийся усложнением социальной структуры общества и усилением дифференциации политических сил. Это находит свое выражение и в формировании партийных систем. Ныне на политической арене суверенных республик действует в общей сложности несколько сотен партий и тысячи других, в том числе и политических, организаций. Процесс становления партийных систем находится лишь в начальной стадии, ведущие политические партии далеко еще не сформировались и не утвердились.
Вообще следует иметь в виду, что формирование партийной системы – это длительный процесс, требующий десятилетий. Он сопряжен с социальной дифференциацией общества, с формированием у основных социальных групп и общества в целом демократических типов политического сознания и политической культуры. Несомненно, и это подтверждается мировым опытом, что для стабильности политической жизни, эффективного развития общества наиболее предпочтительными являются варианты политической системы, в которой доминировали бы две или три мощные политические партии.
Становление партийной системы Кыргызстана
Политические партии в Кыргызстане начали формироваться значительно позже, чем во многих других странах. Это объясняется рядом причин.
Кыргызское население в течение длительного времени оставалось разобщенным. После присоединения к России кыргызские земли вошли в состав Туркестанского генерал-губернаторства, насчитывавшего 5 областей, причем административное деление края полностью игнорировало исторически сложившееся расселение среднеазиатских народов. Территории, населенные кыргызами, вошли в состав Семиреченской, Сырдарьинской, Ферганской и Самаркандской областей, но этнический принцип более-менее соблюдался лишь при определении волостей и полностью игнорировался уже при определении границ уездов, что тормозило политическую консолидацию кыргызов. Как справедливо отмечал президент Кыргызской Республики А. Акаев в выступлении на I Всемирном курултае кыргызов 31 августа 1992 г., «царским ставленникам в Туркестанском крае, как и кыргызским феодалам, были чужды заботы о территориальной, культурной, этнической консолидации кыргызских племен» (20).
Социально-экономические отношения в кыргызском обществе в конце ХIX – начале XX в. были глубоко пронизаны патриархально-родовыми пережитками. Они проявлялись прежде всего в сохранении родо-племенных делений. Главным занятием кыргызов оставалось кочевое скотоводство. Земледелие развивалось слабо, что было обусловлено отсутствием достаточного количества плодородных земель, рутинным состоянием техники и низкой производительностью труда. Промышленность находилась в зачаточном состоянии. Например, в 1883 г. в Пржевальском уезде было 3 кожевенных завода с общим числом 15 рабочих, 9 маслобойных (30 рабочих) и 4 мыловаренных завода (4 рабочих); в Ошском уезде – 6 кожевенных (20 рабочих) и 4 овчинных; в Пишпекском уезде – 3 кожевенных и 17 маслобойных заводов (21).
Своеобразной была классовая структура кыргызского общества. Наверху иерархической лестницы находились манапы – привилегированная верхушка феодальной аристократии. Они имели право верховной феодальной собственности и власти. За манапами следовали бии, осуществлявшие суд на основе адата – обычного права. Дальше следовали баи – все крупные скотовладельцы. Манапы осуществляли свою власть при помощи джигитов (выполняли ряд административных и полицейских функций) и аткаминеров (осуществляли власть в аилах). Важную роль играло духовенство, хотя ислам среди киргизов не получил формы фундаментализма. Внизу иерархической лестницы находилась букара (чернь) – бедняки, наемные сельскохозяйственные рабочие, лишенные средств существования. Национальная буржуазия и рабочий класс еще не сформировались, малочисленной была национальная интеллигенция (переводчики, мелкие служащие, учащиеся старших классов).
В силу указанных причин политическое сознание кыргызского населения еще не сформировалось, о какой-то политической культуре не могло быть и речи.
Таким образом, в начале XX в. база для политических движений была в Кыргызстане весьма слабой. Все же здесь в связи с ухудшением социально-экономического положения, вызванного Первой мировой войной, и под влиянием нарастания революционного движения в России усиливается общественно-политическая активность, создаются первые политические группы, организации, а затем и партии.
К числу первых политических организаций, возникших в Кыргызстане, относятся социал-демократические группы. Они появились в апреле—мае 1917 г. в Сулюкте, Пишпеке, Оше, Кызыл-Кие. Характерной их особенностью, во-первых, было то, что их члены не всегда достаточно полно понимали теоретические и практические тонкости политической борьбы, ее конечные цели, поэтому в их состав входили сторонники и большевиков, и меньшевиков, и эсеров. В Пишпеке и Оше, например, в социал-демократических группах преобладали меньшевики. Во-вторых, указанные группы, как правило, были инонациональными, представителей кыргызской национальности там были буквально единицы. В-третьих, в состав социал-демократических групп входили преимущественно представители интеллигенции, рабочая прослойка в них была незначительной или вообще отсутствовала.
К тому же сказывалось сильное влияние религии и регионализма. Именно в силу этих причин в Оше возник Совет мусульманских депутатов, а в Пишпеке – Кыргызский общественный комитет. Эти объединения были не политическими организациями в полном понимании этого слова, а скорее напоминали органы местного самоуправления.
К числу политических организаций и движений (национально-демократического или религиозно-националистического направления), возникших после событий в Российской империи в феврале и октябре 1917 г., относились «Букара», «Алаш», «Шуро-и-Исламия», «Туран». Партия «Алаш», объединявшая националистически настроенную казахско-кыргызскую интеллигенцию, считала своей главной задачей борьбу с советской властью и большевиками. Партия «Шуро-и-Исламия» состояла из представителей духовенства и тесно связанной с ним феодальной кыргызско-узбекской верхушкой юга Кыргызстана. Она тоже стояла на антисоветских позициях. Партия «Туран», состоявшая из учащихся старших классов, учителей, переводчиков и представителей торговой буржуазии, выступала за отделение края от России и создание единого тюркского государства во главе с Турцией. Кыргызский революционно-демократический союз «Букара» выражал интересы бедноты. Он распространял свое влияние на Северный Кыргызстан и к осени 1917 г. насчитывал более 7 тыс. членов (22).
Все кыргызские партии, за исключением «Букары», были малочисленными, аморфными образованиями. Больше всего их роль проявилась в организации так называемого басмаческого движения. Партия «Шуро-и-Исламия» созвала 26 ноября 1917 г. в Коканде IV Чрезвычайный мусульманский съезд, провозгласивший автономию края и избравший свое правительство. А поскольку в Ташкенте был образован Совет народных комиссаров, т. е. орган советской власти, то тем самым в Туркестане было положено начало двоевластию, которое и привело к Гражданской войне. Другие партии национального и религиозно-националистического направлений также включились в активную борьбу против советской власти и большевиков, приняли участие в басмаческом движении. После победы большевиков в Гражданской войне и установления в Туркестане советской власти все они были разгромлены и прекратили существование.
Большевистские ячейки в Кыргызстане стали организационно оформляться после установления советской власти, причем на начальном этапе в них вступили многие перекрасившиеся эсеры, меньшевики, члены партии «Алаш» и др., руководствуясь при этом не идейными, а карьеристскими мотивами. Позже они были «вычищены» из ВКП(б).
Говоря о политическом движении в Кыргызстане, нельзя обойти молчанием выступления, связанные с противодействием утверждению в СССР тоталитаризма, игнорированием центральной властью местных и национальных особенностей. Некоторые видные партийные и государственные деятели Кыргызстана искали альтернативные пути к социализму в противовес диктату партии. В 1925 г. они направили в адрес ЦК ВКП(б), Средазбюро ЦК РКП(б) и другие партийные органы письмо «тридцати». В нем констатировалось обострение групповой и родовой борьбы за место в партаппарате, при этом работники коренной национальности зачастую отстранялись от дел; отмечалось, что укоренилась жесточайшая централизация, вся полнота власти сосредоточилась в руках обкома партии, что подрывало авторитет и парализовывало советскую власть; вскрывались ошибки в хозяйственной, национальной политике и др. Реакция на письмо была вполне в духе тоталитаризма: часть членов «тридцатки» была исключена из партии и отправлена на рядовую работу, других изгнали из республики.
Однако, по некоторым данным, расправа над «тридцаткой» не уничтожила ее идей, они стали приобретать откровенно оппозиционную направленность, некоторые оппозиционеры пытались соединить идеи социализма и пантюркизма. Они якобы решили создать нелегальную Социалистическую Туранскую партию. Весной 1933 г. руководящее ядро СТП было арестовано, его члены подверглись репрессиям. Надо отметить, что среди историков нет единого мнения, существовала ли СТП организационно или она явилась плодом вымысла следователей НКВД, что тоже было вполне возможным. Несомненным является только одно – жестокая расправа над группой местных лидеров (23).
Таким образом, в Кыргызстане, как и в целом в СССР, в результате Октябрьской революции и победы в Гражданской войне установилась власть одной партии – коммунистической.
Современная кыргызская политическая и историческая литература в целом положительно оценивает результаты правления коммунистов. Главной заслугой коммунистов и советской власти было то, что кыргызский народ сохранился как этнос и восстановил свою национальную государственность – сначала в форме автономной области (1925 г.) и автономной республики (1926 г.) в составе РСФСР, а затем в форме союзной республики (1936 г.) в составе СССР.
За годы советской власти в жизни кыргызского народа произошли также кардинальные социально-экономические преобразования. Кыргызы от кочевого и полукочевого уклада перешли к оседлости. В республике была создана современная промышленность, охватывавшая 130 отраслей. В сельском хозяйстве наряду с животноводством развивалось земледелие, площадь поливных земель достигла 1 млн га. Кыргызстан стал республикой сплошной грамотности, здесь работали 12 высших и 48 средних специальных учебных заведений, 1210 клубов, 1729 массовых библиотек, 33 музея, 10 профессиональных театров (24). К концу 1980-х гг. в республике было 50 научных учреждений. Бурное развитие получило искусство, выросло благосостояние народа. Все это дало президенту Кыргызской Республики А. Акаеву основания заявить: «Национальная государственность кыргызского народа в годы советской власти, даже при том, что она в значительной мере действительно была категорией декларированной, имела громадные положительные последствия. Я уж не говорю о том, что кыргызы были спасены от геноцида, что осуществлялось культурное строительство, которое при всех своих издержках не может не вызвать восхищение. В кыргызском обществе сложилось (в достаточной мере цивилизованное) политическое государственное в даже правовое сознание» (25).
Отдавая должное успехам, достигнутым благодаря советской власти, нельзя, однако, обойти молчанием своеобразие и изъяны советского общественно-политического строя, советской политической системы. Ее ядро, по определению Конституции СССР и конституций союзных республик, составляла КПСС, которой фактически принадлежала вся власть в СССР. КПСС была своеобразным политическим образованием, своеобразно реализовывались ею и функции политической партии.
Так, функция представительства толковалась ею как выражение интересов всего советского народа. Однако здесь следует иметь в виду два момента. Во-первых, вопреки заверениям коммунистических идеологов, советский народ в социальном плане был далеко не однородным, интересы разных социальных слоев не всегда совпадали. И во-вторых, КПСС мало прислушивалась к мнению якобы представляемой ею социальной базы. В отличие от обычных политических партий, она не занималась изучением, отбором, рационализацией и упорядочиванием интересов разных групп, объединением их в единую систему, а сама их формулировала, а затем выдавала за интересы народа. Справедливости ради надо отметить, что в целом КПСС верно выражала общественные потребности по развитию экономики, науки, культуры, здравоохранения, образования, по повышению благосостояния народа. Однако далеко не всегда можно было согласиться с методами решения поставленных задач.
Своеобразно реализовывала КПСС функцию интеграции. Действительно, она добилась поразительных успехов по консолидации советского общества, что особенно ярко проявлялось в кризисные периоды (например, в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.). Однако в реализации функции интеграции КПСС опиралась не только и не столько на определенную систему идейных ценностей. В ее распоряжении была мощная система государственных карательных органов. Применив жесточайшие репрессии против своих явных, а подчас и надуманных оппонентов, КПСС устранила с политической арены всякое идеологическое инакомыслие. Однако уничтожить его до конца она так и не смогла. Идеологическое инакомыслие ушло в подполье, нашло выражение в диссидентском движении, породило массовую эмиграцию, в том числе внутреннюю.
Что касается идеологической функции, то в ее реализации КПСС достигла значительных успехов. С одной стороны, она объявила себя носителем «единственно верной» идеологии – марксизма-ленинизма, который она «творчески развивала и обогащала» применительно к новым социально-экономическим и политическим условиям, т. е. попросту установила монополию на идеологию. А с другой – через разветвленную систему специальных учреждений и организаций (вечерние университеты марксизма-ленинизма, теоретические семинары, работавшие при каждой первичной организации, школы политграмоты, средства массовой информации, находившиеся под постоянным и неусыпным партийным контролем, и др.) она небезуспешно насаждала свою идеологию.
Своеобразно реализовывала КПСС свои функции и по отношению к политической системе. Так, коммуникативная функция толковалась и реализовывалась ею только в одном направлении – сверху и вниз – и состояла в разъяснении трудящимся планов и решений партии, Советского государства. Ни о каком выражении через КПСС групповых требований к государству не могло быть и речи. КПСС не могла выступать в роли канала передачи этих требований, так как срослась с государством и представляла с ним единое целое.
Зато с завидной настойчивостью и довольно успешно КПСС реализовывала функции разработки и осуществления политического курса формирования и подбора политических элит. Что же касается функции борьбы за политическое руководство или упрочение и удержание своего руководящего положения – одной из важнейших в деятельности политических партий, то для КПСС она не была актуальной. После победы в Гражданской войне, роспуска так называемых «буржуазных партий» и разгрома всякого рода «уклонов» у нее не осталось политических конкурентов. Партия и руководимые ею карательные органы бдительно следили, чтобы такие конкуренты и не появились. В условиях отсутствия политических оппонентов, тотального контроля и политического сыска, особенностей избирательной системы, когда выборы фактически сводились к формальному голосованию за кандидатов «блока коммунистов и беспартийных», подобранных соответствующими партийными комитетами, КПСС могла не беспокоиться о своем руководящем положении. Когда же в годы перестройки партийный контроль был несколько ослаблен, а выборы проводились на альтернативной основе, руководящая роль КПСС оказалась подорванной, сама партия под натиском демократических сил стала шататься, а после поражения августовского путча 1991 г. вообще была запрещена.
Своеобразно реализовывала КПСС и функции, касающиеся внутрипартийной жизни. Это была массовая партия авангардного типа с фиксированным членством, жесткой структурой, высоким уровнем централизации и железной дисциплиной, опиравшейся на принципы демократического централизма (принятие решений большинством и их обязательность для всех членов организации, безусловное подчинение меньшинства большинству, обязательность решений вышестоящих органов для всех организаций и членов партии, периодическая отчетность партийных органов перед членами партии). КПСС никогда не отличалась внутрипартийной демократией, а с утверждением тоталитаризма были утрачены и слабые ее ростки. Все важные и не очень важные решения принимались партийным аппаратом и лишь формально одобрялись ее членами.
Все сказанное говорит о том, что называть КПСС партией в прямом значении этого слова можно лишь с большой долей условности, недаром И. Сталин сравнивал ее с орденом меченосцев. Не укладывается она и в общепринятую схему типологизации партии. Так, по идеологическому критерию ее, конечно, можно характеризовать как коммунистическую, революционную. А вот с критерием прогрессивности дело обстоит сложнее. По формальным признакам ее можно считать левой партией. Но вот в сложные и неоднозначные перестроечные времена, когда на повестку дня встали вопросы кардинальных политических и социально-экономических преобразований, КПСС в лице партноменклатуры и своего аппарата выступила как правая, консервативная партия. Хотя в ней в те времена сформировалось и сильное демократическое крыло, на базе которого впоследствии в бывших советских республиках сформировались многочисленные партии демократической ориентации.
Своеобразной была и партийная система СССР, ведь, как уже отмечалось, понятие «партийная система» охватывает совокупность существующих в стране партий и принципы взаимоотношений между ними. КПСС была единственной, к тому же правящей. Поэтому партийную систему СССР и, следовательно, советского Кыргызстана можно характеризовать как однопартийную, тоталитарную, неконкурентную и неальтернативную.
Конституция СССР и соответственно конституции союзных республик формально не содержали запретов на создание других политических партий, но не содержали и норм, разрешающих их создание, они ограничивались лишь нормами о создании общественных организаций. Так, Конституция Киргизской ССР вслед за Конституцией СССР 1977 г. декларировала: «В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Киргизской ССР имеют право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов» (26). Действительно, в советском Кыргызстане наряду с компартией действовали многочисленные общественные организации: творческие союзы, спортивные общества, общества охраны памятников культуры, книголюбов, трезвости, охотников и рыболовов и др. Однако все они не были политическими организациями, не могли составить конкуренцию компартии, создавались с ее ведома и согласия и работали под ее руководством и контролем. А общество «Знание», формально считаясь добровольной общественной организацией, фактически вообще было структурным подразделением отдела агитации и пропаганды ЦК Компартии Киргизии, а его отделения на местах – подразделениями соответствующих партийных комитетов. Естественно, все эти и другие общественные организации не входили в партийную систему и никакого влияния на нее не оказывали.
Такая жесткая тоталитарная однопартийная система существовала в СССР и в Кыргызстане в течение многих десятилетий вплоть до перестройки.
Перестройка началась как безобидная и привычная реформа сверху и, по словам М.С. Горбачева, имела целью реконструкцию социалистического общества, построение социализма «с человеческим лицом». Сами по себе перестроечные лозунги вполне вписывались в рамки марксистско-ленинской идеологии и существовавшей государственности. Но к середине 1980-х гг. советское общество устало от многочисленных демагогических обещаний, созрело для радикальных перемен и не могло удовлетвориться косметическими мероприятиями, приукрашенными политической трескотней. Поэтому политические события приобрели лавинообразный, плохо управляемый из центра процесс. Под их нажимом М.С. Горбачев вынужден был обратить внимание на КПСС как ядро советской политической системы, «руководящую и направляющую» силу, от которой в конечном итоге зависела судьба намеченных преобразований, и предложил реформировать ее. Предложения М.С. Горбачева сводились к тому, чтобы «возродить» в партии атмосферу принципиальности, открытости, дискуссий, критики и самокритики, сознательной дисциплины, партийного товарищества и безусловной личной ответственности. Он предлагал отказаться от командного стиля, выборы партийных органов проводить в демократической обстановке, обеспечивающей состязательность кандидатов, и, что особенно важно, разграничить функции партийных и государственных органов, что неизбежно вело к ограничению власти партии (27).
В это время резко возросло влияние прессы, других средств массовой информации. Освобожденные в ходе перестройки от цензуры, они вскрывали истинные причины социального, политического, экономического кризиса, охватившего страну, разоблачали злоупотребления номенклатуры.
Начатые реформы вызвали во всей стране, в том числе и в Кыргызстане, повышение политической активности масс. Все чаще звучали требования полного обеспечения гласности, замены скомпрометировавших себя руководителей и привлечения их к ответственности, полной реабилитации жертв тоталитарного режима, повышения функционального значения национальных языков, возрождения народных традиций, обычаев, национальных духовных ценностей. А поскольку виновницей всех провалов в социально-экономической, политической, духовной сфере, обострения кризиса, всех нарушений и злоупотреблений в массовом сознании воспринималась КПСС, к тому же сама она обнаружила неспособность к внутреннему реформированию и оказала сопротивление демократическим преобразованиям, то среди масс все больше зрели антикоммунистические, антипартийные настроения. Начался выход из партии ее членов. КПСС теряла власть.
В этой обстановке демократическим силам довольно легко удалось добиться отмены ст. 6 Конституции, устанавливавшей руководящую рать КПСС. Вслед за соответствующим решением Съезда народных депутатов закон, лишавший коммунистическую партию роли руководящей и направляющей силы, ядра политической системы, 12 апреля 1990 г. принял Верховный Совет Киргизской ССР (28). Закон, в частности, установил, что Компартия Киргизии наряду с другими общественно-политическими и иными общественными организациями и массовыми движениями через своих представителей, избранных в Советы, участвует в выработке государственной политики, в управлении государственными и общественными делами. Кроме того. закон фактически разрешил многопартийность, установив норму, в соответствии с которой граждане Киргизской ССР имели право объединяться в коммунистическую партию, другие общественно-политические и иные общественные организации, участвовать в массовых движениях.
На волне повышения политической активности масс, подъема общественного движения и в противовес КПСС во второй половине 1980-х гг. в ряде мест России, в других союзных республиках европейской части СССР, в Закавказье появились и сформировались сильные, охватившие широкие слои населения различные политические организации, народные фронты, движения, которые ставили перед собой достаточно широкие цели и задачи: от национального возрождения и демократизации общества до экономического и политического суверенитета. Эти движения и объединения становились оппозицией существующим официальным властным структурам, но в условиях политического плюрализма и демократизации общественной жизни власть вынуждена была мириться с их существованием. Оппозиция еще больше укрепила свои позиции в результате победы многих ее представителей на выборах народных депутатов СССР (1989 г.) и союзных республик (1990 г.).
Все эти общественно-политические процессы, происходившие в стране, а также революции в странах Восточной Европы, разрушившие существовавший там коммунистический строй и положившие конец мировому социалистическому лагерю, сыграли огромную роль в пробуждении национального сознания и формировании национально-демократических движений в Кыргызстане. Здесь уже в 1989–1990 гг. на политическую арену стали один за другим выходить такие политические формирования, как «Ассоциация избирателей Кыргызстана», общество «Мемориал», ядром которого стали активисты действовавшего еще с 1987 г. политклуба «Демос», и др. (29).
Важным фактором усиления и организационного оформления национально-демократического движения в Кыргызстане стало обострение жилищной и земельной проблемы, в первую очередь в городах Бишкек и Ош. Хроническая нерешаемость жилищной проблемы подтолкнула кыргызскую молодежь летом 1989 г. к самовольному захвату земельных участков в г. Бишкеке и строительству домов. Резкое противостояние между властью и молодежью из-за земельных участков под строительство домов разрешилось в пользу последней. Эта победа смягчила взрывоопасную обстановку, но в то же время вдохновила молодежь на дальнейшую политическую активность. Для совместного решения проблем, связанных со строительством домов на новых выделенных участках, была создана организация «Ашар».