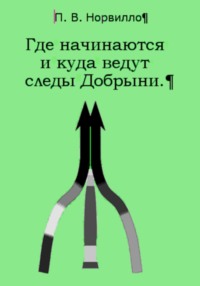полная версия
полная версияЗнание! Кто «за»? Кто «против»? Воздержался?
Тем не менее в ситуациях глобальной конкуренции малейшие нарушения утверждённых планов, не говоря уже о явном проигрыше соперникам, могут сопровождаться предельно жёсткими оргвыводами, вплоть до полной замены занятых на проблеме команд. А вот на сравнительно менее важных направлениях, не привлекающих к себе повышенного внимания “высокого начальства”, даже откровенное многолетнее переливание из пустого в порожнее может оставаться без всяких последствий, когда только естественная смена поколений вносит оживление в затормозившийся исследовательский процесс.
2. Повышение удельного веса потомственных научных работников.
Второй момент, на который следует обратить внимание, касается уровня преемственности при наборе на научную службу. Потому что, как уже неоднократно говорилось, при современном состоянии познания человек с одними лишь творческими задатками, но без подобающего теоретического и инструментального оснащения имеет очень мало шансов внести что-то новое в известную науке картину мира. А чтобы получить должную подготовку и претендовать на место на переднем крае научного поиска, требуется, во-первых, захотеть, а во-вторых, суметь попасть в тот или иной ВУЗ, ориентирующий своих выпускников прежде всего на исследовательскую работу (такие ВУЗы ещё называют “академическими” в отличие от заведений, чётко приуроченных к некоторой отрасли хозяйства или практической специальности – строительных, транспортных, финансовых, юридических и т. д.).
При этом понятно, что среди абитуриентов любого ВУЗа будет какой-то процент людей сравнительно случайных и не имеющих чёткого представления о том, чему может послужить данное образование. Но поскольку именно академические ВУЗы обычно ставят для своих соискателей наиболее высокие планки, то основная масса тех, кто и сам толком не знает, чему и зачем они хотели бы научиться, отправляется искать удачи по менее требовательным адресам. А большинство поступающих в действительно серьёзные заведения составляют всё-таки те, кто вполне сознательно стремится к профессиональной работе в соответствующей области. Вот только если интерес к той же химии или истории ещё можно объяснить школьным знакомством с этими науками, то, скажем, геологии или радиоастрономии в школе едва касаются, а о психосемантике нельзя услышать даже краем уха. В связи с чем и встаёт вопрос: каким образом человек, практически не получая в школе сведений о названных и многих других научных дисциплинах, может настолько проникнуться одной из них, чтобы захотеть сделать её своей будущей специальностью?
Очевидно, что источником такого интереса могут стать, во-первых, книги, фильмы и другие общедоступные источники, во-вторых, живой пример близких людей и прежде всего родственников. А поскольку по отношению к источникам первого рода потенциальные абитуриенты находятся в примерно равном положении, то получается, что у человека, среди родственников которого есть научные работники, имеется больше возможностей познакомиться с “неизвестной школе” наукой, нежели у тех, кто таких родственников не имеет. А если к тому же учёный родич по-настоящему любит свою работу и может живо и увлекательно о ней рассказать, то в такой семье шансы подрастающего поколения захотеть поддержать семейную традицию и нацелиться на обучение в соответствующем ВУЗе дополнительно возрастают.
Что же касается собственно поступления, то, даже не прибегая к “связям”, “знакомствам” и прочим посторонним ухищрениям, а действуя самым законным и естественным образом и просто по-родительски помогая своим детям лучше разобраться в школьной программе по своей специальности, научные работники в состоянии существенно повысить их способность успешно справляться с экзаменами и вполне самостоятельно заслужить требуемый проходной балл. Вот так вот без всякого участия чьей бы то ни было злой воли, под влиянием одних лишь естественных чувств и объективных обстоятельств, вероятность того, что в академические ВУЗы будут стремиться и в конечном итоге попадут прежде всего дети и иные близкие родичи научных работников, оказывается заметно выше среднестатистической.
А вот дальше, как говорится, возможны варианты, и наряду с династиями, сделавшими много полезного для науки вообще и работавших рядом с ними конкретных людей, не столь уж редко можно видеть персонажей, у которых “прирождённое” обособление среди массы сверстников порождает представления о собственном особом статусе или даже избранности. После чего они начинают смотреть свысока на всех остальных коллег по исследовательскому цеху и игнорировать альтернативные точки зрения независимо от степени их обоснованности. Из какового положения остаётся уже буквально один-два шага до сколачивания чисто вкусовых группировок и кланов, для которых главным в дискуссиях с коллегами становится не выявление (с последующим устранением) слабых мест в трактовках оппонентами реальных проблем, а сведение личных и в основном крайне мелочных счётов.
К этому остаётся добавить, что завышенные представления о собственной значимости и нетерпимое отношение к критике своих взглядов, конечно же, встречаются не только среди потомственных научных работников. Однако новички в науке если и приходят к такому состоянию, то обычно всё-таки не раньше, чем смогут представить коллегам какие-то достаточно значительные результаты. Тогда как представителям научных, а равно и любых иных профессиональных династий в силу самого факта воспитания в соответствующей семье бывает нелегко отделить чувство гордости за предшественников от ощущения определённой личной причастности к их заслугам. И поскольку детям и иным младшим родичам научных работников не удаётся справиться с этой задачей и чётко осознать разницу между своими самостоятельными и общесемейными достижениями, постольку именно представители второго и последующих поколений профессиональных исследователей оказываются в большей степени подвержены синдрому псевдоизбранности и учёного зазнайства.
Возможно, кому-то вышеописанные проявления покажутся не столь существенными либо зависящими в основном от человеческой натуры как таковой и лишь в малой степени – от конкретной формы организации исследовательского процесса. Но в данном контексте нет необходимости долго задерживаться на детальном выяснении степени их вредности и не-случайности. Потому что при всех издержках, привносимых пожизненным рекрутированием во внутреннюю жизнь сообщества научных работников, по сравнению с воздействием данной системы комплектования на состояние общества в целом эти издержки действительно начинают выглядеть почти пустяками.
3. Противопоставление контингента научных работников остальной массе населения.
Говоря о современном образовании (см. ч. II, раздел 2.2д), мы уже отмечали, что такая система, дополненная абсолютно естественным стремлением всех научно-образовательных организаций вести возможно более адресный набор своих будущих работников, приводит к тому, что в школьные программы не только включается довольно широкий спектр дисциплин, но и предпринимаются попытки отслеживать их развитие и “своевременно” информировать учащихся о новых открытиях и концепциях. Так что знакомство школьников с массой высокоабстрактных и практически бесполезных сведений – это есть не плод чьих-то ошибок, недосмотра или злого умысла, а всего лишь эмпирически найденный и применяемый элемент механизма сортировки претендентов на продолжение обучения.
В подобных условиях трудно удивляться тому, что люди, которые после школы не поступают в академические ВУЗы, быстро и без всякого сожаления забывают от 80 до 95% сведений по всем базовым предметам. Напротив, именно такое развитие событий предстаёт не то что логичным, а поистине единственно возможным. Те же, кто после школы становятся исследователями, в науке новейшего времени просто физически не могут двигаться по всем тем направлениям познания, что были затронуты в школьной программе, и обычно ограничиваются одним-двумя гораздо более узкими секторами. В связи с чем поступившие в ВУЗы забывают от 80 до 95% сведений по непрофильным предметам, а по профильным дисциплинам студентов всё равно начинают учить (или переучивать), начиная едва ли не с самых азов. Так что, рассматривая современную школу с точки зрения баланса номинально сообщаемых и фактически закрепляющихся знаний, её КПД при самом оптимистичном подходе придётся признать составляющим не более 20-30%, а 70-80% трудозатрат учащихся и обучающих предстанут по сути бесполезными.
Вот только даже вполне “бесполезные” усилия не всегда оказываются безрезультатными. Ведь уже тогда, когда доля абстрактно-академических сведений, которые не пригодятся никогда и никому за исключением не столь уж большого числа тех, кто будет заниматься самостоятельными исследованиями в той или иной отрасли знания, переваливает за половину школьной программы, “прошедшие” такую программу поневоле начинают задумываться о практической ценности образования, которое по большей части никак не помогает им в работе и жизни. А продолжающееся насыщение школьной программы никак не заземлённой теорией лишь дополнительно заостряет этот вопрос. Потому что очередным поколениям выпускников, оценивая свой жизненный опыт, приходится признавать, что хоть какую-то практическую отдачу способна приносить уже не просто меньшая, а всё более и более ничтожная доля тех массивов информации, кои им приходилось осваивать в течение многих лет. И даже если у позавчерашних школяров сохраняются добрые воспоминания о конкретном учебном заведении и конкретных преподавателях, их отношение к сегодняшней школе как общественному явлению неотвратимо сдвигается в сторону более или менее снисходительного презрения.
Тем не менее даже полностью разочаровавшиеся в личном школьном опыте люди, сами став родителями, как правило, стараются скрыть такое своё отношение к среднему образованию и внушить новому поколению, что школа – это важно и нужно. Однако шило трудно утаить в мешке. Так что через 10-15 лет в школе появляются дети, уже почти перенявшие от своих родителей снисходительно-пренебрежительное отношение к данному учреждению, и… едва ли не каждый собственный шаг демонстрирует этим детям, что отдельные педагоги могут скрасить и оживить “учебно-воспитательный процесс”, но доходчиво объяснить, кому и зачем “всё это” нужно, затрудняются даже лучшие из них. В результате с каждым новым выпуском школа всё больше теряет авторитет не только в старшем, но и в младшем поколении. А чем ниже падает авторитет школы в глазах её учеников, тем хуже становится подготовка выпускников даже в тех узких рамках, за которые берётся школа; а чем хуже становится подготовка выпускников, тем ниже падает авторитет школы, и круг замыкается. Получение среднего образования, ещё в начале ХХ века бывшее вполне продуктивным занятием, к концу столетия обретает большое (чтобы не сказать, удручающее) сходство с обрядом инициации у патриархальных народов – малоприятно и в основном бессмысленно, но по традиции необходимо для признания ребёнка самодеятельным членом общины.
А главное, сами бывшие дети, даже если у них не возникает подобных ассоциаций, своими практическими шагами вполне укладываются в эту аналогию. Ибо, убедившись, что уже через год-другой после завершения школьной программы они мало что могут вспомнить из неё, и происходит это ровно потому, что сообщавшиеся в школе “знания” не помогли им ни в одной реальной задаче, очень многие решают: “Хватит!” В том смысле, что обязательная доля “учебных мучений”, коей по малолетству нельзя было избежать, ими уже получена, и впредь они, как настоящие взрослые, если и позволят себя чему-либо обучать, то только тому, в чём будут видеть насущную жизненную необходимость. А на всякие туманные абстракции и заумные теории пускай тратят время те, кому больше нечем заняться. Отсюда и деятелей науки наши герои, почувствовав себя “полноценными людьми”, оставившими детство за спиной, начинают воспринимать по сути как шаманов от прогресса, этаких носителей сокровенного знания, которых можно уважать или даже в чём-то побаиваться, но понять, что и как они делают, “простому человеку” лучше и не пытаться.
Наконец, те, кто, не имея специального образования и опираясь лишь на свои практические умения и навыки, смог продвинуться по социальной иерархии и занять прочные позиции в каком-либо ремесле или коммерции, в своих отзывах о теоретиках, не умеющих коротко и ясно ответить ни на один конкретный вопрос, и вовсе не могут сдержать сочувственной усмешки. Да и как иначе, позвольте спросить, людям, “прочно стоящим на земле”, относиться к тем, кто “витает в облаках” и надеется найти непонятно где и неизвестно что?
А чтобы “достойно” завершить картину сакрально-бестолкового отношения к науке, появляются также своеобразные вольнодумцы и “борцы с суевериями”, считающие, что научные работники по преимуществу есть лишь ловкие шарлатаны, пользующиеся тем, что их трудно проконтролировать, для выманивания у недальновидных правительств всевозможных ресурсов, льгот, почестей и т. д. И нельзя не признать, что определённый вклад в формирование такого отношения к себе вносит сама “интеллектуальная элита”.
Потому что уже на самых ранних этапах выделения умственного труда в особую сферу деятельности среди занятых в ней, наряду с истинными подвижниками познания, не жалевшими ради совершения новых открытий своих сил, а порой и жизни, начинают встречаться и персонажи совсем иного рода. В частности, такие, кто считает свою профессиональную роль выражением более общего социального или даже цивилизационного превосходства и способен без всякого смущения рассуждать о тех, кто в своём умственном развитии не превзошёл среднего уровня, как о “прирождённых тупицах”, “дикарях”, “быдле” и т. п. Но всё же поначалу это не составляло никакой особой проблемы.
Ведь ещё во времена Г. В. Лейбница и Я. В. Брюса городские и особенно сельские низы в немалой своей части и сами были готовы согласиться с тем, что, по сравнению с благородными дворянами, они есть существа низшего сорта. А те, кто в ответ на проявления пустого самомнения и спеси со стороны зазнавшихся интеллектуалов мог позволить себе оскорбиться, как раз поэтому редко сталкивались с подобными проявлениями. И в любом случае пока представительство учёных да и просто образованных людей в общей массе населения ограничивалось сотыми долями процента, даже самые раздражающие реплики и поступки кого-либо из штатных “умников” воспринимались не более как признаки скверного характера данных конкретных личностей.
Однако, по мере того как высшее образование становится всё более массовым, а среднее – близким к всеобщему, положение меняется и весьма существенно. Ибо представительство учёных гордецов, даже оставаясь в относительном измерении, наверное, примерно таким же, как и в былые времена, в абсолютных цифрах возрастает вслед за общей численностью научных работников, т. е. многократно. В той же пропорции увеличивается и число тех, кому на личном опыте доводилось убеждаться, что “высокообразованность” вовсе не является синонимом “человечности” или хотя бы элементарной вежливости. А поскольку пропаганда идей всеобщего равенства даёт кое-какие плоды, то, сталкиваясь с чьим бы то ни было высокомерным пренебрежением в свой адрес, современные люди гораздо чаще испытывают раздражение и протест, нежели понимание и смирение.
Плюс к тому в вопросах, касающихся больших социальных групп, даже люди с определённым теоретическим багажом порой срываются на неоправданные обобщения и чрезмерно генерализованные заключения вида: “все … [женщины, мужчины, русские, американцы, кавказцы, торговцы, чиновники, водители или, как в нашем случае, учёные] суть …” И сколько бы мы ни рассуждали о том, что у авторов подобных максим (исключая, разумеется, сознательных провокаторов) чувства идут впереди разума, это никак не повлияет на тот факт, что очень значительная часть наших современников в своих отношениях к другим людям гораздо чаще руководствуется чисто эмоциональными всплесками, нежели тщательным и беспристрастным анализом чужих достоинств и недостатков. Поэтому если люди с образованием не выше школьного, сталкиваясь лично и в рассказах знакомых с примерами презрительного отношения к подобным себе и именно по признаку своей “неучёности”, постепенно проникаются ответным предубеждением против вообще всех “образованных”, которые “просто одолели”, то остаётся лишь признать, что в таком финале есть своя логика. Ведущая к тому, что феномен, на первых порах полностью укладывавшийся в рамки межличностного общения, со временем перерастает эти рамки и превращается в явление общественной жизни.
А если на такую уже обозначившуюся настороженность и предубеждённость одной части общества против другой накладываются целенаправленные попытки перевести данное противостояние из области настроений в область практических действий, то эти попытки, а особенно если они исходят от государственных структур, обычно оказываются весьма результативными. В качестве иллюстрации здесь можно вспомнить Россию начала ХХ века, где сытые и благополучные лавочники из “чёрной сотни”, убедившись в благожелательном попустительстве полиции, с патриотическим энтузиазмом избивали пытавшихся протестовать студентов. Или США времён маккартизма, когда любое проявление независимой мысли могло стать поводом для доноса, общей обструкции и судебных нападок с приговорами вплоть до смертных. Или “культурную революцию” в Китае, когда в самодостаточное основание для морального и физического террора превращались уже не какие-то конкретные проявления “неблагонадёжности”, а одна лишь принадлежность к “интеллигентским” профессиям.
Безусловно, эти же примеры показывают, что в столь жёстких формах “антиинтеллектуальная” политика не может проводиться долго, поскольку в современных условиях она прямо подрывает внутренние и международные позиции проводящего её режима. Однако людей, чья жизнь грозит превратиться в “полный кошмар”, даже самые авторитетные заверения в том, что этот кошмар не продлится дольше нескольких лет, обычно мало успокаивают. Тем более что востребованные специалисты даже в не самых богатых странах обычно живут достаточно обеспеченно не только по внутринациональным, но и по мировым стандартам, и большинству из них в плане спокойствия и стабильности своего настоящего и будущего есть что терять.
С другой стороны, как раз “яйцеголовые” выделяются тем, что могут по достоинству оценить не только прямые и грубые, но и более деликатные намёки на то, что в обществе, где “слишком умных” отнюдь не все ценят и уважают, их благополучие, безопасность и сама жизнь напрямую зависят от сохранения “спокойствия и порядка”. И что, стало быть, находясь среди “дикой толпы”, людям “серьёзным и образованным” гораздо больше подобает демонстрация лояльности к режиму, который удерживает “в рамках” эту самую толпу, нежели любого рода поползновения в сторону изменения существующего порядка.
Таким образом, задаваемое самой системой образования противопоставление научных работников просто работникам и добавляемые по вкусу приёмы из “старой доброй” методы по разделению и властвованию позволяют современным государствам дополнительной, а главное, почти добровольной уздой привязывать к своей колеснице личный состав учёных полков и дивизий. А то, что за последние десятилетия мир стал уже немного подзабывать об опытах массовой охоты на “образованных ведьм”, лишний раз показывает, что нынешние правители достаточно овладели техниками относительно мягкого и почти ненасильственного подчинения себе сравнительно более просвещённой части общества.
Ещё раз подчеркнём, что первые энтузиасты массового среднего образования вряд ли нацеливались именно на такой результат, а скорее всего, даже не подозревали, что их детище можно будет использовать подобным образом. Но вот об их преемниках такого уже не скажешь. Ведь тот факт, что не прошедшие на следующую ступень обучения выпускники средней школы с феерической быстротой возвращаются в состояние практически полного невежества, но зато обретают искреннюю убеждённость в том, что они знают, что такое науки, и что для “людей дела” никакого прока в науках нет, стал очевиден по меньшей мере несколько десятков лет назад. Так что у попечителей “народного просвещения”, как бы ни звали их в разных странах, было достаточно времени, чтобы всё заметить и если не исправить, то хотя бы открыто указать, что они видят здесь проблему, для которой надо искать решение. Тем не менее и в наше время вместо оживлённых дискуссий о путях и способах формирования принципиально иной системы образования можно услышать разве что вялые рассуждения о “дальнейшем совершенствовании” существующей.
Из чего волей-неволей остаётся заключить, что наблюдаемое положение вещей у нынешних “хозяев жизни”, как минимум, не вызывает особых возражений. А это, в свою очередь, многое проясняет в вопросе, вынесенном в заголовок настоящих заметок, то есть можно ли, а если да, то при каких обстоятельствах ожидать возврата к посильному участию всех членов человеческой общины, каких бы размеров она ни была, в деле познания окружающей действительности?
IV
.
Перспективы пожизненного рекрутирования учёных.
Итак, в качестве промежуточного вывода мы можем констатировать, что капитализм, отбросив или в корне преобразовав большинство сформированных феодализмом общественных институтов, бережно сохраняет основанную на пожизненном призыве систему комплектования армии научных работников. Добиваясь этим того, что и в начале XXI века в научной жизни продолжает сохраняться немало элементов, живо напоминающих о совсем других временах.
В самом деле, получив официальный статус хотя и в связи с развитием капитализма, но в эпоху, когда феодализм был ещё силён, учёные просто не могли появиться и существовать иначе, как в качестве сословия. То есть довольно-таки замкнутой социальной общности со своими корпоративными стандартами, нравами, традициями, подчас даже с особым, предназначенным только для общения с себе подобными языком. Но разве в жизни современных учёных нельзя найти сходных черт, включая (см. ч. III, гл. 2) широкую кровнородственную преемственность в занятиях наукой?
Следует также отметить, что в условиях продолжающейся дифференциации и специализации знания наличие пусть значительного, но всё же ограниченного контингента подготовленных специалистов приводит к тому, что небольшим научным подразделениям и даже отдельным учёным могут “доставаться” для разработки весьма значительные участки общего фронта исследований. И не столь уж редко такие монополисты поневоле, порой долгие годы не встречающие в своей работе ни поддержки, ни конкуренции, с какого-то момента и сами начинают взирать на соответствующую проблематику как на свою “вотчину”, снимать с которой урожай статей, книг, диссертаций и проч. дозволено только им и никому более. Так что любой “посторонний” исследователь, пытающийся параллельно углубляться в ту же тематику и высказывать по ней какие-то собственные и не совпадающие с “дозволенными” идеи, воспринимается новоявленными феодалами мысли не как пришедший на помощь коллега, но как самозванец, посягающий на их сугубую привилегию единоначально глаголать истину по данному вопросу. А уж если подобный невежа позволяет себе обнаружить недостатки и слабости в позиции отвыкших от критики научных князьков, то, находясь в пределах их досягаемости, он имеет все шансы узнать, что такое “внеэкономическое воздействие”, причём – как это принято у истинно аналитических умов – обычно в сложноорганизованной или даже замысловатой форме.
Ещё показательнее отношение к исследовательскому корпусу политико-экономических организаторов науки в претендующих на перворазрядность капиталистических странах. С одной стороны, для поддержания таких претензий формируются достаточно крупные, оснащённые и многофункциональные контингенты научных работников. Но при этом, помимо собственно способностей, едва ли не более важным критерием отбора будущих учёных оказывается материальная обеспеченность, поскольку прохождение любой надстраивающейся над школой ступени обучения требует серьёзных средств. И только для по-настоящему одарённых выходцев из социальных низов в окружающей высшее образование стене имущественного ценза приоткрывается калитка персональных стипендий, грантов и др. Зато тем, кто в итоге попадает на исследовательскую работу, обеспечивается вполне достойное, а если они показывают заслуживающие внимания результаты, то и весьма солидное содержание.
Ну как тут не вспомнить о выработанном позднефеодальными государствами простом и надёжном способе обеспечения сословной чистоты офицерского состава рекрутских армий. Когда, к примеру, в реформированной Петром I по европейским образцам российской системе военной службы: а) производили в офицеры прежде всего дворян; б) возводили в дворянское звание пробившихся в офицерские чины не-дворян; в) изгоняли из армии и лишали дворянского звания (гражданская казнь) проявляющих антигосударственные устремления. Так что и в этом пункте капитализм не ищет оригинальности, а просто использует для армии научных работников уже опробованный в обычной армии механизм поддержания лояльности к господствующему строю, лишь заменяя в нём в качестве главного квалифицирующего признака дворянский титул на обладание собственностью.