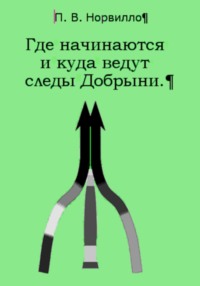полная версия
полная версияЗнание! Кто «за»? Кто «против»? Воздержался?
Можно предположить, что способности наставников и обучаемых играли здесь определённую роль. И всё же главной предпосылкой такого хода событий служило, очевидно, общее младенческое состояние научного поиска.
И этому выводу нисколько не противоречат упоминавшиеся выше впечатляющие результаты, достигнутые античными исследователями на ряде направлений. Потому что, во-первых, своим выдающимся характером эти вершины дополнительно подчёркивают, что на всём остальном познавательном пространстве дело пока не шло дальше первичной систематизации доступных невооружённому глазу фактов и самых общих догадок относительно сущности наблюдаемого. А во-вторых, как раз последующая судьба изысканий того же Евклида или Архимеда показывает, насколько они опередили реальные запросы своего времени.
В самом деле, снижение темпов развития общей и собственно научной культуры в раннем Средневековье настолько бросается в глаза, что обратные процессы, обозначившиеся в XIV веке, получают имя Возрождения. Причём виднейшие деятели этой эпохи прямо признавали своими ориентирами творения античных мастеров. Но даже в таких условиях сформулированные Архимедом общие принципы равновесия плавающих тел начинают осознанно применяться в практике судостроения лишь начиная со второй половины XVII века. А уточнение и развитие выводов Евклида происходит уже в XIX веке.
Если же сравнивать не высшие достижения, а общее состояние познания, то разрыв между рабовладельческими республиками и феодальными монархиями начинает выглядеть совсем не столь радикальным. Потому что и в самые средние века в Европе уже не жили в пещерах и не одевались в шкуры. Люди возделывали землю, выделывали ткани, строили дома, ладили корабли для плаваний по рекам и морям, опять же воевали. И все эти и многие другие известные европейцам занятия требовали достаточно специализированных орудий, а значит, существования целого спектра ремёсел. Что было бы невозможно без постоянного воспроизводства обеспечивающих эти направления деятельности достаточно разнообразных знаний и навыков. Что, в свою очередь, не могло не сопровождаться пусть медленным, но расширением и углублением таких прикладных знаний. Тем более что задачи, которые приходилось решать крестьянам и ремесленникам большинства европейских стран, по сложности уж точно не уступали проблемам, встававшим перед их коллегами в тёплом Средиземноморье.
А вот теоретические изыскания в это время действительно почти полностью замирают. Просто потому, что становятся не нужны.
Ведь в Древней Греции – и это стоит ещё раз подчеркнуть – чистота абстрактных рассуждений ценилась и поощрялась в основном потому, что в какой-то момент она стала предметом государственного престижа. Имея довольно скромные политико-экономические ресурсы, жёстко ограничивающие межгосударственное соперничество в глобальных проектах, полисам волей-неволей приходилось уделять особое внимание личным достижениям своих граждан. Так что по мере того, как атлетические состязания в Олимпии обретают всегреческую популярность, их победители начинают почитаться именно как народные герои, добывшие славу не только для себя, но и для всей своей самоуправляемой области.
Что же касается славы греческих мудрецов, то она явно начиналась с решения вполне конкретных задач и получения результатов, понятных и ощутимых для достаточно широкого круга людей36*. Ведь когда рассуждать на общие темы берётся человек, не способный отвечать на практические вопросы, относиться к этому всерьёз могут разве лишь ещё более убогие, чем он сам. Более того, снискать их автору широкую известность едва ли смогли бы даже вполне продуктивные, но сугубо локальные находки. Дабы заинтересовать кого-то, помимо ближайших соседей, соображения и выводы местного интеллектуала должны были содержать ответы (или хотя бы попытки ответов) на вопросы, одинаково понимаемые жителями разных областей и не связанные с чисто родосским, коринфским или каким-либо иным местным колоритом.
С другой стороны, отыскав эффективный приём решения прикладной задачи, и в былые времена далеко не все спешили поделиться такой новостью с окружающими; многие предпочитали сохранить своё открытие в качестве семейного или корпоративного секрета мастерства. Тогда как находки в области теории, не сулящие в обозримом будущем прямой материальной выгоды, напротив, обычно стараются активно пропагандировать, чтобы получить хотя бы моральное удовлетворение от утверждения собственного приоритета. Лишь бы нашлась аудитория, способная понять и оценить суть идеи.
И как раз в Греции такая аудитория находится. Потому что когда за обсуждение вопросов высокого и высшего уровня абстракции берутся мыслители, уже зарекомендовавшие себя успехами в реальных делах, это воспринимается не как “пустая блажь”, а как проявление интеллектуального суверенитета истинно свободных людей, могущих позволить себе заниматься теорией не ради материальных выгод, а ради приобщения к внутренней красоте стройных логических выводов.
А по мере накопления определённого теоретического багажа причастность к исследованию универсальных математических закономерностей и общих принципов мироздания превращается для древних греков в один из признаков, отличающих не только свободного от раба, но и эллина от варвара. В связи с чем довольно скоро для каждого города-государства становится делом чести иметь среди своих граждан хоть сколько-нибудь известного “любомудра”. А отсутствие хотя бы представительства какой-нибудь оригинальной философской школы начинает восприниматься как признак второразрядности.
Традиции, заложенные на этом этапе, оказываются столь сильны, что и после завоевания сначала Македонией, а затем Римом Греция ещё несколько столетий продолжала оставаться признанным научным и культурным центром античного мира. Однако сами завоеватели, считавшие главным признаком величия государства военную силу, мало интересовались теоретическими достижениями покорённого народа. Так что исследовательско-просветительские усилия греческих учёных новыми властями не запрещались, но и не поощрялись.
В силу этого работа по осмыслению принципов функционирования нашего мира, прежде относившаяся к сферам межгосударственной конкуренции, после утраты греческими городами независимости становится частным делом их жителей. И такое снижение уровня контроля довольно скоро приводит к тому, что при обсуждении глобальных и текущих проблем всё больше дают себя знать чисто личные амбиции, а полемика адептов разных философских школ всё чаще принимает вид заурядной склоки. Что, конечно же, не шло на пользу репутации исследователей-теоретиков, но зато дополнительно усиливало ощущение упадка по сравнению с былыми вершинами.
А последнюю черту под вольными теоретическими поисками античных энтузиастов подводит усиление христианства. Побратавшись с властью, церковь получила возможность осаживать инакомыслящих не только словом, но и делом. Так что тем, кто пытался философствовать вне рамок новой религии, пришлось замолчать либо исчезнуть. И в итоге в эпоху средневековья познание по всей Европе, включая Грецию, вступает выровненным, подстриженным и отфильтрованным, без сколько-нибудь заметных отступлений от утверждённого стандарта.
2в) Средневековое образование.
Не приходится удивляться и тому, что, однажды взяв под контроль интеллектуальную жизнь общества, церковь более нигде и никогда добровольно своих позиций не сдавала. Причём на пике её могущества открыто выступать против устоявшихся порядков и взглядов было рискованно не только для частных лиц, но и для государей. (В частности, германский император Генрих IV, потерпев поражение в борьбе с папским престолом, был отлучён от церкви, низложен и в конце концов вынужден в 1077 году буквально на коленях вымаливать прощение у папы Григория VII.) Так что века на исходе первого и в начале второго тысячелетия нашей эры стали временем, когда выдвижение новых мирообъемлющих идей с точки зрения властей всех уровней являлось занятием скорее подозрительным, нежели почётным. И заниматься поиском новых данных о природе и человеке, не опасаясь за свою безопасность, могли только люди, специально благословлённые на это светской и духовной инстанциями.
Кроме того, в эту эпоху – опять-таки во многом стараниями католической иерархии – господствующим носителем письменного языка становится латынь и отчасти древнегреческий. А параллельное книгоиздание на национальных языках просто в принципе исключалось. В связи с чем освоение уже вышедших из живого употребления языков становится необходимым условием не только для карьеры священнослужителя, но и первой ступенью на пути в любую сферу, серьёзная работа в которой требовала знакомства с опытом предшествующих поколений и обмена информацией с коллегами.
Так что латынь в эту эпоху не только облегчала межнациональное общение для получивших более-менее систематическое образование, но и одновременно жёстко отсекала от личного знакомства с первоисточниками по астрономии (под видом астрологии), медицине, той же философии, истории и т. д. всех “непосвящённых”. К числу которых относились не только крестьяне и ремесленники, но и значительная часть феодалов, особенно средних и мелких.
Вот и получалось, что в условиях откровенно вяло протекающей интеллектуальной жизни даже те не очень выразительные движения в этой сфере, которые всё же происходили, были доступны для наблюдения весьма ограниченному кругу лиц преимущественно духовного звания. В связи с чем вообще всё, относящееся к “книжной премудрости”, начинает восприниматься как преимущественно внутреннее дело наднациональной корпорации священнослужителей и в меньшей степени – как свершения представителей тех или иных государств.
А раз написанные её гражданами книги, проходящие на её территории диспуты и иные культурные события мало что добавляли к международному авторитету страны и не помогали решать насущные проблемы, то это и означает, что никаких внешних стимулов для развития наук и искусств у местных властей не было. И пока ход вещей оставался таким, поощрение или преследование творчески мыслящих людей решающим образом зависело от личных вкусов и пристрастий данного конкретного правителя37*.
Плюс к этому на понижение общего интеллектуального уровня в постантичные времена работал и ещё целый ряд факторов.
Во-первых, для большинства европейских стран, гораздо более обширных и многолюдных, чем греческие полисы, регулярные созывы общего собрания хотя бы только привилегированных граждан становятся просто-напросто технически неосуществимыми. В связи с чем даже для дворянства демократия из прямой превращается в представительную, а крестьяне, даже проживающие поблизости от столиц своих стран, на определённом этапе полностью лишаются права голоса при решении вопросов общественной жизни. И в итоге отсутствие интереса к политике, у древних греков считавшееся признаком духовной неполноценности, для благородных рыцарей становится обычным делом. А проявление такого интереса даже среди высшей знати воспринимается скорее как хобби, нежели исполнение неотъемлемой обязанности свободнорождённых.
С другой стороны, рассеянность населения по большим пространствам приводит к тому, что, за отсутствием иных наглядных ориентиров, всякий феодал средней руки становится в своей округе высшим судьёй и эталоном в вопросах не только собственно права, но и общей культуры, моды и пр. В связи с чем слово “провинциальный” – даже при том, что в обсуждаемую эпоху и европейские столицы мало чем походили на центры передовой научной мысли – повсеместно начинает подразумевать повышенную степень отсталости.
Да, разумеется, даже самые непритязательные феодальные правители не могли вовсе обойтись без грамотных и интеллектуально развитых помощников. Но число таких более-менее подготовленных людей, потребное для удовлетворительного функционирования государственного аппарата, составляло считанные проценты от общей численности класса землевладельцев. Сверх того, в наследственных монархиях обновление управленческих кадров происходило, как правило, медленно, и хорошо зарекомендовавшие себя главный национальный финансист, дипломат или законовед (а равно и вся нисходящая иерархия их ставленников) могли оставаться на своих постах десятилетиями вплоть до смерти своей или государя. Так что предъявлявшийся государствами в этот период весьма умеренный спрос на квалифицированных служащих с запасом покрывался теми представителями дворянства, кто – просто по личной склонности – обращал внимание на опыт пращуров в сфере политической экономии, административно-правового регулирования, международных отношений и т. д. Что опять-таки лишало внешних стимулов к теоретическим дерзаниям тех, кого учёность сама по себе мало интересовала, но кто, возможно, был бы готов заняться самообразованием ради карьерных перспектив, будь они более реальными.
А в общем итоге наложение друг на друга всех этих факторов приводит к тому, что служение государству мечом и, образно говоря, пером начинают восприниматься как не просто разные, но ещё и практически не пересекающиеся виды деятельности. Так что, скажем, во Франции даже на уровне языка выделяются “дворянство шпаги” и “дворянство мантии”. Излишне уточнять, что при этом военная служба повсеместно и большинством воспринималась как безусловно более важная и почётная, чем “статская”. Вплоть до того, что многие заслуженные воины усматривали в собственной неграмотности скорее дополнительный повод для гордости, нежели недостаток.
Не менее очевидно и то, что в условиях, когда основной формой подготовки дворян к государевой службе было домашнее обучение, такие умонастроения просто обрекались на самовоспроизводство. Ибо каждое очередное поколение дворян принималось наставлять своих отпрысков строго с учётом признанных общественных приоритетов. То есть главное либо даже всё внимание сосредотачивалось на умениях и навыках, нужных в бою, плюс этикет и “хорошие манеры”, отличающие “благородных” от “черни”. И только в малой части дворянских семей признавалось уместным обучать своих детей чему-то ещё.
Тем не менее, подобно свободнорождённым Древнего мира, средневековые землевладельцы как сословие продолжали числиться “цветом нации”, призванным перед всеми продемонстрировать её превосходство не только на поле брани, но и на интеллектуальном поприще. Однако если в античных полисах большинство граждан действительно ориентировалось на уровень мудрецов и старалось не отставать от них, то основная масса европейских дворян уже сам факт “благородного” происхождения воспринимала как абсолютную гарантию своего культурного превосходства над всевозможными “смердами”, по сравнению с которым наличие или отсутствие образования не имеет принципиального значения. Так что древние философы, превосходя современников в системности мышления и аналитических навыках, по объёму своих фактических знаний были, что называется, первыми среди многих равных. Тогда как крупные мыслители средневековья стояли на вершине интеллектуальной пирамиды, в основании которой лежало самое дикое и вместе с тем исключительно довольное собой невежество, представленное как раз привилегированными членами общества.
2г) Образование нового времени.
Развитие мануфактурного, а затем фабрично-заводского производства, в военном деле вызвавшее к жизни регулярные рекрутские армии, не прошло бесследно и для научно-образовательной жизни общества.
Потому что новая организация труда, заметно повысившая его производительность и объём выпускаемых товаров, ставит задачу подобающего расширения торговли по всем направлениям. В связи с чем активизируется процесс совершенствования сухопутных средств сообщения и начинается подлинный бум кораблестроения и мореплавания. Что, в свою очередь, дополнительно ускоряет рост требований к количеству и качеству производимого металла, тканей и изделий из них, стимулирует поиск новых способов обработки дерева, камня, кожи и других природных материалов.
Безусловно, производственники старались быть на высоте и по мере сил идти навстречу запросам потребителей. Однако им приходится убедиться, что одна лишь практическая сметка и глазомер не всегда обеспечивают должный уровень решения новых технических задач. Зато там, где целенаправленно брались за систематизацию имеющегося опыта и старались выявить общие правила развития некоторого естественного процесса и принципы построения использующей его человеческой деятельности, это обычно позволяло не только справиться с текущими затруднениями, но и вплотную взяться за проблемы, на которые первоначально даже не замахивались.
А будучи осознаны и сформулированы именно как универсальные принципы, такие знания уже не могли сколько-нибудь долго оставаться чьим-то частным достоянием. Потому что практики-конкуренты, узнав о чужих достижениях, старались выяснить их источники и по возможности воспроизвести соответствующие условия у себя. А исследователи-теоретики, привлекавшиеся к решению прикладных задач, и сами не собирались ни от кого скрывать полученные ими результаты более общего характера. (Так что уже в середине XVIII века практически одновременно вышло в свет, в частности, два капитальных труда разных авторов по теории кораблестроения.)
И в результате объединения вышеуказанных тенденций во всех основных сферах деятельности формируются комплексы базовых теоретических знаний, не владея которыми можно было поддерживать прежний патриархальный уровень, но идти вперёд, развивать данную отрасль, так чтобы хотя бы не отставать от общего развития производства, становится затруднительно или вовсе невозможно. А освоение таких базовых специальных знаний, в свою очередь, требовало базовой общей подготовки.
А кроме повышения требований к его организаторам, рост производства вызывает активизацию общественной жизни буквально по всем направлениям – от роста объёма налоговых поступлений до появления новых социальных групп. В связи с чем унаследованные от феодализма государства и государи оказываются перед выбором: то ли продолжать функционировать по старинке, контролируя лишь традиционные социальные проявления, а всякие новообразования пустить на самотёк. Либо хотя бы попробовать идти в ногу со временем, а значит, подобающим образом расширять и усложнять общественное администрирование и обеспечивающий его аппарат.
Впрочем, если кто-то из тогдашних правителей по своим личным настроениям и был не прочь отложить крупные реформы “на потом”, вовсе не обращать внимания на происходящее у соседей не мог позволить себе никакой даже самый заядлый консерватор. Ибо, после формирования политическими конкурентами регулярных армий нового образца, попытки защитить свои границы силами “старого доброго” феодального ополчения грозили уже не тактическими поражениями, а абсолютным разгромом с утратой суверенитета и переходом под чьё-то внешнее управление или разделом страны между более сильными претендентами. Так что в военной сфере ситуация большого выбора никому не оставляла.
А будучи создана, постоянная армия начинает требовать столь же постоянного пополнения, материально-технического обеспечения и ставит много других вопросов, для решения которых становится необходима столь же регулярная работа различных гражданских ведомств. А когда такие службы были созданы и правящие круги воочию убедились в потенциале чиновной бюрократии, то вопрос, сто/ит или не сто/ит модернизировать “статскую” составляющую государственного аппарата, получил ответ однозначный и окончательный. (И сколько потом ни затевалось попыток, включая революционные, реформировать и отладить бюрократическую иерархию, реально никому так и не удалось поколебать положение чиновника как центральной фигуры общественной регламентации.)
Правда, чтобы административная машина новой формации могла заработать на полную мощность, требовалось прежде укомплектовать её достаточным числом кадров, способных, как минимум, самостоятельно разобраться в бурном потоке входящих и составить подобающие исходящие. И потому где раньше, где чуть позже, но в конечном счёте во всех ведущих державах для служилого сословия устанавливается самый настоящий образовательный ценз. В одних странах он складывается явочным порядком, в силу накопления соответствующих традиций, в других, как, например, в России, вводится законодательно, но суть от этого не меняется. По ходу XVII – первой половины XVIII вв. общие пожелания относительно образованности дворянства дополняются вполне конкретными государственными требованиями.
Конечно, с позиций сегодняшнего дня эти требования выглядят довольно скромными, чтобы не сказать, элементарными. Но не будем забывать, что до обсуждаемого времени дворянство в массе своей целенаправленно обучалось фехтованию, верховой езде, танцам да псовой охоте. Так что помочь своим детям в освоении хотя бы только алфавита и четырёх действий арифметики мог далеко не каждый титулованный родитель. А попытки решить эту проблему как и прежде “на дому”, с помощью приглашаемых наставников, лишь показали, что личная образованность отнюдь не всегда сочетается со способностью доходчиво преподать другому человеку хотя бы самые азы “наук”. И таким образом, получается, что число нуждающихся в образовании “вдруг” начинает резко превышать численность хоть сколько-нибудь подготовленного преподавательского состава.
Единственным и потому неизбежным выходом из такого положения становится повышение количественной нагрузки на отдельного педагога, благо с давних времён было известно, что хороший учитель может успешно заниматься и более чем с одним учеником. И если высшая знать ещё могла позволить себе держаться за старое и “нанимать учителей полки”, лишь бы их чада оставались под присмотром и не оказались в одном потоке “с кем ни попадя”, то выходцы из средних и низших слоёв дворянства, чьи родители не имели возможностей содержать дома штат преподавателей, отвечающий новым требованиям, волей-неволей должны были отправляться учиться куда-то ещё38*.
С другой стороны, как это обычно и бывает, признанная общественная потребность очень скоро вызывает к жизни соответствующие предложения и инициативы. Наиболее известными из которых являются, пожалуй, разработки Я. А. Коменского (1592-1670) относительно классно-урочной системы преподавания, без существенных изменений продолжающие применяться и в современной школе. Так что уже к середине XVII века организационно-технические предпосылки для развёртывания системы именно массового базового образования получают подобающее методическое оформление.
К этому остается добавить, что по мере количественного расширения центральных и местных администраций неизбежно, а главное, опережающими темпами происходит рост вспомогательных канцелярских функций, вполне рутинных по сути, но всё же требующих для своего исполнения определённой подготовки. И чтобы не браться за эту работу самим, “хозяевам жизни”, как и в регулярной армии, приходится соглашаться на замещение рядовых должностей гражданской службы людьми “неблагородного” происхождения, а стало быть, всё шире допускать к образованию низшие сословия. Так что, начав создаваться в той или иной стране, школа нового типа очень быстро превращается в явление истинно национального масштаба.
Ну а массовая общественная структура, участвующая в подготовке будущих госслужащих, просто не могла не привлекать к себе внимания действующих властей. Так что и в тех странах, где, как, скажем, в Англии, формируется значительное представительство частных школ, “народное просвещение” в целом всё равно подвергается обстоятельному законодательному нормированию. А где-то, как, к примеру, в Германии или России, вообще вся система образования превращается в отрасль государственной службы, а преподаватели – в чиновников, официально подчинённых особому министру.
А поскольку любая чиновная структура, дабы оправдать своё существование, старается демонстрировать активное участие в подведомственном процессе, а наиболее наглядным плодом деятельности бюрократов являются всевозможные инструкции, правила и положения, то постепенно строгая регламентация охватывает буквально все аспекты государственного образования, начиная с содержания программ и заканчивая покроем мундиров преподавателей и учащихся. И по степени уставной предопределённости своей внутренней жизни зрелая школа Нового времени не намного уступала армии. Сходство дополняется активно применявшимися к ученикам телесными наказаниями и недопущением к регулярному образованию лиц женского пола.
Ещё одной важной особенностью обсуждаемой эпохи становится то, что к началу XVIII века понятие “учёный” приобретает уже практически современный смысл, поскольку так начинают именовать не просто обученных людей, а в основном тех, кто:
а) постоянно и целенаправленно занимается изучением механизмов и закономерностей, регулирующих развитие наблюдаемых в окружающем мире и самом человеке процессов и явлений;
б) делает это не только и не столько по личной склонности, но прежде всего для удовлетворения достаточно осознанных или даже прямо сформулированных общественных запросов.