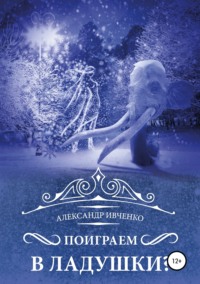полная версия
полная версияСнимать штаны и бегать
А моя работа – делать так, чтобы люди в «кровавых» правителях видели «справедливых» и наоборот.
– Значит, вы пишите историю… – просто констатировала Елизавета.
– Не надо преувеличивать моих скромных заслуг! – усмехнулся Василий.
– Не скромничайте. Вы пишите историю. Уродливую и ориентированную на сиюминутные потребности сильных мира сего, – строго, но без намека на нотацию, сказала Елизавета. Раздайбедин оторопел, но взял в себя в руки и огрызнулся:
– А вы думаете, что все летописцы, начиная с отца истории Геродота, были объективными? Хотелось бы мне посмотреть на того, кто в глаза назвал бы Ивана Грозного душегубом, Петра I – палачом…
– И вам никогда не встречались люди, которые хоты бы попытались отнестись к прошлому, настоящему и будущему своего Отечества с большой любовью? С уважением к тем, кто будет разбираться во всем этом через много лет… С большой ответственностью за каждое сказанное слово. Пусть даже смысл его не всегда приятен тем, кто у власти, пусть слово это неугодно тем, кто мнит себя выше вас…
– Нет! – категорично, но вместе с тем грустно ответил Василий.
Елизавета немного помолчала и произнесла неожиданно теплым голосом:
– Поверьте, Василий, мне очень приятна ваша искренность! И я ценю ваши слова о том, что вы боитесь оскорбить меня своей ложью. Но почему вы считаете, что остальные люди не заслуживают такого же отношения к себе? Как вы, подбрасывая им фальшивого генерала, можете требовать от них искренней любви?
– Я знаю людей… – пожал плечами Василий. – Я каждый день, так или иначе, сталкиваюсь с человеческой мелочностью и подлостью.
– Не потому ли, что каждый из нас изначально предполагает в окружающих только подлость, и заранее не утруждает себя излишней порядочностью?! Разве вы никогда не ловили себя на мысли, что ежедневно в своих деяниях и поступках, которые кажутся вам мелочами, вы жертвуете совестью в пользу личной выгоды? При этом вы уверены, что «уж в большом-то» вы поведете себя как «настоящий человек»! Но в жизни почему-то так и не находится места подвигу. Все большое, что удается свершить, делается не в один день, а складывается «по кирпичику» из этих вот «мелочей»…
– Я согласен! – усмехнулся Василий. – Вы заглянули мне в душу. Именно по этим причинам большинство из нас, даже имея силы, способности и горячее желание изменить мир к лучшему, по факту лишь всю жизнь исподтишка гадят окружающим.
Елизавета потупила взор, задумалась и произнесла тихо:
– Вам нужен пример? Доказательства, что в жизни бывает иначе? Хотите, я расскажу вам свою историю?
Василий обрадовался и растерялся:
– Свою историю? Вы? Да, конечно!
– Самое первое воспоминание моего детства – это устойчивое и светлое ожидание счастья, – зазвучал мелодичный голос Елизаветы. – Тогда весь мир был гораздо больше… Радость была безмятежнее, а отчаяние – глубже. Но этот мир был создан только для меня, и подстраивался под любой мой каприз.
Я росла в окружении тихого мещанского уюта. Уютными были моя кроватка, моя комната, мои детские игры. И даже мои мечты были маленькими и уютными. Я знала, что должна слушаться маменьку, стараться вырасти благонравной и воспитанной. И, если я буду именно такой, то однажды повстречаю мужественного и скромного, состоятельного и красивого молодого человека, которому составлю достойную партию. И я старалась изо всех сил.
Василий заворожено слушал.
– Такой человек нашелся, – продолжала Елизавета с едва уловимой горечью. – Правда, он не был молод, но зато был состоятелен и настойчив. Окружающие в один голос сказали, что лучшего мужа мне не найти. Дата свадьбы была назначена. Решение о моем замужестве было принято задолго до того, как я сама решилась задать себе вопрос: готова ли я к такому шагу? Что я ищу в том человеке, рядом с которым собираюсь находиться всю жизнь? Сейчас я понимаю, что тогда даже о своих вкусах в еде или одежде, о привычках, привязанностях и мнениях по тому или иному вопросу я узнавала от своих родителей задолго до того, как успевала сама их составить.
Василию внимал каждому слову. Ему показалось, что граница светового круга, очерченного торшером, начинает таять. Темнота понемногу рассеивалась, из нее начали проступать очертания мебели и стен. Фигура Елизаветы вырисовалась все отчетливее, обретая все более материальные очертания.
– Но однажды в моей жизни изменилось все…
Василий замер, боясь неловким движением или даже вздохом помешать рассказчице.
– За несколько дней до свадьбы я…
В этот миг за спиной Василия, заглушая храп дяди Пёдыра, механическим голосом трижды проорал петух – это сработал будильник в наручных часах Голомёдова. Дядя Пёдыр что-то невнятно пророкотал, перевернулся на другой бок и снова захрапел. Из темноты раздался сонный голос Кирилла:
– Который час?
– И ты здесь? – Удивленно воскликнул Василий. Он повернулся к дивану, отгородился от слепящего света торшера ладонью и прищурился, пытаясь пронзить взглядом тьму. – А что ты здесь делаешь? Впрочем, неважно! Это просто замечательно, что ты здесь! Сейчас я познакомлю тебя с одним человеком!
– Не рановато ли для знакомства? – недовольно пробурчал голос Голомёдова.
– В самый раз! – радостно воскликнул Василий. – Елизавета!
Раздайбедин обернулся со счастливой улыбкой. Было еще темно. Но первые сероватые пятна света, как разведчики, высланные солнцем, уже прокрались в щели меж задернутых штор и начали по-пластунски расползаться по подоконнику, стенам и креслу, стоящему напротив. Кресло было пусто…
Глава 26. Исторические свершения ночи на 6-е сентября
Если к пятидесяти годам вы настолько удачливы, что уже расторгли все ранее заключенные браки; если вы вольны принимать пищу не в столовой, а на диване (причем, из всех предметов гардероба на вас лишь семейные трусы и домашние тапки); если, наконец, вам по силам съесть сразу килограмм вареных пельменей и запить их литром пива, то вы явно нащупали верный Путь к достижению райского Блаженства еще при жизни. Вы вполне можете создавать свое Учение. Прочим Просветленным, которые разными экспериментами над телом и духом достигали этого состояния, назвав его кто Нирваной, кто Мокшей, кто Ниродхой, а кто и Праджняпарамитой, придется лишь уважительно потесниться, допуская в вашем лице Равного в свой Пантеон.
Скульптор Андриан Сквочковский блаженствовал. На его душе было хорошо и торжественно, как у провинциала, впервые посетившего ВДНХ. Набитый живот Андриана Эрастовича был сам по себе и выставкой, и достижением, и народным хозяйством. Мрачные мысли, не задерживаясь, соскальзывали с этой округлой возвышенности. А мысли приятные и веселые ждали тут же, под рукой, пока улягутся пельмени, и внутри скульптора освободиться хоть миллиметр пространства, которое можно будет занять. Но пока думать не хотелось абсолютно ни о чем, а хотелось только улыбаться. Отчасти эта хроническая улыбчивость была обусловлена тем, что кожа на животе натянулась до предела, отчасти – ничем не обусловлена.
Впрочем, блаженство длилось недолго. В мастерской Сквочковского истерично затрезвонил телефон, наглядно демонстрируя как жесток, несправедлив и завистлив порою бывает этот мир. Андриан Эрастович не сразу почувствовал беду. Все еще улыбаясь, он поднес трубку к уху и лениво протянул:
– Мастерская мэтра Сквочковского, аллоу?!
– Вы в мастерской? Отлично! – раздался в трубке голос Раздайбедина. Он был деловит, и против обыкновения даже чуть суетлив. – Открывайте основные ворота – сейчас мы доставим к вам статую!
Скульптор какое-то время непонимающе моргал, уставившись на телефонную трубку, из которой неслись короткие гудки. Какая статуя? Разве не своими ушами он вчера утром услышал о приговоре своему творению? Разве не омыл он преждевременную гибель своего шедевра ручьями горьких слез и бутылкой горькой водки?
Тем не менее, Андриан Эрастович неохотно оторвался от дивана, накинул халат и направился к дальней стене. Здесь за ширмами, каркасами, драпировкой и прочим хламом скрывались большие ворота, которые когда-то служили для въезда большегрузных автомобилей в полуподвальный ремонтный бокс. Но после того как из помещения был изгнан вульгарный дух солидола и выхлопных газов, и оно было переоборудовано в Храм искусства, ворота стали открываться лишь по особо торжественным случаям. А именно в те дни, когда очередной шедевр скульптора покидал мастерскую и являлся миру. Последние творения Сквочковского, вроде купидонов и нимф, покидали мастерскую подмышкой автора через обычную входную дверь, а потому массивные ворота, утепленные изнутри войлоком, порядком заржавели и долго не поддавались. Наконец, раздраженно скрипнув, отъехала сначала одна створка, потом вторая. В помещение ворвались оранжевые лучи вечернего солнца, гомон улицы и теплый ветер, который тут же разметал по мастерской стопку эскизов и поднял невообразимую пыль.
Немного погодя во двор, надсадно урча нутром, вкатил плечистый грузовичок с небольшой грузовой стрелой в кузове. Там же на грубо сколоченном поддоне покоилось нечто, пока еще скрытое от глаз брезентом, но судя по очертаниям – очень даже монументальное.
Дыхание скульптора перехватило. Неужели случилось чудо? Неужели вандал Брыков расстрелял по ошибке какую-то другую скульптуру? Хотя, если рукописи не горят, то почему бы скульптурам не закрепить за собой привилегию не разбиваться?
Тем временем из кабины грузовика выскочил Раздайбедин, коротко кивнул скульптору, натянул брезентовые рукавицы, лихо свистнул и по хозяйски скомандовал водителю:
– Вира помалу!
Закутанную скульптуру опустили на специальную тележку из хозяйства Андриана Эрастовича и, поднатужившись, с помощью водителя грузовичка втроем вкатили в темное чрево мастерской. Тут в привычной обстановке скульптор немного пришел в себя. Тихо и осторожно, словно боясь потревожить удачу, он спросил:
– Что это?
– Это? – Василий залихватски хлопнул рукавицами и ухватился за веревку, державшую брезент. – Это наше спасение!
Он рывком сдернул материю и горделиво замер. Андриан Эрастович поднял глаза, охнул и боязливо попятился. Над ним, строго сдвинув брови, заложив левую руку в пройму жилетки, а правую вытянув куда-то в сторону Великого Октября, в полтора человеческих роста нависала бронзовая фигура Вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина.
– Где вы это достали? – только и смог выдавить из себя Сквочковский.
– Вы не поверите, но достал из-под земли, – решительно заявил Раздайбедин. – В буквальном смысле. И, если уж быть совсем откровенным, то это не я достал, а Кирилл. Но эти мелочи не имеют отношения к большому искусству, которым мы с вами сейчас и займемся! Наша – или я бы даже сказал, ВАША – задача в том, чтобы к завтрашнему дню это изваяние стало памятником Льву Бубнееву – генералу, герою, славному сыну Отечества и так далее.
– Вы… Вы… Вы… – язык Сквочковского запнулся о сумбурный ком мыслей.
– Вы хотите спросить, в своем ли я уме? – уточнил Василий. – Да, идея может показаться странной. Но другого выхода у нас нет.
– Это профанация искусства! – неожиданно взвизгнул Андриан Эрастович. – Я не стану в этом участвовать!
– Станете, еще как станете… – дружелюбно улыбнулся Раздайбедин. – Вы внимательно читали наш контракт? Там черным по белому написано, что скульптор Сквочковский А.Э., именуемый в дальнейшем «исполнитель», обязуется в срок не позже шестого сентября предоставить Заказчику скульптуру генерала Бубнеева в полный рост, отлитую в бронзе.
– Но ведь произошло роковое похищение! Мое творение было варварски уничтожено! – возмущенно воскликнул ваятель.
– А форс-мажор в нашем контракте не оговорен. Хоть похищение, хоть нашествие бойцовых гладкошерстных черепах, – пожал плечами Василий. – Зато в контракте есть пункт о «неустойке», четко определяющий размеры денежной компенсации ущерба, который вы обязуетесь выплатить в случае срыва графика работ. И это лишь материальный ущерб. А если принять во внимание, что на кону стоят результаты выборов, становится ясно, что моральный вред, нанесенный Харитону Ильичу, не подлежит никакому учету. Вы уяснили положение?
Андриан Сквочковский зашмыгал носом.
– Ну, полно вам! – Раздайбедин ласково похлопал скульптора по плечу. – В случае удачи вас ждет двойной гонорар. Быть может, вас согреет осознание того, что весь банкет оплачивает меценат Брыков?
Андриан Эрастович заметно оживился и суетливо покрутил головой.
– Бры-ыков? Но что же мы в таком случае стоим? Что нужно делать?
– Вам, как профессионалу, виднее, – покачал головой Василий. – Можно гнуть, можно не гнуть, можно пилить и приклеивать. Можно красить, в конце концов. Но главное, чтобы к завтрашнему утру у нас был кто-то похожий на генерала Бубнеева.
– Зачем же… клеить? – поскреб залысину Сквочковский. – Давайте попробуем сварить…
– Сварочным аппаратом? Вы умеете? – с сомнением взглянул на него Раздайбедин. Андриан Эрастович надулся не то от обиды, не то от гордости.
– Ваятель – это не только вдохновенный творец. Это еще и талантливый ремесленник – отливщик, формовщик, токарь, сварщик и каменщик! – напыщенно заявил он.
– Да? – удивился Василий. – В таком случае вынужден заявить, что и пиар-менеджер – это в первую очередь творческая личность, и лишь во вторую – пьяное быдло. Следовательно, круг наших возможностей значительно расширяется! Запишите-ка меня в подмастерья…
Через некоторое время Сквочковский, переодетый в робу, натужно сопел в углу мастерской, извлекая на свет Божий сварочный аппарат, и пояснял:
– Вообще при помощи сварки обычно исправляют дефекты литья или повреждения бронзовых изделий. На мой взгляд, лучшие результаты дает дуговая сварка на постоянном токе обратной полярности…
Василий слушал крайне невнимательно, лишь изредка рассеянно кивая головой – скорее своим мыслям, нежели пояснениям Сквочковского. Он разглядывал ряды бронзовых бюстов членов политбюро, выстроенных на стеллажах вдоль стен мастерской.
– Скажите, уважаемый! А что вы намерены делать с этим вот идейным неликвидом? – прервал он объяснения скульптора. Андриан Сквочковский почесал лоб, уже перемазанный сажей, и с неподдельным пафосом воскликнул:
– Я верю, что искусство существует вне времени! И если сегодня эти произведения не востребованы, то завтра…
– Я просто хотел спросить, не согласились бы вы продать некоторые из них меценату Брыкову? Само собой, цену будете назначать вы…
– А он купит? – усомнился скульптор.
– Не думаю, что с большим удовольствием. Но в его положении деваться некуда. Купит! – уверенно заявил Раздайбедин. – На запчасти!
– В каком смысле – на запчасти? – вновь всполошился Сквочковский.
– На запчасти для генерала. – пояснил Василий. – Не жадничайте, Андриан Эрастович. Помните, что искусство требует жертв…
И творческий процесс закипел. До самого утра в мастерской истошно визжала дисковая пила, пугая редких прохожих. Из низких окон на мостовую летели всполохи молний от сварочного аппарата, регулярно раздавался скрежет, гром, удары металла о металл и лишь в редкие перерывы – тихий звон стекла о стекло.
Когда заспанное Солнце, потягиваясь, протянуло свои лучи в окна полуподвала, шум пошел на убыль и вскоре совсем сошел на нет. Посреди мастерской стояли плечом к плечу Андриан Сквочковский и Василий Раздайбедин, с ног до головы перемазанные металлической пылью, копотью и еще черт знает чем. Они обменялись усталыми, но довольными взглядами.
– А что, неплохо получилось! – кукарекнул Андриан Эрастович.
– Я такую жуть в последний раз видел в детстве в книжке про Мойдодыра! – восхищенно согласился Василий.
Перед ваятелем и его подмастерьем возвышался бронзовый колосс, позолоченный холодными утренними лучами сентябрьского солнца. Плащ фигуры, утратив некогда длинные фалды, превратился в подобие генеральского кителя. На груди по обеим сторонам блистали начищенные «иконостасы» орденов и медалей, беззастенчиво срезанные с бюста Первого секретаря ЦК КПСС, орденоносца-рекордсмена Леонида Ильича Брежнева.
– Медали – они даже у чихуа-хуа на собачьей выставке, и то круглые! Кто там будет разбирать? – философски заметил Василий на этом этапе сборки.
Правда, минутой позже разгорелась острая творческая дискуссия. Андриан Эрастович считал, что наград много не бывает, и предлагал пополнить медальный ряд из личных запасов командующего Первой Конной армией маршала Буденного. Но Василий придерживался того мнения, что во всем хороша мера. Сквочковский давил авторитетом скульптора, Раздайбедин – отсутствием времени и ненормативной лексикой. Поскольку у Василия на один аргумент оказалось больше, в итоге генералу пришлось довольствоваться тем, что уже успели приварить.
Куда больше возни было с генеральскими погонами и эполетами. Их пришлось вытачивать вручную, используя в качестве заготовок обрезанные фалды ленинского плаща.
В основу скульптурного портрета Льва Бубнеева после недолгих, но бурных дебатов по настоянию Сквочковского была положена голова все того же Брежнева. Изначально Раздайбедин настаивал на кандидатуре маршала Буденного, мотивируя выбор тем, что в скульптуре должно быть хоть что-то по-настоящему военное. Но Андриан Эрастович молитвенно сложил руки на груди и воскликнул:
– Все равно после того, как мы спилили ордена, бюст Леонида Ильича безвозвратно загублен!
– Что же, пожалуй, дорогому Леониду Ильичу без орденов – все равно, что без головы… – согласился Василий, немного подумав. – Кроме того, если пересаживать органы от одного Ильича к другому, они обычно лучше приживаются!
– Правда? – округлил глаза Сквочковский.
– Заявляю с ответственностью человека, которому отечественная трансплантология обязана крайне многим. В частности, тем, что он никогда ею не занимался и тем самым не подорвал ее основ…
Усекновение главы Ильича (одного, а затем и второго) прошло успешно. Однако при их замене выяснилось, что маковка Первого секретаря ЦК КПСС оказалась несколько меньше, чем чело Вождя мирового пролетариата (что, в общем-то, оправдано даже с идеологической точки зрения). Но от этой диспропорции скульптура лишь выиграла. Плечи колосса стали казаться гораздо шире, а вся фигура в целом приобрела черты былинного верзилы Святогора.
Потом брежневские брови были срезаны дисковой пилой, как излишне узнаваемая деталь, и прилажены под нос будущего генерала в качестве усов.
– Чего добру пропадать? – прокомментировал это решение Раздайбедин.
Однако же после этой процедуры лицо Леонида Ильича приобрело настолько разительное сходство с портретом маршала Буденного, что Василий даже заподозрил в истории СССР наличие некоего фатального подлога. Обсудив создавшееся положение на экстренном совете, Раздайбедин и Сквочковский решили усы все-таки убрать от греха подальше, и эпохальные брови переместить на щеки генерала в качестве окладистых бакенбард.
Пока Андриан Эрастович трещал сварочным аппаратом, неуемная энергия и любопытство подтолкнули Василия к обследованию темных уголков мастерской. В одном из них, смахнув паутину, Раздайбедин разыскал стоптанные ботинки на щегольски-высоком каблуке, эротический журнал с распутной девицей на обложке и длинный изогнутый лист старой рессоры. Из этого листа Василий, уже усвоивший первичные навыки работы с металлом, при помощи кувалды и точильного станка изготовил слегка изогнутый клинок знаменитой «золотой шаблюки» генерала. Замысловатую гарду вместе со Сквочковским соорудили из прутьев арматуры, после чего рессору разместили в простертой деснице изваяния. Рукоять сабли настолько точно легла в ладонь колосса, а эфес так пришелся по бронзовой руке, что в голове Раздайбедина пестрой лентой промелькнули фатум, мистика, предначертание и ряд других не менее оккультных слов.
Немного смущали гражданские штаны и не форменные ботинки колосса. Эту ситуацию частично исправили, изготовив из остатков брежневских звезд две гусарские шпоры, которые приварили к пяткам будущего генерала. Критически оглядев фигуру, Василий хотел, было, для завершения композиции добавить памятнику фиговый лист на причинное место, но, представив недовольное лицо Голомедова, с сожалением отказался от этой затеи.
По окончании работ возникла небольшая неловкость. Скульптор уставившись на носок бронзового ботинка, напряженно нахмурился и пробормотал:
– Я думаю, вас можно… Можно будет упомянуть, как соавтора, в некотором роде… Ну, положим, не на самом постаменте, но в прессе…
– Что вы! – скромно потупился Василий. – Если вам и следует кого-то приглашать в соавторы, так только лишь самого Творца! Мне же в качестве награды хватит и воспоминаний о том, как я соприкоснулся с Вечностью…
Сквочковский вновь повеселел. Василий похлопал его по плечу:
– Что ж, Андриан Эрастович! Наряжайте ваше дитя – повезем его к месту несения дальнейшей службы. Завтра годовщина Бородинской битвы. На носу торжественное открытие!
– Так скоро? – устало удивился Скульптор. – И где будет стоять памятник?
– Выбора нам не оставили. – немного замялся Раздайбедин. – Губернатор с Болдыревым кислород перекрыли напрочь. Будем ставить в Беспутной Слободе! К тому же, там и пьедестал есть готовый – монумент шел в комплекте с постаментом! И если Кирилл провел предыдущие сутки так же плодотворно, как и мы, то к месту установки памятника уже ведут тротуары из разноцветной плитки, вдоль них мерцают фонари с коваными завитушками, а уютные скамейки приглашают усталого путника отдохнуть и вспомнить о славных страницах истории под раскидистой тенью вековых дубов. Если, конечно, путнику повезло, и вековые дубы Кирилл уже успел вкопать!
Глава 27. Не Бородинская, но битва
Нюрка проснулась еще затемно – когда бабка, тяжело покряхтывая, заворочалась в кровати. Старуха опустила ноги на пол, поднялась и, стараясь ступать осторожно, вышла за ситцевую занавеску, отделявшую комнату от кухни. Поскрипела в темноте половицами, что-то бормоча себе под нос, и хлопнула дверью – ушла коз доить.
Нюрка тоже, было, высунула ногу из-под одеяла, но тут же юркнула обратно. Печь еще не топили, и по утрам в избе бывало прохладно. Нюрка накрылась с головой и крепко зажмурилась, стараясь вернуть сон. Но ничего не получилось. Это если только тебе категорически нельзя спать, чтобы не пропустить что-нибудь интересное, сон навалится тут же и ни за что не выпустит из своих объятий.
Но сейчас, когда времени имелось так много, что девать было его абсолютно некуда, сон предательски сбежал. Нюрка открыла глаза и увидела трещинки в штукатурке на стене – значит, начало светать. Трещинки складывались в изображение веселой лошади, скачущей галопом.
– Здравствуй, лошадь! – прошептала Нюрка и улыбнулась давней знакомой. Она знала, что бабка каждый год подмазывает стену глиной и белит известкой. Но через некоторое время лошадь снова проступает на стене и весело скачет одной ей ведомо куда.
Нюрка подумала о том, что после 1 сентября свободного времени стало еще больше, потому что играть на улице теперь не с кем. Кто-то из ребят отправился в школу, а кто-то и вовсе перебрался в город. Еще она подумала, что пройдет сначала осень, потом зима, весна и следующее лето, и ей тоже придет пора отправляться в школу. Если загибать пальцы на каждое из времен года, получалось быстро – всего четыре. Но попробуй-ка дождись!
Нюрка поднялась, застелила кровать и, покряхтывая от натуги, соорудила на ней горку из безразмерных пуховых подушек. Верхнюю установила стоймя на манер генеральской треуголки. В полутьме верхний угол подушки напоминал заснеженную вершину. На эту гору Нюрка набросила кружевную белую накидку. Отошла на шаг и полюбовалась. Красиво! Не хуже, чем у бабушки получилось.
Она оделась и заплела косу, привычно перекинув белобрысый хвостик через плечо. Вернулась со двора бабка, и они долго с удовольствием пили молоко с белой «магазинской» булкой и домашним вареньем из смородины.
Нюрке хотелось о чем-нибудь поболтать. Например, обсудить то, что их рыжая курица с черным пером на хвосте откликается на имя Катька и умеет прибегать на зов. Правда, если не крошить с крыльца булку, а просто звать, то пока еще не прибегает… Но бабка в то утро была неразговорчива. Впрочем, как и всегда.
После завтрака Нюрка обошла свои владения. Ничего интересного ни во дворе, ни в огороде ей не попалось. Тогда она вышла за ограду и заняла свой привычный наблюдательный пост в тени плетня. Отсюда хорошо было видно всех, кто приближался к Слободе со стороны города, шел по улице, выходил из клуба. Словом, отличное место. Если б в Слободе вдруг произошло хоть что-нибудь интересное, Нюрка ни за что бы этого не пропустила.
Но ничего интересного не случалось. Все жители Слободы, пригодные хоть какому-то делу, утренними автобусами уехали в город. Кто на службу, кто торговать помидорами и картошкой, как Нюркина бабка. Дома остались только немощные старики, совсем уж пропащие пьяницы, да мелкота, вроде Нюрки. Какие уж тут события? Возле клуба лениво протрусила собака. Где-то далеко – в самом городе – гудели машины. А, может быть, это пчелы угрюмого соседа дяди Степана трудолюбиво собирали пыльцу с последних осенних цветов?