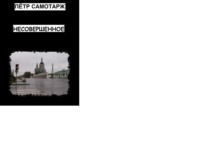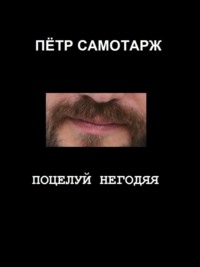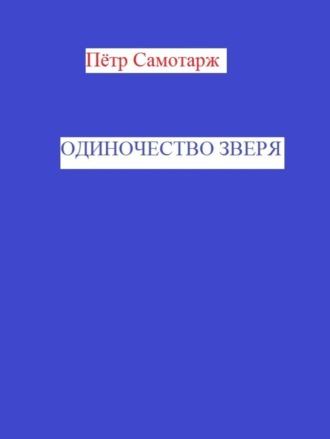 полная версия
полная версияОдиночество зверя
– Нужно смотреть глубже, – не согласился Саранцев. – Справедливость вообще не воспринимается как понятие из официального языка. Государство отвечает за юстицию, за справедливость – Бог или люди, в зависимости от убеждений.
– Ты даже о Боге говоришь? – удивилась негодяйка Аня. – Не припоминаю за тобой такого в телевизоре.
– Возможно, в официальных выступлениях я его и не упоминал. Мне не советовали вторгаться без необходимости в трудную тему.
– Но на патриарших праздничных службах я тебя видела, хоть ты и молчал.
– Раньше видела, а потом перестала, так ведь?
– Кажется.
– Ну вот. Неверующие раздражались моим присутствием на службе, верующие – превращением священнодейства в пиар-акцию. К тому же, без крайней необходимости выпячивать отличие моих религиозных убеждений от мусульманских и буддистских тоже показалось нецелесообразным.
– Но ты ходишь в церковь без телекамер?
– Нет, – после тяжёлой паузы ответил Саранцев. – А ты?
– Меня-то телекамеры в храме на прицеле никогда не держали.
– И всё же – ты ходишь в церковь?
– Хожу. И далеко не только по праздникам.
За столом настала тишина – все смотрели на Корсунскую, а она тем временем невозмутимо подхватывала вилкой кусочки овощей из своего салата и не обращала не остальных ни малейшего внимания.
– Причащаешься и исповедуешься? – осторожно поинтересовался Саранцев.
– Да, а ты против?
Тишина возобновилась и почему-то заставила смутиться всех безбожников.
– Ничего, но выглядит странно.
– Почему? У нас в стране свобода вероисповедания. Терпеть не могу конструкции «свобода совести» – кто-то когда-то коряво перевёл conscience, а мы теперь почему-то обязаны с этим жить. Согласитесь, по-русски выражение «свободная совесть» звучит жутковато.
– Конечно, – спешно подтвердила Елена Николаевна. – В первую очередь ассоциируется с внутренним миром преступника. Очередной пример трудностей перевода.
– Очередной пример необходимости создания нового государственного языка, основанного на собственной морфологии и понятного каждому грамотному человеку, – уточнила своенравная ученица.
– С каждым словом ты кажешься мне всё более странным юристом, – вставил своё правдивое слово Саранцев. Он страшно хотел развить религиозную тему, но боялся ступить на путь в неизвестное.
– Я хороший юрист.
– Не сомневаюсь. Но мне кажется, ты – единственный юрист, подходящий к исповеди. По крайней мере, до тебя мне такие не встречались.
– Откуда ты знаешь? Ты с ними сидел за столом и болтал по душам?
– За обеденным столом не сидел – больше за своим, в кабинете, но беседовать доводилось.
– И ты решил, что верующий должен через слово поминать имя Божье? Этот как раз грех.
– Нет, но суждения верующего, как я думаю, не должны звучать враждебно по отношению к другим людям.
– Зависит от людей, но верующие сейчас в большинстве своём не являют достойных образцов исповедания веры. Много нетерпимости, суеверия, суетности, стремления к внешней обрядности. Родители крестят грудных младенцев, чтобы те не болели, и даже не имеют ни малейшего понятия о том, что крещение – не магический обряд, не колдовство и не заговор, само по себе оно не спасает и тем более не лечит от телесных болезней. Принимающий святое крещение просто даёт Господу обещание стремиться в дальнейшем к христианскому образу жизни, и, если он своё обещание не сдержит, то лучше бы ему не креститься, он себе только хуже сделал. Если же родители крестят маленького ребёнка, то, разумеется, не младенец, а они принимают на себя обязательство воспитать из него искреннего христианина. И если в сознательном возрасте их отпрыск не придёт в церковь, то грех ляжет и на них.
– Анечка, честно говоря, для меня твоё крещение – тоже новость. У меня до сих пор даже мысли не возникало, – высказалась Елена Николаевна. – Ты и платок не носишь.
– Не ношу. Впрочем, брюки и короткие юбки тоже, как вы могли заметить. В наше время женщина летом в платке многими воспринимается именно как верующая, и ношение его можно воспринять как демонстрацию. Я, собственно, нисколько не стесняюсь, но и выпячивать свои убеждения не намерена – суть ведь не в платке, а в образе жизни. Я и на каждую встречную церковь крестным знамением себя не осеняю, и перед едой в ресторане не молюсь, и офис у меня иконами не увешан.
– А дома перед едой молишься?
– Молюсь.
– Живёшь теперь без греха? И не скучно? – поинтересовался Конопляник.
– Не скучно. И я не живу без греха. Даже монахини грешат, такова человеческая природа. Только я хочу уточнить важную подробность. При слове «грех» в голову нерелигиозного человека первыми приходят прелюбодеяние, воровство или убийство, но понятие греха на самом деле шире. Если меня толкнул какой-то невежа, а я на него рассердилась, хотя и не выказала своих эмоций внешне, я согрешила. Самое главное и самое трудное – как раз замечать за собой подобные проступки, понимать их нехристианскую сущность и искренне раскаиваться. Не перед священником на исповеди, а перед самим собой, когда никто из людей тебя не видит и не понимает твоих переживаний.
– Я, конечно, человек сугубо советский, – пошла в атаку Елена Николаевна, – но, думаю, причина моего неприятия церкви всё же в другом. Очень часто заявления церковнослужителей разного ранга по телевизору меня удивляют и даже раздражают. Я ведь не одержима бесами и вовсе не сгораю от желания смертного греха, чем же объяснить мою реакцию?
– Видимо, отличием вашего мировосприятия от убеждений священнослужителей. Они ведь и не обязаны совпадать. Более того, я сама иногда внутренне не соглашаюсь с публичными заявлениями даже иерархов. Православное учение не требует бессловесной покорности пастырям – вопросы можно задавать, постулат непогрешимости не признаётся ни за кем, в том числе за патриархом. А вы можете привести примеры?
– Легко. Меня всегда удивляла практика пожертвования на строительство церквей, например. Как её понимать – если старый греховодник на старости лет построит на свои ворованные деньги храм, перед ним открываются ворота рая?
– Нет, конечно. Бог взяток не берёт. Для прощения грехов человек должен их увидеть, осознать и искренне раскаяться. Не заявить о своём раскаянии вслух, а испытать его в действительности.
– И как же священник поймёт, кается грешник искренне или нет?
– Никак. Прощает не священник, а Господь. Один построит десять церквей, но всё равно не спасётся, другой не пожертвует церкви ни копейки, но войдёт в рай, если не спал ночами, страдал, наказывал себя и стремился загладить свои вины перед обиженными им людьми.
– Тогда ещё вопрос: много раз приходилось слышать, в том числе от священнослужителей, истории о родителях, которых Бог наказал через их детей. Каждый раз меня оторопь берёт: дети-то причём? Даже Сталин говорил, пускай для проформы: дети за отцов не отвечают. Выходит, православные видят проблему иначе?
– Я тоже слышала такое, и не согласна с такой позицией. Особенно чудовищны рассказы, например, о дочери, ставшей проституткой, потому что её родители согрешили, и Господь их таким образом покарал. Разумеется, каждый человек свободен, он не марионетка и не орудие наказания. Тем более, Бог никого не ввергает своей волей в грех – как только в голову такое может придти.
– Хорошо, а откуда у православных такое неприятие деятельного добра?
– Что вы имеете в виду?
– Католические святые делали реальные добрые дела для самых простых людей – спасали их от голода, холода и болезней, а православные – в основном подвергали себя аскезе и молились.
– Запрета на добрые дела в православии нет, если вы об этом.
– Хорошо, запрета нет, так в чём же дело?
– Одних только добрых дел недостаточно, если за ними стоит, например, гордыня.
– Какая гордыня, что ты имеешь в виду?
– Если спасаешь человека от голода или болезни и потому сам себя считаешь святым, то тем самым впадаешь в грех. Оптинские и афонские старцы, канонизированные после смерти, при жизни сокрушались по поводу своей греховности и даже отказывались принимать духовных чад, поскольку не считали себя чем-нибудь лучше их.
– Считать себя безгрешным – греховно?
– Конечно. Я ведь уже говорила – если кто-то не воровал, не грабил, не убивал, он ещё не святой. Принять такую истину трудно, но необходимо.
– Необходимо для чего?
– Для примирения с самим собой. Есть даже притча о двух сёстрах-близнецах. Их разлучили в детстве, одна попала в монастырь, другая – в публичный дом. Но в раю оказалась проститутка, а не монахиня, поскольку осознала свои грехи и стыдилась их.
– Очень удобная позиция для церкви: если все грешны, всем нужно покаяние.
– Церковь не является беспременным условием спасения, она только предлагает помощь страждущим.
– Можно спастись без церкви?
– Можно.
– Такого уж точно никакой священнослужитель не скажет!
– Наверное, не скажет.
– А ты почему говоришь? Если не от священников, от кого ты набралась такой ереси?
– Это не ересь. Читаю разные книжки, ничего удивительного. Сами понимаете, за столько лет комментариев к Писанию накопилось много, мне ещё долго читать.
– И кого же ты читаешь? Противников священноначалия?
– Святых отцов, профессоров богословия, мало ли кого.
– И все они пишут нечто отличное от того, что говорят священники?
– Разное пишут. Например, нет канонического правила о непременном крещении младенцев, у нас просто обычай такой сложился. И неправильно утверждение, будто некрещёные дети в случае смерти не будут спасены – все дети невинны. Церковь не отказывается крестить несмышлёнышей, но не заставляет родителей поступать таким образом, даже если где-нибудь какой-нибудь священник считает иначе. И ветхозаветные праведники, умершие задолго до вознесения Христа, тоже в раю.
– Хорошо, я рада за ветхозаветных праведников, – отмахнулась Елена Николаевна. – А вот я, например, могу надеяться на рай?
– Надеяться могут все.
– Ладно, ты меня поняла. Есть у меня шансы, так сказать?
– Шансы тоже у всех есть – ими только нужно правильно распорядиться.
– Анечка, не юли. Могу я рассчитывать на откровенный ответ?
– Елена Николаевна, вы задаёте невозможный вопрос. Никто не может забронировать рай заранее. Вы думаете, я сама знаю, спасена я или нет? Не знаю.
– Ну кто же, в конце концов, туда попадает?
– Неизвестно. Оттуда ведь никто не возвращался и результаты переписи обитателей горних высей на землю не приносил.
– Как же тогда жить?
– Уж точно не стоит руководствоваться в своих делах расчётами на вознаграждение за них после смерти. Таким путём можно придти только в совсем другое место. Поменьше думать о себе, побольше – об окружающих. И опять же – не из страха будущего наказания, а ради любви. Меня всегда раздражала «Рождественская песнь» Диккенса – какая-то языческая свистопляска. Повесть о Рождестве, где нет Христа. Какие-то духи Рождества – видения белой горячки. И самое главное – Скрудж меняется из страха перед наказанием, и свои добрые дела, получается, совершает тоже из страха. Решил, что заключил сделку с Богом из серии «ты – мне, я – тебе». Вот я сейчас срочно начну делать добрые дела, а ты уж меня после смерти не забудь, пристрой получше. От Рождества осталось одно название, без смысла. Так же, как Санта Клаус – кажется, никто уже и не помнит о святом Николае Угоднике, остался только бородач в красном колпаке из рекламы «Кока-Колы».
– Нет, Анечка, почему же – Скрудж узнаёт о страданиях больного малютки Тима, о существовании которого, видимо, прежде вообще не знал, и в нём пробуждается совесть.
– Думаю, он и прежде видел страдающих людей, взрослых и детей, и даже сам заставлял их страдать, но совесть его благополучно спала. Здесь есть ещё одна ловушка – Тим выздоравливает, Скрудж мирится с племянником и в несколько дней перерождается, после чего начинается всеобщее счастье. Любой человек с мало-мальским жизненным опытом расскажет вам не одну историю о хороших людях, которых преследовали несчастья. Сама по себе идея прижизненного вознаграждения за богобоязненность порочна и провоцирует подобного рода контраргументы. Люди воспринимают тяготы в своей жизни как наказание, а их отсутствие – как свидетельство божественного расположения. И то, и другое – страшное заблуждение. Вся наша земная жизнь – испытание. Господь никого не наказывает, он всех любит, а делает больно, чтобы помочь человеку исцелить свою душу. Воинствующие атеисты любят задавать вопрос: может ли Бог создать камень, который не сможет поднять. Я им отвечаю: Бог не может даже спасти человека без самого человека – каждый сам делает жизненный выбор.
– Значит, несчастья, хоть и не наказание, но всё же свидетельство греховности?
– Елена Николаевна, мы ведь уже договорились – все не без греха. Если человек на гребне успехов и довольства забывает о христианском долге, за гробом его ждёт жестокое разочарование. Успех – ещё одно испытание, а не сертификат на спасение души.
– Но ты ведь не можешь знать всего этого наверное?
– Конечно, нет. Я могу только верить. И каждый волен выбирать себе веру.
– Послушай, но откуда в тебе всё это взялось? Ты ведь училась в советское время, в школе физику и химию изучала, а в институте – научный атеизм. Неужели в один момент просто щёлкнуло в голове – и готово?
– Нет. Положим, физика и химия к вере вообще никакого отношения не имеют. Креационизм я обсуждать не намерена, он меня мало интересует. Научный атеизм прошла и прошла – он моё мировоззрение никак не изменил. Потом стала просто жить, крестилась вместе со всеми в конце восьмидесятых и потом ещё лет десять в церковь не заходила.
– Так, Анечка, если не хочешь рассказывать – мы тебя не заставляем. Правда, ребята?
Конопляник и Саранцев механически кивнули, но Игорь Петрович мысленно взметнулся: нет, пусть рассказывает. Он смотрел на свою бывшую симпатию с некоторым страхом, словно её у него на глазах похитили инопланетяне, и теперь она вернулась от них с грузом знаний и неведомым опытом. Симпатичная девчонка из его памяти вдруг проступила в его жизни потусторонней женщиной. Он смотрел на неё, но не видел. Мысли заметались в голове, обрывали друг друга, перепутывались и создавали новую картину мира, похожую на полотно безвестного абстракциониста.
– Я вот тебя совсем не толкал, а ты на меня разозлилась, – уязвил христианку Саранцев. – И где же твои убеждения?
– Я себя святой не называла, – сухо ответствовала та. – Извини, если тебя задело.
Игорь Петрович отчётливо, как на горячем листке компьютерной распечатки, прочитал в глазах собеседницы все её страсти: негодование из-за него и из-за себя, разочарование от неспособности усмирить тягу к осуждению и безбрежное желание закончить разговор. Ему захотелось встать и уйти, лишь бы не смотреть далее в опостылевшее незнакомое лицо.
– Я всё отлично понимаю, – продолжила Корсунская. – Явилась из многолетнего небытия и сразу бросилась обличать, хотя сама с собой не разобралась и вряд ли когда-нибудь разберусь. Смешна, нелепа, претенциозна, невыносима и так далее.
– Ладно тебе! Преступлений ты не совершала, я надеюсь? – протянул руку друга Игорь Петрович в ожидании ответного жеста.
– Представления о преступности разнятся в разных культурах и в глазах разных людей.
– Я имею в виду преступления в глазах закона.
– Подлогом документов не занималась, но, возможно, в интересах доверителя кое-что замалчивала, кое-что преувеличивала или приуменьшала, но и не лжесвидетельствовала.
– Ладно, я от тебя отчёт в проделанных грехах не требовал.
– А ты никогда не пробовал сам для себя такой отчёт составить?
– Слишком много времени пришлось бы потратить, а мне всю жизнь некогда – всегда спешу и не оглядываюсь.
– Очень рекомендую – отрезвляет и заставляет думать о будущем. Хорошо, оставляю тебя наедине с самим собой. Вы, наверное, воображаете сейчас моё пробуждение к вере через страшный грех, но всё случилось немного иначе.
Рассказ Кораблёвой-Корсунской оказался странным, как и всё её поведение. После школы и юридического факультета она осталась в Москве со своим молодым мужем. Обаянию своего избранника она поддалась ещё на пятом курсе, последовательно отвергнув нескольких его предшественников. Он был старше, уже работал юрисконсультом в каком-то кооперативе и представлял свою будущую жизнь в мельчайших подробностях. Жена являлась существенной деталью мозаики, поскольку её отсутствие вызывало вопросы приятелей и недоверие клиентов. Неженатый мужчина с определённого возраста и вовсе становится подозрительным типом, и Корсунский, хотя столь критичного возраста ещё не достиг, не собирался тратить время попусту. Аня проходила у него практику, он её заметил, выделил и решил не упускать возможность.
Тогдашняя Кораблёва при появлении в её жизни молодого и внимательного к ней юриста сначала оторопела, потом стала к нему приглядываться. Ухажёр действовал шаблонно – приглашал её в рестораны, театры, в гости к приятелям, катал по Москве на своём «мерсе» и осыпал подарками. Она понимала его желание непременно жениться и удивлялась его выбору: чем она хуже других? Аню занимал иной вопрос: стоит ли остаться с ним? Она понятия не имела, за кого следует выходить замуж. Мама осталась далеко, в Новосибирске, мнения подруг разделились, и студентка покорно следовала за Корсунским, оставаясь в нерешительности и не желая от него отказываться.
В её жизни прежде случались увлечения, но большое и чистое чувство она к тому времени сочла атрибутом романов девятнадцатого века. Она вроде бы и видела его вокруг себя: знакомые девчонки порой начинали светиться и мечтать, но потом сочетались законным браком, принимались вести хозяйство и стирать грязные пелёнки. Они восхищались своими карапузами и обсуждали общие проблемы мамаш конца восьмидесятых с их бесконечными очередями и карточками на продукты, Аня их слушала и терзалась сомнениями. Она хотела ребёнка, но в своём доме с садиком, а не в съёмной квартире или под крылом у мужниных родителей с туманными перспективами на получение собственного жилья. В те времена женихов, способных предложить такого рода условия было ещё меньше, чем сейчас, и упускать прекрасного кандидата Аня категорически не хотела. Он ведь не только с домом и машиной, он также не толстый и не лысый! Она рассуждала здраво и солидно, совсем как взрослая, проявляла заботу о будущем ребёнке, а не только о собственном благополучии, и в конце концов сочла выбор верным.
Они поженились осенью, когда Аня стала уже заправским адвокатом с дипломом, и слепые дожди время от времени кропили с небес Москву, утопавшую в золотой осени. По желанию невесты фотограф сделал серию снимков молодожёнов в увядающем парке, при этом долго выстраивал мизансцены, предлагал положить одну руку туда, другую – сюда, голову наклонить чуть вперёд и влево, или ещё как-нибудь, чем довёл жениха до белого каления, но он упорно терпел – невеста устраивала его во всех отношениях. Медовый месяц провели в Болонье – гуляли по узким улочкам с бесконечными портиками над тротуарами и непрерывно болтали. Поселились в центре, в средневековой башне, одни на несколько десятков метров её высоты. С макушки обозревали город, покрытый сплошной корой черепичных крыш, и спускались вниз по узким винтовым лестницам, минуя по пути к спальне ярусы бывшей тюрьмы и порохового склада.
Аня действительно была счастлива тогда. Она не хотела ничего иного – разве бывает лучше? Жизнь текла в единственно желанном направлении, отклонения не предвиделись и не ожидались, карьера развивалась успешно, но через год обнаружилась первая беременность. Она никому ничего не сказала, сосредоточилась на себе, несколько дней ни с кем не разговаривала и вынудила мужа задавать наводящие вопросы. При мысли о морщинистом крикливом комочке жизни на душе становилось тепло, но потом на память приходили грандиозные планы будущего, которым пополнение семейства ничем не помогало и даже наоборот, препятствовало их осуществлению. Если она сейчас выпадет из процесса, самостоятельные дела и собственное имя в адвокатской среде отойдут в неясное будущее, а она их тоже хотела. Ей нравилась работа – не защищать преступников от возмездия, а состязаться с государством. Приходили живые люди со своими судьбами, чаще несчастливыми, она смотрела им в лица, выслушивала их жалобы, а они ждали от неё помощи. Не агнцы небесные, самые настоящие воры и хулиганы – она навещала их в СИЗО, передавала посылки от родных и снова слушала жалобы на милиционеров, следователей и прокуроров, которые незаконно шили им дела. Аня задавала вопросы и понимала из ответов, что её подзащитный опять виновен – да они и редко отрицали её подозрения, просто тщательно вели учёт допущенных следствием нарушений и требовали справедливости – мол, раз нас привлекают к ответственности за нарушение закона, почему же другие нарушают его без всяких для себя последствий?
Родители со своей высоконаучной колокольни её не понимали и уговаривали по телефону заняться более приличным делом, но Аня раз за разом терпеливо объясняла им открытую ей простую истину: никто не имеет право на всё. Если вдруг попадётся насильник или маньяк, съевший двадцать человек, я буду и его защищать, как запутавшегося в постпубертатных проблемах и натворившего дел мальчишку. Я не хочу избавить его от наказания, я стремлюсь обеспечить торжество закона. Иначе общество превратится в стадо, где сильные будут карать слабых за их бессилие. Другого пути нет. Либо один закон для всех, либо беззаконие – без всякого промежутка. Её в ответ спрашивали: ты хочешь мир перевернуть? А она не понимала: я хочу поставить его на ноги. Ты одна? Нет, нас много. Ничего подобного, нас больше. Она могла обойтись без собственных денег, но очень не хотела остаться без главного занятия своего жизни.
Тем не менее, она поведала мужу о беременности, он немедленно прекратил все её порывы к работе, перевёз к ним домой свою мать, и они зажили в ожидании все втроём. Свекровь говорила мало, готовила завтраки, обеды и ужины, исподволь выясняла очередной каприз беременной и неторопливо его исполняла, но часто делала замечания или давала советы опытной женщины – скорее, хотела дождаться здорового внука, чем переживала за невестку.
Сын родился крепенький и голосистый, Аня никак не могла на него наглядеться, зато муж ей изменил. Стал смотреть мимо и говорить невпопад, погружался в свои далёкие от неё и семьи мысли. Она стала высчитывать время его отсутствия дома и предполагать худшее, он под воздействием её усилий ещё более отдалялся и время от времени даже не приходил ночевать под благовидными предлогами. Сын подрос, начал ходить, а потом и задавать вопросы, Аня снова работала и смотрела в шальные глаза уголовников, пока те с упоением рассказывали ей о своих преступлениях, а по вечерам – в глаза своего Корсунского. Он тоже говорил, но ему она не верила. Для уголовников она была почти свой человек, для мужа – чужой, и он от неё таился. В ответ на прямые вопросы возмущался и устраивал скандалы, а она не хотела пугать сына и злилась ещё сильнее, уже не за предполагаемые его похождения, а за реальную бесцеремонность.
Жизнь превратилась в пытку. Ненавистный мужчина с запахом чужих женских духов упрямо оставался рядом, и Аня не умела от него избавиться. Она хотела на свободу, и могла её купить – зарабатывала достаточно и от мужа не зависела, но свобода не хотела её. Временами она представляла себя в пустой квартире и пугалась, но вообразить рядом с собой другого мужчину всё же не могла. То ли боялась повторения пройденного, то ли не верила в свою привлекательность как матери-одиночки, но со временем всё более и более ощущала себя внутри мышеловки. Нелепый сын бежал от неё к пришедшему с работы отцу и верещал в его руках, суча ножками и заливаясь смехом. Казалось, он тоже её предаёт, ещё не успев вырасти и узнать простые истины.
Аня не хотела следить за Корсунским, никогда не звонила ему в офис с целью выяснить у секретарши его распорядок дня, планы на будущее или вчерашнюю программу. Вовлекать посторонних людей в свои переживания она не планировала, и от свекрови тоже таилась, а та и не навязывалась. Бессилие, ревность и неспособность отомстить наполнили жизнь преданной жены холодной ненавистью, и в ходе очередного скандала она взялась оскорблять мужа словарём своих доверителей, а тот тоже двинулся по их стопам и ударил её. Она оторопела, потом рассвирепела, забыла себя, схватила оказавшуюся под рукой вазу и разбила её о голову неверного. Тот попал в больницу и через некоторое время вернулся домой с множеством швов на обритой и перевязанной голове, на жену не смотрел и всё время молчал.
Аня первые часы злобно торжествовала, потом из глубины души поднялось новое чувство. Оно мешало спать ощущением страшной неправоты и заставляло неукротимую супругу думать. В памяти неизменно всплывало зрелище первой минуты после побоища: Корсунский сидит на полу и закрывает рукой лоб, между пальцами льются чёрные струйки крови, а на полу отдельные капли постепенно собираются в лужицу. Он оставался тем же мерзавцем, но Ане стало его жалко, и она сокрушилась своей несдержанностью – ведь он не ударил её так же сильно. Она стала вспоминать многое виденное, читанное и слышанное в своей жизни, и рассказы своих тюремных подопечных тоже. Они и за решёткой сохраняли уверенность в собственной правоте. По их мнению, тот, кого они били, сам виноват в своих неприятностях. Корсунский определённо заслужил свои швы, но почему тогда воспоминание о чёрных струйках саднило и лишало покоя? Вспомнилась жена писателя – она пошла доброволкой за ним во фронтовой госпиталь, с фронта вместе с ним на место земского врача, где он подсел на морфий и гонялся за ней с топором, если ей не удавалось вовремя достать дозу, но она его спасла и от морфия, и от тифа, кормила его, одевала и отапливала квартиру в непритязательные двадцатые, пока он писал свой первый роман, а потом он этот роман опубликовал, развёлся с ней и подарил экземпляр с посвящением не ей, а новой жене. Писатель просто заслуживал смерти, но его все любят, а некоторые – боготворят, и о ней читатели и ценители вспоминают лишь с благосклонным примечанием: она помогла писателю в тяжёлое время. Она-то ему помогла, но почему непременно следовало её покарать за жертвы и милостиво разрешить ей постоять где-то рядом в памяти благодарного человечества?