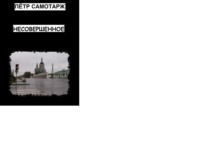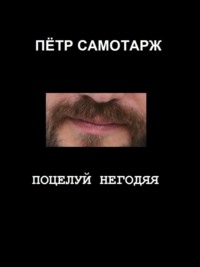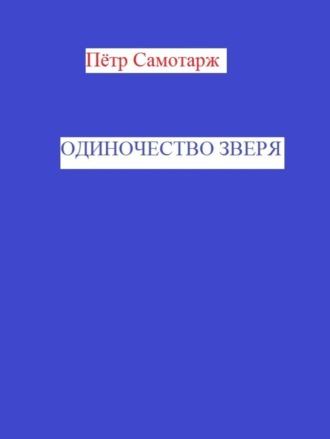 полная версия
полная версияОдиночество зверя
– Нет, не по корпоративному. Что же твоё ФСБ такие простые вещи установить не может?
– Не льсти себе, я и не думал выяснять у ФСБ твой род занятий во всех подробностях. Могу тебя с твоими взглядами вообразить на фоне какого-нибудь роскошного развода, с улетающими в окно тарелками и спрятанными от суда машинами и домами на Лазурном берегу – ты бы за неделю без клиентов осталась. Судя по твоей хватке, думаю, ты всё же по уголовной части идёшь.
Саранцев хотел сквитаться с Корсунской за её неоправданные нападки и впервые за весь день ощутил душевный подъём. Сейчас он отыграется и за дочь, и за полдня, потраченные на угадывание дальнейших шагов Покровского и его людей. Вот уже многие часы подряд он только гадает, предугадывает, предполагает, планирует, но ничего не может сделать или хотя бы сказать тем самым людям, с которыми борется. Теперь внезапно возникла возможность поднять голову.
– Я теперь редко веду дела сама, – холодно заметила Аня. – Но специализируюсь по уголовным делам, чутьё тебя не обмануло. Или всё же ФСБ?
– Чутьё, чутьё – можешь не сомневаться.
– Вас опять в сторону повело, ребята, – напомнила о себе Елена Николаевна. – Давайте вернёмся к литературе. Мальчики стесняются – Анечка, не подашь им пример?
– Вы имеете в виду литературу вообще или только школьную программу? – с неприятным налётом иронии в голосе уточнила Корсунская.
– Зачем же себя ограничивать? Нет уж, выпустим на свободу всех птиц.
Аня задумалась, глядя прямо перед собой и словно забыв обо всех присутствующих. Кажется, она и в самом деле хотела выдумать ответ на невозможный вопрос. Каким образом литература может повлиять на жизнь человека? По крайней мере, человека, не занятого ей профессионально? Человек живёт по законам, которые узнаёт в жизни, а не в книжках.
– Если говорить о любимых книгах, то я могу назвать несколько, – сказала Корсунская с лицом Клеопатры.
– Пока не надо названий, – возразила учительница. – Сначала о влиянии. Они изменили твою жизнь?
– Кажется, они на неё повлияли.
– Каким образом?
– Я стала циничной.
– Что? Аня, ты меня убиваешь! Что у тебя за любимые книги такие?
– «Мельница на Флоссе» Джордж Элиот, а из наших – «Капитанская дочка» Пушкина и «Епифанские шлюзы» Платонова.
– И ты умудрилась научиться у них цинизму?
– Не совсем научиться. Скорее – оправдать. Швабрин ведь тоже любит Машу, и он по-своему спас её от пугачёвцев. Принуждал её к браку, но не изнасиловал и даже не назвал её имени следователям. И всё же – отрицательный персонаж. Или не отрицательный, а просто живой? Может, он изменил присяге только ради возможности остаться рядом с Машей? Между прочим, как и Петруша Гринёв – ведь его самоволка из Оренбургской крепости тоже была самой настоящей изменой, он оставил свою часть в военное время.
– Секрет прелести высокой литературы – возможность бесконечного разнообразия трактовок.
– Не просто в разнообразии трактовок, а в отсутствии чётких критериев качества и невозможности предугадать воздействие на потомков, – Корсунская заговорила бюрократическим языком законника, словно оказалась в привычной стихии.
– Кажется, я понимаю смысл «Мельницы» в твоих глазах – Мэгги совершает аморальный поступок, но по прежнему вызывает симпатию.
– Аморальный поступок, но не преступление.
– Ладно, но к «Епифанским шлюзам» я уж никак не могу твой подход приложить, – всплеснула руками Елена Николаевна.
– Бертран приносит себя в жертву своей невесте, а она выходит замуж за другого, не совершавшего никаких подвигов.
– Ну конечно, всё очень просто. Хорошо, ты стала циничной. И твоя жизнь изменилась?
– Конечно. Нельзя работать адвокатом по уголовным делам и не воспитать в себе цинизм. Нужно разглядеть в подзащитном убийце хоть проблеск человека, иначе очень быстро рехнёшься или станешь пособником.
– Зачем вообще работать адвокатом убийц? – ехидно вставил Саранцев. – Платят хорошо?
– Во имя правосудия, Игорь Петрович. Слышали такое слово? Вы ведь у нас гарант Конституции.
– Ребята, хватит вам цапаться, сколько можно, – поспешила вмешаться Елена Николаевна. – Анечка, я всё же не понимаю – ты прочла эти книги и решила стать адвокатом по уголовным делам?
– Нет, скорее, наоборот. Стала адвокатом, потом задумалась – почему, и свалила всю вину на эти книги.
– А «Преступление и наказание» и «Воскресение» на тебя не повлияли?
– Трудно сказать, но, кажется, нет. У Достоевского и Раскольников, и Соня Мармеладова ненастоящие, а у Толстого Нехлюдов и Катюша стоят слишком далеко от юриспруденции. Эти вещи скорее подвинут уйти в монастырь, подальше от рода человеческого.
– Ты очень лихо расправилась с классиками.
– Ничего не могу с собой поделать. Я на работе постоянно говорю то, что положено, поэтому в свободное время на меня просто удержу нет. Начинаю выбалтывать подряд все свои мысли.
– Но ты ведь любишь свою работу?
– Я считаю её нужной.
– Нужной? Ты хочешь по утрам идти на работу или нет?
– Хочу. Я вообще не понимаю, как можно ненавидеть своё занятие. Меня бы никакие деньги не заставили идти в суд, если бы не было желания.
– Но почему именно эти три книги, как ты считаешь, способствовали твоему выбору профессии? Ведь можно долго перечислять все произведения мировой литературы о грешниках, вызывающих сочувствие. В конце концов, Гамлет тоже убивал людей.
– Почему – объяснить не смогу. Мне так показалось. К душе ведь шкалу или весы не приставишь. Читала, читала – и вычитала в итоге туманное ощущение. С вашей литературой, Елена Николаевна, всегда так.
– Думаю, ты права. Великие книги на вопросы не отвечают, а помогают искать ответы.
– Книги, Елена Николаевна, сбивают людей с толку, – добавил давно выстраданную мысль Саранцев, – и мешают им находиться в мире с самим собой. Читал я во времена перестройки вещь одного древнего русского полуфашиста. Он развивал в ней точку зрения на русскую литературу как на причину нескольких внешних агрессий – мол, немцы поверили Толстому, будто Каратаев действительно является обобщённым образом русского народа, и сочли победу над таким народом вполне достижимым делом.
– Мы говорили о великих книгах, Игорь, а не о полуфашистах.
– Попробуй, разберись, где великая книга, а где – нет. Ведь на наших с вами глазах с конца восьмидесятых копья ломаются. Сначала великие советские книги объявили конъюнктурными поделками, а бывший самиздат и нелегальный тамиздат – шедеврами, теперь старые советские романы опять на щит поднимают. А человек без высшего образования стоит посередине и думает: кто же прав?
– Основную часть советской школьной программы составляли великие тексты, – безапелляционно заявила Елена Николаевна. – Даже если взять «Прозаседавшихся», всё равно – Маяковский талантлив. Другое дело, что школьникам лучше бы знать другие его стихи, которые способны их разбередить. А их у Владимира Владимировича много – вся его ранняя поэзия – крик одинокого подростка на безлюдной тёмной площади.
– А с «Поднятой целиной» как быть?
– Шолохова тоже нужно уметь читать, – настаивала на своём Елена Николаевна. – У него ведь и «Судьба человека» есть – вещь совершенно поразительная, даже для оттепели. Едва ли не единственный персонаж русской литературы, добровольно сдавшийся в плен. Даже до Советской власти, у Толстого Андрей Болконский попал в плен в бессознательном состоянии, и Синцов у Симонова тоже, не говоря уже о советских оттепельных фильмах, в том числе «Чистом небе». А здесь главный герой повествования, вместо совершения подвига, при виде немцев выходит из машины и сдаётся. Они пальцем показывают ему, в какой стороне сборный пункт пленных, и он сам приходит туда, без конвоя, как и миллионы реальных советских солдат. Потом его мобилизуют в немецкую армию, и он несёт службу в немецкой форме, семья его погибла не от рук карателей, а от советской бомбы – ни в какой лейтенантской военной прозе вы такого героя не найдёте, он есть только у якобы бы насквозь официозного Шолохова. Я уже не говорю о «Тихом Доне» – «Доктор Живаго» по сравнению с ним просто панегирик революции.
– Елена Николаевна, но ведь школьная программа по литературе, в моём понимании, должна способствовать формированию у школьников вкуса, – продолжал Саранцев. – Она по определению призвана строить канон восприятия.
– Положим, должна. А ты имеешь возражения против действующей программы?
– Нет, я всё ещё о прошлом. Почему же советская школа провалила свою фундаментальную задачу? Вырастила поколения граждан, не питающих уважения к своей стране вообще и к её культуре в частности?
– Во-первых, у школы нет монополии на воспитание. Семья и окружающая жизнь к старшим классам оказывают уже гораздо больше влияния на формирование мировоззрения подростка, чем учителя. Во-вторых, я категорически не согласна с твоей сентенцией о поколениях. Я не слышала о таких поколениях, откуда ты о них узнал?
– Ему доклад подсунули, он его и прочитал, – вставила как бы ненароком Корсунская.
– Почему же в девяносто первом ни один человек не вышел на защиту Советского Союза?
– Мне кажется, потому что защищать Советский Союз тогда означало защищать Горбачёва, а у него защитников было мало.
– А я думаю иначе, – настаивал Саранцев. – Горбачёв так и не ушёл от прежней идеологии, хотя желающих строить коммунизм в стране уже почти не оставалось – по крайней мере, среди активного населения. И школа невольно сыграла свою роль, как и до революции. Тогда посредством насильственного преподавания закона Божьего успешно воспитали воинствующих атеистов, а к концу восьмидесятых с помощью научного коммунизма вырастили поколения антисоветчиков, которые не просто считали качество жизни на Западе более высоким, чем в СССР, а ещё и приукрашивали его, и высмеивали пропагандистские передачи советского телевидения.
– Ладно, Игорь, хватит заговаривать мне зубы – твоя очередь высказываться о литературе.
Саранцев замолчал и внутренне всё больше раздражался. Он не хотел говорить правду и собирался соврать половчее, но фантазия ему не вовремя отказала. Ему нравился Грэм Грин, особенно «Наш человек в Гаване» и «Тихий американец», он любил «производственные» романы Артура Хейли, особенно «На высотах твоих», и рассказы О’Генри, особенно повесть «Короли и капуста», а из отечественных авторов предпочитал Аксёнова. «Затоваренную бочкотару» он запомнил с подростковых лет, когда прочёл её в «Юности», хотя не имел тогда ни малейшего представления об авторе и даже фамилию его по детской привычке не запомнил. И уже намного позже, во время перестройки, после возвращения опального эмигранта в литературный контекст, с изумлением случайно узнал о его авторстве. Книги всплывали в сознании Игоря Петровича одна за другой, но не доставляли ему своим появлением радости – он хотел себе более солидного чтения. Грин вообще зачастую мешал ему работать – президент при каждом упоминании внешней разведки в своём служебном кабинете невольно вспоминал «Нашего человека» и на некоторое время терял серьёзность восприятия.
– Назвать книги, которые определили мою жизнь, я не могу.
– Не определили, а оказали влияние, – строго подняла указательный палец Елена Николаевна. – Я не настолько радикальный филолог, как ты меня представляешь. Можем начать с самого начала, как поступила и Аня: какие книги ты ценишь больше других?
– Достоевского, – неожиданно для самого себя сказал Саранцев. – «Братья Карамазовы».
Игорь Петрович прочёл роман давно, но запомнил его лучше прочих. Вспомнил снова во время разговора с Еленой Николаевной в машине, и теперь название само пришло на язык. Всё карамазовское семейство представилось ему психологическим портретом автора, раздираемого страстями Алёши и Дмитрия. Подобно Ивану, рассуждает писатель о невообразимом и, кто знает, водрузил ли он своего колобродного отца, то ли убитого мужиками, то ли мирно скончавшегося, на вершину этой пирамиды несовершенства, или сам себя видел таким же, ничуть не лучше его? Самое поразительное – вот так взял и со всей откровенностью вывернул себя на обозрение читательской публике. Странный всё же народ – писатели.
– Достоевский? – искренне удивилась учительница. – Ты уверен?
Наверное, тоже держала в памяти недавний разговор.
– Уверен, – обиделся президент. – Почему вы удивляетесь?
– Мне казалось, политику трудно с Достоевским.
– Почему?
– Ты же сам, кажется, мне сказал.
– Ничего подобного. Я сказал только, что Достоевский не мог руководить. А политикам он очень даже полезен – способствует смирению.
– Он говорит не только о смирении. И даже не столько. Скорее, о бесценности каждой отдельной человеческой жизни.
– Вы о том, что политика – грязное дело?
– Не так прямо, но, в общем, примерно да.
Игорь Петрович обиделся не столько за себя, сколько за Достоевского. Классик его не перепахал и не перевернул душу, но действительно заставил думать. Он не перечитал ни одной вещи сурового транжиры, игрока и ходока Фёдора Михайловича, однажды им прочитанной – останавливался, как перед глухой кирпичной стеной и боялся лезть через неё, словно ожидал встретить злобных цепных псов по ту сторону. Другое дело Толстой, смешной в его наивном морализаторстве. Отрёкся от авторских прав и призывал к аскезе, завещание писал на пеньке посреди леса, но с помощью двоих человек, один из которых держал перед ним текст черновика, а другой принёс фанерку для применения её в качестве конторки. Сколько манерности и фальшивой картинности, достойных мелкого графомана.
– Очевидно, порядочные люди не могут заниматься грязным делом, разве нет?
– Думаю, существуют определённые границы приемлемого, – не уступала Елена Николаевна. – Ты, например, их не переходишь. По моему мнению.
– То есть, я всё же поступал недостойно, но для моего грязного занятия допустимо?
– Игорь, не волнуйся так. Я не знаю ничего о каких-либо твоих недостойных поступках.
– Но думаете, что они всё же были?
– Я не считаю тебя бесчестным человеком, но в моём представлении политика предполагает систему компромиссов и неофициальных договорённостей, скрываемых официозной риторикой. Категоричные моралисты всегда остаются на обочине исторического процесса, но я и в жизни таких людей с трудом переношу. Всякий раз подозреваю причиной подобного рвения собственное бурное прошлое блюстителя. Кстати, меня и «Собор Парижской Богоматери» в своё время несколько озадачил: всё читала и ждала сведений о грехах молодости Фролло. Даже до самого конца подозревала в нём отца Квазимодо.
Елена Николаевна упорно клонила разговор к своей любимой литературе, а Саранцев всё более раздражался и терялся. Он никогда не считал себя книгочеем, хотя положенные мальчишке и подростку книги читал в изобилии, и не только фантастику.
– Я всё же повторю, вопреки вашей реакции: на меня произвёл впечатление роман «Братья Карамазовы». Не стану утверждать, будто он подвигнул меня на строительную или политическую стезю, но след определённо остался. Вот Достоевский в качестве моего автора вас удивил, а кто бы не удивил?
– Хемингуэй, – без паузы заявила Елена Николаевна. – Я бы каждому новоизбранному политику выдавала за государственный счёт экземпляр «Старика и моря». Человек отдаёт все силы борьбе, а после победы вдруг обнаруживает себя побеждённым. Очень полезное чтение для всех желающих славы и торжества.
– Я не ради славы и торжества пошёл в политику, – продолжал настаивать на своей невинности Саранцев. Он уже перестал раздражаться и начал впадать в уныние – атмосферы неприятия он совершенно не ожидал.
– Неужели ради народного блага? – поинтересовалась со своим обычным ехидством Корсунская.
– Нет, ради карьеры, – огрызнулся Игорь Петрович.
Сказал и подумал: а ведь действительно, в те незапамятные времена он откликнулся на приглашение Покровского, оставшись без работы. И пошёл в штаб будущего губернатора свободным человеком – его не удерживали обязательства ни перед работодателем, ни перед семьёй. Первый сам его прогнал, вторая нуждалась в кормильце, а не в искателе прописных истин. Он тогда только в шутку подумал о себе как о будущем президенте, и никогда никому в своей глупости не признавался. И теперь сказал чистую правду, хотя сам её не знал ещё несколько минут назад.
– Тогда я бы порекомендовала каждому политику «Обыкновенную историю» Гончарова, – быстро отреагировала Аня. – Ну и, само собой, «Войну и мир» Толстого для осознания своей малозначимости перед силами рока и рассказы Бунина навалом для памяти об уязвимости человеческой жизни.
– Миша, а ты почему молчишь? – не отставала от своих учеников Елена Николаевна. – Отсидеться не выйдет, мы требуем ответа.
– Понятия не имею, – равнодушно пожал плечами Конопляник. – Я, если помните, ваш литкружок не посещал и сейчас не самый великий читатель на белом свете.
– Всё равно не отстанем. Тогда выбирай хоть из школьной программы, но непременно дай нам хотя бы одно название.
– Не знаю я, Елена Николаевна! Мне и думать не о чем.
– Ответ не принимается. Подумай хорошенько. Ты ведь меня не забыл ещё, надеюсь? Тогда должен знать – я своего добьюсь. Даже из самого мнущегося у доски двоечника хотя бы пару осмысленных слов выдавливаю – человек всегда имеет точку зрения, но может и сам об этом не знать. В твоём распоряжении одна минута.
– Одна минута?! Да вы что, Елена Николаевна? Я теперь точно ничего не выдумаю.
– А если он в минуту не уложится? – осторожно поинтересовалась Корсунская.
– Тогда выйдет вон и вернётся назад только с названием наперевес.
Конопляник явно поверил в угрозу и не испытал уверенности в поддержке со стороны соучеников, поэтому покорился и поспешил выкрикнуть:
– Пушкин! И Некрасов.
– Почему именно они?
– Мы ведь только что договорились – ответа на такой вопрос не существует.
– Мы ни о чём не договаривались, все только высказывают свои точки зрения.
– Хорошо, вот моя точка зрения: нельзя объяснить, почему нравится книга или автор.
– Почему нельзя?
– Потому что они нравятся не в результате рассуждений или размышлений, а сразу. И оторопь вызывают тоже сразу, или никакого впечатления не производят.
– Значит, ты всё же испытывал на себе воздействие книг, зачем же прикидывался неучем?
– Я не прикидывался. В основном они не производят на меня никакого впечатления.
– В основном? А в остальном?
– Бывает интересно.
– Что показалось тебе интересным?
– Детективы братьев Вайнер мне казались интересными. И читались очень воздушно и быстро.
– Зачем же ты приплёл Пушкина и Некрасова?
– Ради приличия.
– Разве братья Вайнеры неприличны?
– Не знаю. Тут вот другие называют такое, что я сроду не читал и даже слыхом не слыхивал, а я скажу – Вайнеры.
– Ты, Мишка, старомоден, – успокоил одноклассника Саранцев. – Круг чтения уже давно не считается показателем качества души. Личное дело каждого – читать кого угодно в соответствии со своим вкусом, никто не лучше и не хуже.
– Всё равно, дураком выглядеть не хочу.
– Лично я Вайнеров не читала, только их детективы по телевизору смотрю, – отозвалась Корсунская. – По-моему, психологизма у них хватает – они не боевики писали, о поединок человека с человеком.
– Я как-то «Визит к Минотавру» проскочил чуть не за пару вечеров, испугался и решил Вайнеров больше не читать, – добавил Игорь Петрович. – Тоже застеснялся, на манер Мишки.
– Так застеснялся или испугался? – потребовала конкретности Елена Николаевна.
– Сначала испугался ограниченности своего художественного вкуса, а потом её застеснялся. Юлиан Семёнов ведь любил доказывать серьёзность лёгкого жанра. Мол, и в гитлеровской Германии, и в сталинском Советском Союзе, литературный детектив не приветствовался. В конечном счёте, ведь в его основе лежит обличение социальных пороков и морализаторство. Существование зла в обществе признаётся, но преступление всегда наказывается. В противном случае, это уже не детектив, а какая-нибудь психологическая драма или мистический триллер – зависит от характера зла.
– Игорь, а ты в принципе любишь детективы?
– Елена Николаевна, вы прямо душу вынуть хотите.
– Господи, причём здесь душа? Мы говорим о литературных вкусах. Вот ты назвал своей важной книгой «Братьев Карамазовых» – можно назвать её детективом?
– Не получится. Это как раз пример психологической драмы – автор подводит читателя к мысли о безнаказанности зла, хотя не формулирует её напрямую. Все почему-то решили, что убил Смердяков, а Дмитрий невиновен, но Достоевский ведь не утверждает ничего подобного. Мы можем судить только со слов Смердякова – «может, я убил, а может, не я». Собственно, с какой стати эти слова принято считать его признанием? А вдруг он просто издевается над своими незаконными братьями. Кстати, отцовство Карамазова-старшего в отношении Смердякова тоже не утверждается автором. Просто город так решил, поскольку тот приютил беременную неизвестно от кого дурочку. Разве слухи – это критерий истины? А вдруг он раз в жизни проявил человечность и поплатился за свою слабость дискредитацией?
– Ты с такой страстью бросаешься на защиту всех литературных обвиняемых, – многозначительно заметила Корсунская. – Никогда не думал об адвокатской карьере?
– Не беспокойся, с моей стороны конкуренция тебе не угрожает.
– Можно подумать, я сделала тебе непристойное предложение – ты почти испугался.
– Не испугался, но ужаснулся. Предложи ты мне стать врачом, я отреагировал бы так же. Не представляю себе другой жизни.
– Зачем же ужасаться? Не самая плохая работа – бороться за справедливость.
– И делать хорошие бабки на жажде справедливости. Если бы вы работали бесплатно, моральных дилемм было бы меньше.
– Странно слышать подобные суждения от гаранта Конституции.
– Ничего странного. Это в европейских языках «юстиция» и «справедливость» называются одинаково, у нас они разведены. Любой прохожий на улице скажет тебе то же самое: качество юридической помощи не должно зависеть от достатка нуждающегося в ней. В равных условиях богач и бедняк с большой степенью вероятности наткнутся на противоположные приговоры суда. Правосудие есть, а справедливости нет. И дело даже не в коррупции, просто хорошие и опытные адвокаты дорого стоят, независимые экспертизы и тому подобные изыски тоже недёшевы. Выходит, полное избавление от продажности, непотизма и подверженности административному давлению не решает проблему обеспечения законности.
– Ты готовишься к новой избирательной кампании?
– Просто высказываю вслух сокровенные мысли.
– В советское время тарифы на услуги адвоката устанавливались государством, но оставались выплаты из-под полы. Даже если избавиться от последнего обстоятельства, останутся рыночные законы спроса и предложения – к хорошим адвокатам выстроятся очереди, первыми в которых окажутся не те, кто более нуждается в помощи, а те, кто пришёл первым. И равного доступа к правосудию всё равно не будет.
– Анечка, ты согласна с Игорем? – озадаченно поинтересовалась Елена Николаевна.
– В мире вообще нет ничего идеального, – парировала Корсунская. – Давайте попробуем обсудить справедливость политической системы – волосы дыбом встанут.
– В политике справедливость хотя бы в теории достижима, – напирал Саранцев. – Если избавить её от тех же язв, что и систему правосудия.
– Ничего подобного. В самых равноправных условиях демагог может победить великого государственного деятеля.
– Может. И его победа станет торжеством справедливости – избиратели получат именно то, что выбрали.
– Как же ты понимаешь справедливость?
– Как правомерное воздаяние за содеянное.
– Это и есть правосудие.
– Да, поэтому то и другое и называется одним словом в европейских языках, как я уже говорил. Причём, по-польски, кажется, это общее слово – как раз «справедливость». Произносится с польским прононсом, разумеется, но корень тот же, что у нас. Не только в польском, кстати – и в чешском, и в болгарском, и в словацком, кажется. Можешь себе представить на русском языке «министра справедливости»? Или хотя бы «министра правосудия»? Насколько я помню, по-сербски «правосудие» – как раз «правда».
– Ты стал полиглотом?
– Нет, просто умею пользоваться Википедией. И тебе советую – очень удобный способ сопоставлять восприятие одних и тех же понятий в массовом сознании разных народов. Особенно интересно сравнивать статьи на разных языках о литературе и литераторах или об исторических событиях. Последнее – занятно в высшей степени. Даже особо долго вчитываться не надо – я обычно ограничиваюсь сравнением преамбул.
– Думаю, «министра справедливости» русский язык не вынесет, – вмешалась Елена Николаевна. – Люди смеяться станут.
– Потому что в их сознании справедливость и государственный аппарат несовместимы, – вставила Корсунская.