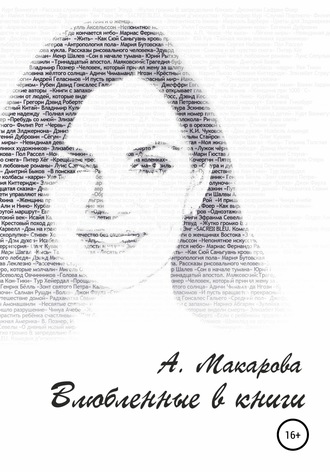 полная версия
полная версияВлюблённые в книги
Читая его регалии и звания, я никак не могла предположить, что его книги настолько увлекательные и «народные» что ли…
«Крещённые крестами» – книга-путешествие, книга-приключение. Кочергин рассказывает про своё детство и скитания по «эсэсэрии». После того как репрессировали отца и мать, он как сын «врагов народа» оказался в детприёмнике НКВД под Омском, откуда бежал и шесть лет добирался до Ленинграда. Книга вся состоит из ярких картинок памяти, из небольших рассказиков о самых разных моментах жизни, о людях, встретившихся в сиротских скитаниях.
Детприёмовские игры и иерархия, будни и праздники, главный из которых – день рождения вождя, потому что дают кусок хлеба со сливочным маслом. Колоритные воспиталы и охранники, разномастный люд послевоенных вокзалов, инвалиды войны и нищие, женщины, потерявшие родных, полуголодные дети, калеки и сердобольные тёточки – огромное множество людских портретов запечатлела цепкая детская память.
Кочергин описывает лютые времена. Но, тем не менее, книга читается легко, не оставляет тяжёлого осадка, как бывает после книг об этом времени. Автор не жалуется, никого не обвиняет в своей сложной судьбе. Он просто рассказывает свою историю. А шутки-прибаутки, жаргонные фразы, словечки из лексикона сидельцев знаменитых русских тюрем-крестов и сочные кликухи («Свиная тушёнка», «Чурбан с глазами», «Гиена Огненная») делают эту историю настоящей энциклопедией нравов, коллекцией ярчайших образов послевоенной России.
Эдуард Кочергин, я Ваш поЧИТАТЕЛЬ теперь!
1 марта 2017 г.
«Пятеро, которые Молчали»
Мигель Отеро Сильва
Венесуэла. Время борьбы с диктатурой М. Переса Хименеса. Пятеро заключённых сидят в одной камере, и каждый по очереди рассказывает о своей жизни, о детстве и родных, о политических взглядах и подпольной работе, о допросах и пережитых пытках. Парикмахер, Капитан, Бухгалтер, Врач и Журналист. Пятеро заключённых, пять разных судеб, пять историй о жизни. Автор постоянно подчёркивает их «разность» – во взглядах, вкусах, мечтах, идеалах. Очень разные люди, разные характеры, и общая для всех
любовь к Родине и боль о ней.
Книга об очень человеческих чувствах и состояниях в нечеловеческих условиях. О том, что потеря мечты может быть губительней голода и жажды, потеря надежды – хуже побоев и холода. Здесь нет лозунгов и громких слов, нет призывов и размахиваний флагами, но эта книга – о мужестве, стойкости, патриотизме и верности идеалам. Здесь нет патетики и во всём положительных героев, эта книга – о человечности, о дружбе, о жажде жизни.
Несмотря на непростую тему и страшные сцены, книга читается легко и быстро и оставляет после себя много мыслей о предназначении человека, о его силе и стойкости.
30 января 2017 г.
«Русский роман»
Меир Шалев
Я не знаю, что является причиной – 1/16 еврейской крови, доставшаяся мне от прапрадеда Исаака Наумовича, или литературный талант еврейского народа, но меня периодически безудержно тянет читать именно евреев. Всё началось с Севелы и продолжилось Ромэном Гари, Фоером и Филипом Ротом.
И вот, наконец, я добралась до Меира Шалева. Который является самым что ни на есть еврейским евреем, израильтянином в третьем поколении. И пишет он о своих соотечественниках. А евреи в галуте (на чужбине, в изгнании) – совсем не то, что евреи в Израиле.
Итак, «Русский роман» – о том поколении переселенцев, которые прибыли в Палестину из России незадолго до Первой мировой войны, чтобы возделывать землю и возрождаться как народ. Книга о том, как их утопические представления и идеи о счастливой жизни на своей земле столкнулись со зловонными болотами, малярийными комарами, бесплодной почвой, голодом, болезнями и смертями. Как из этой пустынной земли они сделали сад. Как основывались деревни, разводилось хозяйство и возделывались поля. Как они выживали в тяжелейших условиях. Как росли их дети и внуки, и как идеи этих пионеров-переселенцев создали цветущее государство Израиль.
Это одна, очень интересная и познавательная сторона. А вторая сторона книги, ещё более привлекательная для меня – это человеческие взаимоотношения, людские судьбы, ярчайшие характеры и странные персонажи. Здесь есть старый учитель Пинес – любитель и знаток насекомых, заботливо воспитавший всех детей деревни. Высохший маленький дедушка Миркин, взрастивший огромного внука-силача. Красавец, любимец женщин и насмешник Ури. Циркин-Мандолина и его жена-активистка Песя. Эфраим – исчезнувший дядя с искалеченным лицом и душой, носивший на плечах огромного быка Жана Вальжана. Бабушка Фейга, увядшая от недостатка любви. Чета Либерзон, обожавшая друг друга до глубокой старости. Рива Маргулис с манией чистоты. Мул Зайцер и кот Булгаков. Каждого из персонажей автор наделяет множеством уникальных черт. Они не перепутываются в голове, как часто бывает в семейных сагах, здесь каждый занимает своё уникальное место.
Сюжет в книге нелинейный. Как будто автор вспоминает разные эпизоды и рассказывает-рассказывает их, забывая выдохнуть. И из этого калейдоскопа событий, описаний и чувств в конце концов складывается общая картина.
И ещё одна яркая черта этой книги – в ней полно чудес. Кто-то назовёт этот стиль «магическим реализмом». В «Русском романе» есть ощущение, что жизнь – не прозаичная и простая штука, а наполненная волшебством, невидимыми нам связями и законами. Здесь много печали и грусти, много яда мстительности и обиды, но также много любви, заботы, преданности и иронии.
Когда-то одна знакомая мне сказала: «Ты разлюбишь евреев, если поживёшь среди них в Израиле». Не знаю. Иногда, когда я читала эту книгу, у меня было такое чувство: слишком много для меня тут было сведения счётов, мести и обид. Но в конце концов я прониклась каким-то тёплым отношением к жителям этой книги. Евреи мне по-прежнему нравятся.
25 января 2017 г.
«Сон в начале тумана»
Юрий Рытхэу
Мне всегда было очень интересно, как живут люди на Крайнем Севере. Поэтому книга про чукчей стала для меня настоящей находкой.
Сюжет заключается в том, что молодой канадец, жадный до путешествий и приключений, попадает на Чукотку, и по воле трагической случайности остаётся жить среди коренного населения. И вот его глазами читатель видит всю экзотику местных нравов, обычаев, привычек и бытовых подробностей.
Как одеваются чукчи, что едят, как у них устроено жилище, какие праздники отмечают, каких богов почитают, какое отношение к старикам и смерти, какое место у женщины в общине.
Шаманы, разговаривающие с мертвецами, глаза нерпы как любимое лакомство детей, охота на кита, моржей и тюленей, отношения с белыми, Амундсен, покровительственно относящийся к чукчам, – в этой книге так много всего интересного и необычного!
Народ, постоянно живущий в экстремальных условиях, вынужденный всегда бороться с холодом, нашёл не только способы выживания во время голодных зим, но и научился быть в гармонии с природой, с океаном, ветром, льдами, северным сиянием.
До тех пор, пока на Чукотку не пришли белые (сначала американцы, потом – русские) со своими правилами, водкой и революцией, чукчи веками не изменяли свой устоявшийся уклад, обеспечивающий им выживание.
Автор этой книги – Юрий Рытхэу – чукча по национальности. Он родился на берегу Северного Ледовитого океана в семье охотника-зверобоя, а его дед был шаманом. С большим знанием дела и большой любовью описал он свою такую суровую, но родную землю, все тонкости чукотского мировосприятия и общинного уклада. В конце книги есть небольшой реверанс в сторону советской власти (книга-то написана в 70-м, пропаганда была ещё сильна в то время), но это почти не портит всю историю.
Рытхэу показал уникальность и обыденный, каждодневный героизм своего народа. Сделал он это очень увлекательно и даже захватывающе. Русский язык тут прекрасен, а чукотские имена и слова очень обогащают текст, погружают в атмосферу, где обыкновенное тёплое пламя, тёплый воздух жилища обретают такую ценность, какую они не имеют в любом другом месте. Человек идёт к теплу, как на праздник. Здесь нет ни властей, ни чинов, а мерило всего – целесообразность и разумность. Здесь справедливые и великодушные обычаи важнее личного богатства, нет церемонных приветствий и масок, жизнь проста и безыскусна, честна и правдива.
Интересно, что сами чукчи называют себя луоравэтльан, что означает – настоящие, подлинные люди. А главная из аксиом их жизни звучит в книге из уст одного из героев так: «Люди, которые живут на холодной земле, должны греться теплом доброты».
16 января 2017 г.
«Старик, который читал любовные романы»
Луис Сепульведа
Несколько причин, почему стоит прочитать эту книгу:
Ну, во-первых, автор этой небольшой, но очень увлекательной истории – необычный человек. Луис Сепульведа – известный чилийский писатель, борец за свободу, гринписовец. Он прошёл через тюрьму, пытки, подполье, изгнание и не отказался от своих убеждений.
Во-вторых, язык книги. Он очень простой, ясный, конкретный, но в то же время – насыщенный и яркий, изредка сдобренный крепким словцом. В этой книге нет литературных выкрутасов, умствований и излишних рассуждений, нет «воды» и «двойного дна». Сюжет прост, но при этом увлекает так, что держит внимание читателя с первой и до последней строки.
В-третьих, природа описана здесь просто потрясающе. Амазонская сельва, сезон дождей, непроходимые джунгли, стаи диких обезьян, удавы и анаконды, ягуар-людоед и ещё много всего экзотического и колоритного.
В-четвёртых, индейцы-шуар, живущие в этой самой амазонской сельве. Их обычаи, ритуалы, связь с природой, умение слышать её и
чувствовать её характер. И вообще, эта первобытная, естественная жизнь, ещё не омрачённая цивилизацией и невежественными гринго, разрущающими всё вокруг из жажды наживы. Есть какая-то необъяснимая притягательность в историях, где человек и природа – одно.
В-пятых, сам главный герой – Антонио Хосе Боливар – мудрый старик, который любит книги, свободу и джунгли. Он пережил много бед, он хотел стать своим среди индейцев шуар, он знает сельву как свой дом. Он не понимает, что такое Венеция и Европа, но зато может предсказать поведение обезьян или ягуара. Он читает так, что каждый любовный роман становится больше, чем просто история. Очень цельный человек, образ которого останется в памяти надолго.
И, наконец, в-шестых. За всей кажущейся простотой этой книги скрываются очень масштабные и глубокие темы. О смысле жизни, о связи человека и природы, о том, что такое цивилизация, и в чём же всё-таки счастье человечества.
29 декабря 2016 г.
«Сандро из Чегема»
Фазиль Искандер
Книга состоит из 32-х новелл, связанных друг с другом и повествующих о жизни Абхазии на протяжении всего 20-го века.
Главный герой – дядя Сандро – тамада и великолепный рассказчик, человек, находящий выход из любой ситуации. И вокруг него ещё десятки ярчайших личностей, жителей Чегема – старый Хабуг, красавица Тали, горбун Кунта, пастух Махаз и ещё множество персонажей, которые не сливаются в одно месиво, а, напротив, делают книгу многогранной, насыщенной и живой. Здесь каждый имеет свою историю, свой характер.
Искандер описал патриархальную, деревенскую жизнь Абхазии, с её неспешным укладом, привязанным к временам года, где крестьяне мотыжат кукурузу, пасут коз, делают табак, разводят буйволов и лошадей. Мужчины тут свободолюбивые, страстные и отчаянные, способные на широкие, хотя иногда и очень странные поступки. Женщины – быстроногие и хозяйственные. Кровная месть – дело чести, а абреки – главные герои. Важные вопросы решает совет старейшин, обычаи чтутся, обряды строго соблюдаются в каждой семье, а национальные традиции важнее законов. В книге много-много баек, житейских анекдотов, комических ситуаций, грустных историй и драматических рассказов. В этой книге сама жизнь. Со всеми её запахами и вкусами, с первой любовью, первыми потерями, с трагедиями и обретениями, радостью и светлыми моментами, отчаяньем и смирением. С восторгами детства, надеждами юности, со сдержанной зрелостью и мудрой старостью.
Здесь жизнь большой семьи, всего села Чегем, всей патриархальной когда-то Абхазии противопоставлена тому, что с этой патриархальностью сделал 20-й век. Гражданская война, коллективизация, сталинизм, война, советская бюрократия – на фоне традиционного уклада всё это нелепо, бессмысленно и страшно. Но Искандер через своих героев так передаёт настроение, что не падаешь духом, а, наоборот, видишь комические стороны. Нет той беспросветности, что обычно встречается в отечественной литературе, описывающей этот исторический период. Напротив, книга очень светлая, ироничная, пропитанная любовью к родине, к людям, там живущим, к человеческой силе духа, человеческому юмору, к умению чувствовать и любить жизнь.
Просто гениально тут написан образ Сталина. Всего две сцены с ним (застолье с народными танцами и рыбалка), а так тонко, по-новому раскрывается его характер. Ленин, Берия, Хрущёв – даны лишь мазками, но такими яркими и порой неожиданными, что хочется места эти запомнить и цитировать.
А как здесь описаны застолья! Все эти реки вина, мясо на вертелах, дымящаяся мамалыга с сыром и ореховая подлива! Читаешь и хочешь туда, за гостеприимный абхазский стол.
И, конечно же, природа! Нет занудных долгих перечислений того, что видят герои вокруг, но автором как-то создаётся ощущение и от гор с заснеженными вершинами, и от альпийских лугов с пахучими травами, и от деревьев с орехами, инжиром и яблоками.
«Сандро из Чегема» – очень насыщенная книга. Людьми, историями, едой, природными красотами. Я никогда не была в Абхазии. Но теперь очень туда хочу. И кажется, будто я узнАю там всё, что увижу, будто я там уже бывала, люди мне почти родные, а места – знакомые.
20 декабря 2016 г.
«Сакура и дуб»
Всеволод Овчинников
Книга состоит из двух частей: «Ветка сакуры» – о Японии,
«Корни дуба» – об Англии. Написал её русский журналист, который прожил на одном острове семь лет, на другом – пять.
Овчинникову удалось посмотреть на оба народа очень глубоко, увидеть суть. То, что составляет основу национального характера.
ЧАСТЬ 1. Ветка сакуры
Японцы – удивительный народ. И автор очень подробно, с вниманием к мелочам, рассказывает о причинах такой уникальной культуры и подхода к жизни.
Как чистоплотность связана с религией синто. Откуда такое чувство общности с природой. Почему здесь возник культ красоты. Из-за чего эстетическому воспитанию уделяют внимания столько, что никакой народ не сравнится в этом с японцами.
В представлении японцев человек, умеющий жить, видит радости жизни там, где другие проходят мимо них. Чайная церемония, икебана, коллективное любование полной луной учат находить прекрасное в обыденном. Японцы считают, что иностранные туристы поглощают прекрасное в непозволительно огромных количествах – красоты одной капли росы им мало.
Японец – человек, который относится к жизни прежде всего как художник, эстет. Сохранить гармонию для него важнее, чем сохранить правоту или получить выгоду.
И вообще, как-то у них всё наоборот, если сравнивать с западным восприятием жизни. Церемонные в домашней обстановке и бесцеремонные в общественных местах. Из поколения в поколение наученные говорить обиняками, чтобы отклониться от открытого столкновения мнений, способных задеть чьё-либо самолюбие.
Японская мораль не ставит целью переделать человека. Она стремится лишь обуздать его сетью правил подобающего поведения.
А там, под маской учтивости, вполне могут жить маленькие слабости и стремления к плотским наслаждениям. Наряду с жёсткими ограничениями японский образ жизни сохраняет и лазейки, которые ведут к распущенности нравов. Похождения женатого мужчины – дело здесь вполне обыденное. Зато ревность жены – это нехорошо.
Детей учат прежде всего не «потерять лицо», а полная покорность воле старших из семьи распространяется на отношения начальник-подчинённый. Сказки здесь редко бывают со счастливым концом. Трагические же концовки воспринимаются как светлые, ибо утверждают силу воли людей, которые выполняют свой долг любой ценой.
В этой книге много чего есть – и об образовании, и о продвижении по карьерной лестнице по-японски, и об отношении к детям. О природе, о Токио, о горе Фудзи, заброшенных сельских пейзажах, традиционном японском доме, чайной церемонии, кулинарии, жемчуге и керамике, гейшах, культе поклонов и извинений, японском чуде и пожизненном найме. Книга очень насыщена деталями, фактами, наблюдениями. Сами японцы оценили «Ветку сакуры» очень высоко – она стала в Японии бестселлером. А это о многом говорит.
Я думаю, что соприкосновение с чужой, такой далёкой от нашей, культурой даёт повод понять и то, кто такие мы – русские, каковы наши ценности и привычки, что для нас красота и гармония.
21 ноября 2016 г.
ЧАСТЬ 2. Корни дуба
Вторую часть своей книги «Сакура и дуб» Овчинников посвятил исследованию английского характера.
Противоречивая, трудная для понимания нация, на которой оставили свой след кельты, саксы и норманны, англичане сочетают в себе противоположные черты, становясь загадкой для иностранцев. На редкость законопослушный народ и при этом заядлые индивидуалисты, англичане постоянно чувствуют натянутые вожжи: человек должен вести себя не так, как ему хочется, а как предписано поступать. Здесь царствует культ самообладания. «Жёсткую верхнюю губу» считают главным достоинством. Открытое, раскованное
проявление чувств – признак невоспитанности.
Умение держать себя в руках распространяется и на семейные отношения. Родителям приходится обуздывать свои чувства по отношению к детям и бурно выплёскивать их на животных.
Собака или кошка – это любимый член семьи. В английских семьях домашние животные занимают более высокое положение, чем дети.
Вынужденные подавлять проявления любви и нежности друг к другу, родители и дети поневоле делают неким эмоциональным громоотводом домашних животных.
Примечательно, что Королевское общество по предотвращению жестокости к животным было создано в 1824 г., тогда как Национальное общество по предотвращению жестокости к детям – в 1884 г. И Национальное – гораздо менее респектабельное, чем всё Королевское.
В Британии принято считать, что наказывать детей – это обязанность родителей: «пожалеть розгу – значит испортить ребёнка». Англичане считают, что неумеренное проявление родительской любви и нежности приносит вред детскому характеру. Голод – один из рычагов воспитания, детей здесь чаще недокармливают, чем перекармливают. Это считается эффективным средством закалки воли и твёрдого характера, который должен иметь настоящий джентльмен. Для британца «английское» обозначает всё самое лучшее.
Английский эгоцентризм проявляется во всём: англичане большие почитатели самих себя и своих обычаев. Они убеждены, что в мире нет страны лучше Англии. В иностранцах они привыкли видеть либо соперников, которых надо победить, либо дикарей, которых надо усмирить, приобщить к цивилизации. Англичанин издавна привык считать себя хозяином, а иностранца – слугой. Именно поэтому они мало интересуются чужими обычаями и не учат иностранные языки.
Исторически так сложилось, что правящая верхушка британского общества, будучи колонизатором, создавала стереотипы о других народах, нужные для оправдания своих действий. Началось всё с Ирландии, которая стала первой британской колонией, и жители которой изображались дикарями и язычниками, людьми коварными и невежественными.
В Лондоне не любят вспоминать, что английские работорговцы (чьи деньги во многом помогли Британии стать владычицей морей) начали поставлять живой товар плантаторам Нового Света отнюдь не из Африки, а из Ирландии. Англия, которая повсюду говорит о незыблемости гражданских свобод, не позволяла ирландцам говорить на родном языке, отрезала страну от связей с внешним миром. Последствия поныне дают о себе знать – население Ирландии с 19-го века не выросло, а сократилось, язык не удаётся возродить, деревни обезлюдели. История завоевания и порабощения Ирландии отметает все либеральные идеалы, которыми благонамеренная Англия привыкла кичиться как своим вкладом в цивилизацию.
Больше всего меня затронули эти две главы – отношение к детям и колониальное прошлое Англии. Но в книге очень подробно раскрыто гораздо больше тем. Овчинников пишет и о культе частной жизни, и о том, что дилетант или любитель здесь почётнее профессионала. О пристрастии англичан к старине – к вековым деревьям, старинным церемониям и дедовским креслам, о приверженности традициям. О том, что это страна коллекционеров и страна садоводов.
Рассказывается здесь и о самой скрытой системе правления в западном мире, о лондонских клубах, верхушке британского общества, негласной слежке, чёрных списках «неблагонадёжных элементов». Есть слова и об отзывчивости британцев, щепетильности, сдержанности и уживчивости. Но всё же после прочтения вторая часть книги (в отличие от первой, «японской») оставляет тяжёлое впечатление – из-за всей этой несвободности, какой-то национальной эгоистичности. Книга написана в 1979 г. Возможно, с тех пор уже многое поменялось. Я надеюсь, в более человечную сторону. Хотя национальный характер – вещь упрямая, ригидная и трудно поддающаяся быстрым переменам.
24 ноября 2016 г.
«Голова моего отца»
Елена Бочоришвили
Сначала мне понравилась обложка, потом мне понравились название и фамилия автора, а затем очень-очень понравилась сама книга.
Пять повестей, которые складываются в одну большую картину под названием «Грузия в 20-м веке». Здесь целая вереница ярких героев. Они живут, любят, страдают, ссорятся, мирятся, вспоминают. А когда больше нет сил – умирают. И всё это – на фоне исторических перипетий прошлого века: революций, репрессий, войны, застоя, перестройки, опять войны.
Стиль автора очень необычный – короткие, как выстрел, фразы. Иногда – практически поток сознания, где перепутаны мысли, но после прочтения всё встаёт на свои места. Выверено каждое предложение, ни одного лишнего слова. Текст предельно концентрирован, насыщен деталями, приметами времени (бюсты Ленина, витрины магазинов, хрущёвки, брежневские портреты, газеты с докладами). В небольшой в общем-то книге уместилось столько всего, что хватило бы по содержанию на пять отдельных книг.
«Голова моего отца» – книга грустная, искренняя, самобытная, тёплая и жизнеутверждающая, несмотря ни на что.
Обилие мелочей, которые отображают атмосферу и дух времени. Меткие фразы, которые хочется запоминать и цитировать. Герои, в которых веришь, поступки которых органичны. Полное отсутствие фальши и натянутости – всё это делает книгу не просто интересной, но и по-настоящему живой, красивой, талантливой.
«Сейчас я знаю, детство длится очень долго. Потом быстро проходит жизнь и начинается старость. Старость – это время, когда вспоминаешь детство».
«Она не закончила жить, она закончила умирать».
«Им только дали квартирку, «хрущёвку», где на кухне можно было есть лишь стоя, а до потолка – достать рукой. «Это последнее, чем отомстил Хрущев человечеству», – говорил Отец».
«Фафочка была в пионерлагере и каждый день ела манную кашу. Может, это от каши вдруг вырастают груди? У нее появился первый поклонник. Они всегда появляются там, где есть груди».
«Сплетня убивает быстрее, чем любая болезнь».
«Людям обязательно нужно верить во что-то, что невозможно понять».
«Это лето пришло без весны. И без запаха фиалок. Каждую весну на всех углах улиц продавали фиолетовые фиалки. За пять копеек продавали весну. Сейчас торговали трупами и местами захоронений. Обменивали пленных. Брали пленных впрок. И пули купить было проще, чем цветы».
9 ноября 2016 г.
«Тринадцатый апостол. Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях»
Дмитрий Быков
Книга, несомненно, интересная. Вся жизнь Маяковского очень подробно описана (иногда даже по минутам): творческие пристрастия, выступления на публике, споры, женщины, неврозы, страхи, поездки заграницу. И здесь, кроме Маяковского, ещё огромное множество талантливых и знаменитых – Горький, Есенин, Чуковской, Хлебников, Гумилёв, Брики, Ленин, Луначарский и ещё десятки людей того времени, так или иначе имеющие отношение к поэту. Иногда это отношение очень опосредованное, но, видимо, для создания атмосферы, для объяснения своей теории Быков пишет и о Некрасове (почти что реинкарнацией которого, по Быкову, являются Есенин и Маяковский, вместе взятые), и о Толстом, и о Пушкине и даже Лимонова упоминает. Материал исследован обширнейший – сотни стихов, очерков, писем, воспоминаний. Во всём этом многообразии очень хорошо представляется та эпоха, настроения интеллигенции, мысли, интересы, ценности. Анализ творчества Маяковского – глубочайший, Быков видит то, что с первого взгляда не видно, да и со второго часто тоже. Эрудиция автора, интеллект, энергичность, способность обобщить и найти скрытые смыслы, – это ценно. Но для меня есть в книге один большой минус. Книга настолько пропитана самим Быковым, его социальной позицией, что частенько он и Маяковского трактует так, чтобы свою эту позицию подтвердить – в ключе: «или у тебя есть совесть, или Родина». Со всей страстностью своей натуры Быков объясняет и поступки, и стихи поэта – безапелляционно и категорически. Ну что ж, имеет право, книга-то – его детище. Но, думаю, читая, надо помнить об этой субъективности и оставить Маяковскому право самому высказываться своими стихами.

