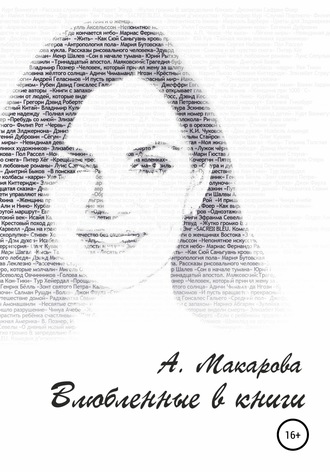 полная версия
полная версияВлюблённые в книги
Но поскольку текст так насыщен информацией, новыми именами и их произведениями (и все эти произведения смотришь в Интернете), получается, будто читаешь не одну эту книгу в 760 электронных страниц, а целую огромную энциклопедию с иллюстрациями. От этого в голове всё немного путается. Поэтому советую читать «Непонятное искусство» неспешно, не больше, чем в день по главе, погружаясь в каждую тему глубоко и надолго, гуглить про каждого художника, смотреть, смотреть и смотреть. Чуть позже я буду перечитывать Гомперца именно в этом режиме.
19 декабря 2017 г.
«В ожидании козы»
Евгений Дубровин
Дубровин – совершенно новый для меня автор, начала его читать без особых ожиданий. И была его повестью не просто удивлена, а слегка шокирована.
Сюжет простой. Послевоенное время. Двое мальчишек-братьев ведут вольную жизнь: взрывают оставшиеся от немцев мины, шастают в компании беспризорников, воруют вишни в чужих садах. Но тут неожиданно возвращается отец, считавшийся погибшим. И начинает их воспитывать, приучать к труду и к уважению к старшим. И вот здесь разгорается настоящая война – с битьём, местью, ультиматумами и голодовкой. Сначала кажется, что повесть такая даже юмористическая, что это легко написанный рассказ о романтичной жизни вольного подростка. Но всё оказывается гораздо серьёзнее и драматичнее.
Спойлерить не хочу, но скажу сразу, что концовка здесь такая, что будто тяжёлым мешком по голове ударили.
Повесть небольшая, но темы автор поднимает важнейшие. О воспитании, об отношении родителей и детей, о чувстве вины, о границах дозволенного-недозволенного, о покалеченных войной людях и семьях, об искарёженных отношениях между самыми близкими людьми.
«В ожидании козы» – это черты эпохи: голод, разруха, мука из лебеды и коза, как символ достатка и счастья. Это – многочисленные рассуждения подростка обо всём на свете. И ещё это – книга-боль за целое поколение, даже и не за одно, наверное.
15 декабря 2017 г.
«Сёгун»
Джеймс Клавелл
Это – одна из моих любимых книг. Читала её три раза и точно ещё буду перечитывать через несколько лет. Почему?
Во-первых, «Сёгун» – это увлекательный сюжет. Роман о том, как в 1600-м году впервые в истории английский штурман приплывает в Японию. И попадает в самую гущу политических интриг и событий: сталкивается с необычными для него людьми, порядками, привычками, правилами, бытом, религией. Амплитуда и характер его меняющихся состояний (то в яме для преступников, то по правую руку от главного человека в стране, то на волосок от гибели, то – «жизнь бьёт ключом»! создают такую динамичность и яркость, что книга неотрывно держит внимание читателя. Даже когда перевод не так хорош, как хотелось бы
Во-вторых, роман основан на реальных событиях! И у всех героев этой книги есть реальные прототипы. Все основные повороты сюжета тоже имели место быть в истории. Сегодня в сети можно найти много информации и о событиях, и о прототипах всех главных героев.
В-третьих, тема Востока и Запада, встречи совершенно отличных друг от друга культур здесь рассмотрена с таких разных ракурсов, в таких разных ситуациях, что после «Сёгуна» есть ощущение, что о Японии начала 17-го века знаешь буквально всё.
В-четвёртых, здесь подняты очень глубокие темы: отношение к смерти, к жизни, отношения между мужчиной и женщиной, долг, вера. В книге описаны такие тонкости, несвойственные нашей культуре (чайная церемония, визит к куртизанке, сепукку – ритуальный самостоятельный уход из жизни), что они поражают и вызывают огромное уважение.
В-пятых, очень подробно, через разные мелкие и крупные ситуации, показан характер японцев. Когда я первый раз читала «Сёгун», меня поразили некоторые факты и образ мысли героев-японцев. Я их воспринимала почти как инопланетян. Это было таким большим поводом задуматься об альтернативном взгляде на привычные, казалось бы, вещи – от нашего рациона питания и повседневной гигиены до отношения к любви и собственной смерти. В-шестых, автор книги Джеймс Клавелл – интересная личность с непростой судьбой. С детства он интересовался восточной культурой и морем (дед и отец были офицерами Британского Королевского ВМФ), изучал языки, с раннего возраста жил во многих портовых городах. Во время Второй мировой войны он был схвачен японскими солдатами и находился в плену до конца войны.
Позднее писатель Джеймс Клавелл сказал, что выжить в тюремном лагере, где только один из 15 переживал пытки, болезни и голод, ему помогло убеждение в том, что человек сильнее обстоятельств и среды, в которых он находится. Своей болью и впечатлениями от пережитого автор публично никогда не делился, а перенес их в свои книги.
Ну и, в-седьмых, книга лучше, чем фильм примерно в сто тысяч раз. Фильм, конечно, тоже неплох. Но, как и водится, книга гораздо глубже, разнообразнее и тоньше объясняет многие моменты, которые в фильм просто не вошли.
20 ноября 2017 г.
«Признания ната Тёрнера»
Уильям Стайрон
Книга о восстании чернокожих рабов в Америке, которое произошло в 1831 году.
«Признания Ната Тёрнера» – это исповедь предводителя восстания, идейного вдохновителя и проповедника Ната Тёрнера, реально существующего человека, показания которого издал его адвокат тоненькой брошюркой. На её основании Стайрон и написал этот роман.
Очень сильная книга. И очень тяжёлая. Темы, которые здесь подняты, – рабовладение в США, отношение белых к неграм, жизнь рабов, их моральное состояние. Белые хозяева, в глазах которых – негр всего лишь товар. Даже не тварь, а скорее утварь, лишённая характера, личностной уникальности и души. И чернокожие рабы – невежественные, бездуховные, неоднократно поротые и совершенно запуганные надсмотрщиками – из их гордых больших тел будто щёлочью вытравили всю природную удаль, достоинство и силу воли. И оставили только чувство «черножопости» (так сами негры это назвали) – внутренней зажатости и подспудного чёрного ужаса, которое постоянно гнетёт сердце каждого негра.
Конечно же, я и раньше знала, что рабство – это ужасно. Но о некоторых нюансах я прочитала впервые. Например, о том, что именитые американские профессоры в 19 веке издавали монографии с доказательствами биологической неполноценности чёрной расы (учитывались параметры головы, толщина черепной кости и т.д.). Они утверждали, что негры гораздо ближе стоят к лесным макакам, к низшему тягловому скоту, чем к человеку. И для их же собственного блага лучше держать их в благотворном подчинении. Большая часть просвещённого американского общества утверждала, что рабство – наиболее разумная форма существования такого народа.
Вокруг этого романа были жаркие споры, автора обвиняли в расизме, но, тем не менее, за «Признания Ната Тёрнера» Стайрон получил Пулитцеровскую премию.
Книга эта яркая, интересная, но психологически тяжёлая. Поэтому читала я её довольно долго.
Религиозный фанатизм, душевные метания главного героя, ненависть, жесточайшие сцены насилия – вот чего много здесь. И ещё она привела меня к мыслям о влиянии рабства в Америке и крепостного права у нас на потомков тех, кто был в неволе. Я думаю, что не пропадает бесследно десятилетиями впитанная покорность вперемешку с ненавистью у чёрных и презрение и превосходство у белых. Как никуда не девается «надежда на доброго барина» или нехлюйское отношение к тому, что вокруг (своему селу, городу, родине), потому что всё это не принадлежит мне, всё чужое – барское, у нас, русских людей. Нашла по этому поводу очень интересную статью «Раб или крепостной. Чем Россия отличается от США»: http://his.1september.ru/2006/15/4.htm. Есть, над чем подумать после её прочтения.
30 октября 2017 г.
«Территория»
Олег Куваев
«Мы не викинги, и нечего выпячивать челюсть. Мы – азиаты и тут живём. Высшая добродетель в тундре – терпение и осторожность. Высшая дурость – лезть напролом. Огибай, выжидай, терпи. Только тогда ты тундровик».
Эта книга о суровых мужчинах, которые трудятся на Крайнем Севере. Они ищут золото для страны. В их жизни не место романтике. Тут есть реки, холмы, пот, холод, кровь, усталость, мечты и святое чувство нужной работы. Здесь не место благополучному стандарту «жизни как все» и гипнозу приобретательства. Здесь мужчины бородаты по делу, а не по велению моды.
Профессия геолога прославлена и романтизирована за её нерациональность: костры, переходы, палатки, бороды, песни под гитару. А суть-то профессии вовсе в другом. Не в последней спичке или патроне, а в том, чтобы взглядом проникнуть в глубины земли.
На Территории живут по неписаному кодексу законов. Главное тут – не деньги, не жизненные удобства и не самолюбие. Главное – твоё умение работать, твоя ежечасная готовность к работе и твоя преданность вере в то, что это и есть единственно правильная жизнь на земле. «Будь предан и не дешеви». А основная святая заповедь – «Делай или умри».
Эта книга о жёсткой жизни геолога. Книга о тех, кто пробует жизнь на своей шкуре. О тех, кто не течёт бездумной водичкой по подготовленным желобам, а знает грубость и красоту реального мира. Знает, что «за праведным ликом часто прячется квалифицированное дерьмо, за косоухой небритой личиной сидит бесстрашный умелец».
Эта книга о честности по отношению к себе, к другим и к жизни.
О прямых отношениях с природой и стихией.
Написана она не самым лёгким языком. Здесь много специфических терминов, связанных с разработкой месторождений. Здесь нет никакой романтической линии. Герои по-мужски мало эмоциональны. И я плохо представляю, чтобы «Территорию» читала какая-нибудь восторженная нежная барышня. Эта книга сурово-мужская. Но её стоит читать ради настоящести людей (а они списаны с реальных личностей), которые в ней описаны, ради их отношения к работе и к стране.
Бывает жизнь как стремление к наслаждениям. Бывает жизнь – служение. Жизнь – как поиск любви. Или жизнь как поиск себя. Жизнь как развитие. А здесь жизнь как работа. И это редко встречается – и в реальности, и в книгах.
P.S. «День сегодняшний есть следствие дня вчерашнего, и причина грядущего дня создаётся сегодня. Так почему же вас не было на тех тракторных санях, и не ваше лицо обжигал морозный февральский ветер, читатель? Где были, чем занимались вы все эти годы? Довольны ли вы собой?..»
19 октября 2017 г.
«Клуб радости и удачи»
Эми Тан
Это короткая книга. Но ощущения от неё, как от масштабного романа.
Здесь много важных тем, очень деликатно выписанных.
Книга о китайских эммигрантах в Америке и об их детях, далёких от своей исторической родины.
Три матери, три дочери и семь историй на всех. Каждая история – небольшой момент из жизни. Каждая – почти притча.
Здесь и Китай первой половины 20-го века, и Америка 80-х. И потерянное поколение американских китайцев, не понимающих свой родной язык, и поколение их матерей, вынесших много трагедий, но не потерявших надежды и силы. Много тут и про разницу культур. Америка – сильно не Китай. Акцента на этом нет, но в каждом действии, от принятия пищи до ритуала прощания, он чувствуется.
И ещё, помимо культурной темы и темы «отцов и детей», здесь есть просто потрясающе описанные чувства и мысли о себе, своих
отношениях, любви, семье, детях. О силе духа, покорности, принятии и борьбе. Некоторые моменты пробирали меня до слёз.
Такая очень человечная книга. И хотя она о таких далёких Китае и Америке, в ней каждый может найти часть себя.
4 октября 2017 г.
«Где кончается небо»
Мариас Фернандо
Сначала я не хотела писать рецензию на эту книгу. Нельзя сказать, что она сильно меня зацепила. Но спустя два дня после прочтения я всё-таки думаю о ней. И, что самое главное, она меня подтолкнула к тому, что я пошла в Интернет читать про гражданскую войну в Испании, про Франко и про Мадрид. И к тому, чтобы всё-таки взяться за Хэмингуэя, который до этого ну никак у меня не шёл.
Роман Мариаса Фернандо – это книга в книге. Испания времён гражданской войны. Мальчик-сирота, мечтающий стать лётчиком, послан шпионом в охваченный войной Мадрид. Здесь он встречает женщину, которая перевернёт всю его жизнь, здесь он встречает мужчин, которые изменят его понятия о долге, чести, дружбе и предательстве. Подросток 15-ти лет переживает такое количество противоположных эмоций, сомнений и чувств, что эти несколько месяцев в 1936 году будут влиять на всю его жизнь до последнего вздоха. И, уже будучи стариком, в 2004 году он напишет книгу о тех днях. Эту книгу найдёт и прочитает неудавшийся писатель, и из всего этого вырастет история под названием «Где кончается небо».
Иногда у меня возникало ощущение, что это не книга, а пересказ какой-то хорошей литературы про войну (временами я даже вспоминала про Ремарка.) Но поскольку рассказчик не обладает большим талантом писателя, пересказ этот получается плосковатым и часто поверхностным. Не хватило мне здесь настоящего драматизма, сильных чувств и натуральности. Сама история хороша, но её исполнение не самое блестящее. Хотя, может быть, это мой привередливый вкус постоянно сравнивает все книги с лучшими произведениями русской и зарубежной литературы. Знаю, что эту книгу любят многие читатели, а сам Мариас Фернандо – обладатель нескольких литературных премий и один из самых известных писателей Испании. Возможно, «Где кончается небо» станет для вас чем-то большим, чем стало для меня, и тогда я только порадуюсь.
23 сентября 2017 г.
Рассказы А.П.Чехова
После нескольких книг Татьяны Никитичны Толстой был у меня читательский кризис. За что ни возьмусь, всё кажется каким-то плоским, вымученным, надуманным. Хотелось правды от автора, чистоты и искренности.
Решила спасаться Чеховым.
Как-то в одном разговоре о литературе мой давний друг сказал мне: «Чехова читай! Чехов – это же как чёрная икра!».
Ну вот я и стала читать Чехова, которого со школы в руки не брала. И как, оказывается, он прекрасен. Какая прозрачность и спокойствие автора. Он как будто чистая линза, которая лишь приближает и фокусирует, но напрямую не накладывает своего отношения. В каждом его маленьком рассказе столько жизни, смысла, правды, сколько подчас не встретишь в большой вычурной книге современного автора. И актуально у Чехова почти всё для нас, современных людей. Мир изменился за 100 лет, но человеческие чувства-то остаются прежними. И ещё меня очень пленяет вот эта вот его деликатность в передаче очень глубоких, даже интимных эмоций. У той же Толстой есть хороший очерк о его «Даме с собачкой».
В нём показано, почему русская литература (и Чехов прежде всего) в описании любовных отношений прекрасно обходится без постельных сцен (в отличие от западной литературы), и как писатель передаёт тонкость момента, трансформацию героев, глубину чувств не через «взгляды и объятья», а через что-то совсем другое, почти невесомое и неуловимое. Для меня рассказы Чехова – это книги, которые не сподвигают к великому, не уводят в глубокие экзистенциальные размышления. Для меня это почти «отдыхательная» литература, как бы странно это ни звучало. Как-то успокаивают меня его рассказы, появляется ощущение стабильности – не изменился человек нисколько, и мир тоже поменялся мало.
15 сентября 2017 г.
«Не кысь», «Лёгкие миры», «Невидимая дева»
, «На золотом крыльце сидели…» Татьяны Толстой
Последние три недели у меня прошли под знаком Татьяны Никитичны Толстой. Читала исключительно её рассказы, эссе, очерки и интервью. И я в каком-то ошеломлении и тихом восторге. Мне кажется, что вот это – настоящая русская литература. Тут слово – это магия, это колдовство, это сила. И владеет этим словом Толстая просто фантастически. В одной фразе может передать такую гамму чувств, целую судьбу может рассказать в одном предложении.
И такие небанальные сюжеты, хотя и очень обыденные. И концовку никогда нельзя предугадать. Вот ведь всегда читаешь, и прогнозируешь, и, испорченный голливудщиной, ждёшь хэппи-энда. Но случается что-то совсем нежданное. Как-то так всё поворачивается в очень такую правдивую историю. И когда дочитаешь, огорошенный концовкой, понимаешь, что да, только так и должно было закончиться. Что вот только так и бывает в жизни – не сладко-розовые сопли, и не трагично-пафосные слёзы, а вот так – буднично всё, просто, но очень по-человечески, когда «тошно от самого себя», или когда проза жизни рушит воздушные иллюзии, или когда страх, глупость, тщеславие, жадность, радость, унижение и восторг испытываешь одновременно.
Бывают такие очень хорошие, интересные книги – приключения там, или про далёкие страны и народы. Или герой один, очень интересный. И мучается. Или, наоборот, геройствует. И ты так захвачен сюжетом, оторваться не можешь, и потом ещё долго ходишь и вспоминаешь, что читал, и как круто написано.
А есть книги Татьяны Никитичны Толстой. И даже не всегда можно наутро вспомнить, что читал вечером. Но когда читал, ты там жил. И думал всё время: да-да, вот это правдиво. Вот именно так – жизненно и по-настоящему. Потому что тексты в этих книгах – как будто объёмные, и многая другая современная литература воспринимается на их фоне как что-то плоское и вымученное.
Простые истории, но в них Татьяна Ильинична задаёт очень глубокие вопросы себе и читателю. Про русский характер, например. Про силу слова, про неизбывную русскую тоску, удаль и авось. Это даже не вопросы, а, скорее, рассуждения. Без выводов и навязывания своего мнения.
Поражает ещё размах, наблюдательность, кругозор, эрудиция – тут тебе и про Великую Княжну Анастасию, и про кулинарную книгу Моховец, и про Малевича, и про чеховскую «Даму с собачкой», и про Америку, в которой Толстая прожила 10 лет, и про Москву, и про Питер. И как-то вот везде именно суть прочувствована и передана.
И теплоты сколько в её книгах. Особенно в тех, что про семью, про детство, няню, родителей. И опять же, нет тут приторно-удушливых воспоминаний про «наше счастливое детство». Есть много искренности, тонких чувств, простоты.
А юмор какой! Невероятный просто. Оказалось, что Толстая
– очень «мой» писатель. И совсем не похожи её книги на пресловутую женскую прозу. Ни Рубина, ни Улицкая, ни Токарева не вызвали во мне таких восторгов.
И не хочу больше писать, о чём её книги. Это то же самое, что пытаться пересказать, какой прекрасный закат был вчера. Про закаты слушать бесполезно, смотреть надо.
Татьяна Никитична, спасибо огромное за книги. Все. В любимые.
21 августа 2017 г.
«Моя жизнь»
Марк Шагал
Это – автобиография. Но написана она так поэтично, так лично и лирично, что напоминает не документальную прозу, а картины самого художника.
Яркими штрихами-мазками Шагал описывает свою жизнь, людей, оставивших в ней след. И, прежде всего, это – многочисленная еврейская родня: дед-мясник и почти святая бабушка, всегда утомлённый отец и говорливая мама, разнообразные тётушки и дядюшки, сёстры и брат. «Я бы предпочел написать портреты моих сестер и брата красками. Охотно соблазнился бы гармонией их кожи и волос, так бы и набросился на них, опьяняя холст и зрителей буйством моей тысячелетней палитры!».
Очень трогательно и сердечно о маме: «Не говорить, а рыдать хочется», «Здесь моя душа. Здесь и ищите меня, вот я, мои картины, мои истоки. Печаль, печаль моя!».
Огромную любовь к Витебску, в котором художник родился и вырос, Шагал пронёс через всю жизнь. Но, увы, город не отвечал ему взаимностью: «Нисколько ни удивлюсь, если спустя недолгое время после моего отъезда город уничтожит все следы моего в нем существования и вообще забудет о художнике, который, забросив собственные кисти и краски, мучился, бился, чтобы привить здесь Искусство».
До конца жизни в его творчестве прослеживались «витебские» мотивы. И в Нью-Йорке, и в Париже он писал свой Витебск.
Вдохновенно и красочно описывает Марк Шагал еврейские праздники: «Сама дорога молится. Плачут дома. Зажигаются звёзды, и прохлада вливается в открытый рот».
Про встречу с будущей женой Беллой пишет так:
«С ней, не с Теей, а с ней должен быть я – вдруг озаряет меня! Она молчит, я тоже. Она смотрит – о, её глаза! – я тоже. Как будто мы давным-давно знакомы, и она знает обо мне всё: моё детство, мою теперешнюю жизнь, и что со мной будет; как будто всегда наблюдала за мной, была где-то рядом, хотя я видел её в первый раз. И я понял: это моя жена. На бледном лице сияют глаза. Большие, выпуклые, чёрные! Это мои глаза, моя душа». Черты Беллы можно встретить почти на всех картинах, где Шагал изображал женщин.
Из этой книги становится понятно, откуда именно такие картины, такое мировосприятие: все эти радостные краски, летящие коровы и люди, улочки и домики, куры, церкви, невесты, старики, цветы… Свинья у него «зачарованная, почти прозрачная», кобыла «улыбается в траву», один из дядьёв «похож на деревянный дом с прозрачной крышей, искусство – «расплавленный свинец, лазурь души, изливающаяся на холст», а самые близкие люди – Рембрандт, мама, Сезанн, дедушка и жена.
В книге «Моя жизнь» много рисунков Шагала. Но я очень советую перед прочтением посмотреть его картины, и после – уже новым, осмысленным взглядом увидеть в них его детство, тепло родины, вселенскую печаль, мечты о прекрасном, умение видеть жизнь и весь мир в волшебных красках.
5 августа 2017 г.
«Кысь»
Татьяна Толстая
Вот представьте. Был Взрыв. И на месте Москвы теперь – село Фёдор-Кузьмичск, а вместо москвичей – голубчики с последствиями от радиации – кто с хвостиком, кто в гребешках весь, а кто и о трёх головах, али ноги прямо из подмышек растут. А некоторых бывших людей – перерожденцев, вообще как скот используют: запрягают и едут себе куды надоть. Ну и Прежние ещё – те, что до Взрыва, 200 лет назад жили, а теперь тоже живут и не старются, и, почитай, ещё лет 200 проживут, ежели огнецами али грибышами не отравятся. И помнят Прежние эти, что до Взрыва было, но никто их чушь не слушает, потому как они то про Сахарова, то про Пушкина какого, то про чудо-зверь мясорубку разговоры разговаривают.
А из еды в основном у них у всех – мышь. И суп из её, и жареная, и печёная, и ватрушки тож. И ржавь ещё – и квасу из её сделать, и покурить можно.
И живут те голубчики в тёмных своих избушках, в каменном почти веке, и славят великого набольшего мурзу Фёдор Кузьмича, слава ему, слава, всё-то он придумал – и колесо, и коромысло, и 8 марта – Бабский праздник, в коий баб бить нельзя, а проздравлять только и почтение оказывать.
И зло самое главное, Болезнь от которого страшная – это книги.
Взять в руки не моги – помрёшь.
А в лесах Кысь живёт, и глядит на тебя, и душу тревожит, и кричит так дико и жалобно: кы-ысь! кы-ысь! Пойдёт человек в лес, а она хребтину ему зубами хрусь, а когтём главную жилочку-то найдёт и перервёт. Ну и, конешно, что ни фраза в книге в этой, то брулльянт, и метко,
и чётко, смешно, и по делу:
«Я такой же хомо сапиенс, гражданин и мутант, как и вы!».
«Жениться – это не только оладьи да вышиванье, да по саду-огороду прогулки рука об руку, это ж портки снимать!».
«Купил на торжище «Таблицы Брандиса» – одни цыфры. Изловить этого Брандиса, да головой в бочку».
«– Кто это Пушкин? Местный?
Гений. Умер. Давно.
Объемшись чего?».
«Сосед человеку даден, чтоб сердце ему тяжелить, разум мутить, нрав распалять».
«Вот баба – она баба и есть. Всю мечту опоганит».
«А зачем думать? Я жить хочу».
Сатира, гротеск, ирония – всё тут есть в большом количестве. И на власть (Советскую, прежде всего, но не только на неё), и на тупость и бездуховность человеческую, и на покорность рабскую. Я не знаю, как задумывал автор – пародия это на русского человека или на человека вообще, но национальный, этнический привкус чувствуется с первой до последней строки. Книга эта – многогранная и философская сказка, лубочная по форме и глубокая по содержанию. Ну и, конечно, язык Т.Н.Толстой – бесподобен. Я даже не про стилизацию под старо-русский и деревенский, а про фразы, щедро рассыпанные в тексте, которые вызывают и смех, и изумление, и желание непременно записать-запомнить-цитировать.
Знаю, что книгой этой или восхищаются, или не воспринимают вообще. Я ближе к первым, хотя с более ровным отношением. Хороша книга. Но чуть нарочита, что ли… Предлагаю вам самим почитать и сложить своё мнение, а потом поделимся.

