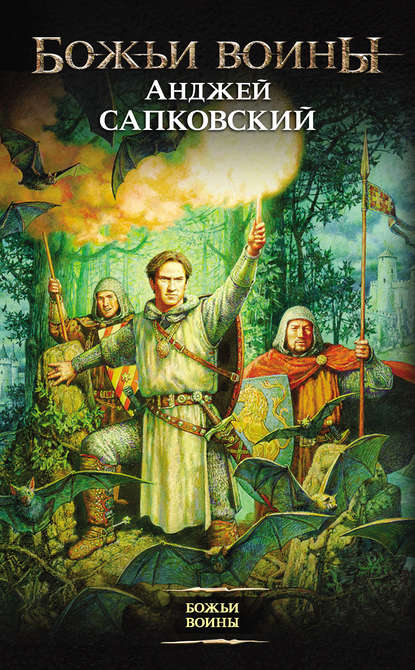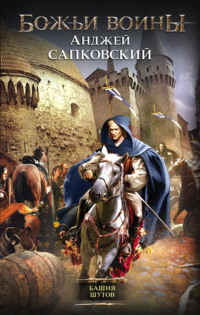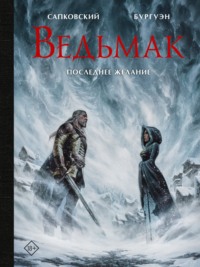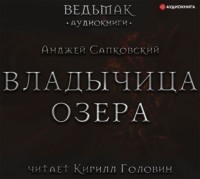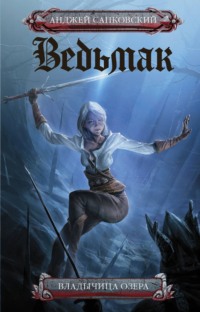![Божьи воины [Башня шутов. Божьи воины. Свет вечный]](/covers_330/8507783.jpg)
Полная версия
Божьи воины [Башня шутов. Божьи воины. Свет вечный]
Этот кошель изменил его судьбу.
Потому что в одной стшелинской корчме из тех многих, в которых он побывал в поисках Горна, Рейневан столкнулся с фактотумом[134] каноника, отцом Филицианом, жадно выедающим из рынки[135] толстые кружки обжаренной колбасы и запивающим жир тяжелым местным пивом. Рейневан сразу же понял, что следует сделать, причем ему даже не пришлось прилагать к тому особых усилий. Попик, увидев кошель, облизнулся, и Рейневан вручил ему дар каноника без всякого сожаления. Не считая, сколько там лежит денег. Конечно, он тут же получил необходимые сведения. Отец Филициан сказал все, более того, был готов дополнительно выдать несколько секретов, услышанных на исповеди, однако Рейневан вежливо отказался, поскольку имена исповедовавшихся ни о чем ему не говорили, а их грехи и прегрешения не интересовали его вообще.
Он выехал из Стшелина утром. Почти без шелёнга за душой. Но веселый и счастливый.
И ехал он отнюдь не туда, куда велел каноник. Не по главному тракту на запад, через Дубовые горы, вдоль южного подножия Радуни к Свиднице и Стжегому. Совершенно вопреки категорическому запрету, повернувшись к массиву Радуни и Слёнзе спиной, Рейневан ехал на юг, вверх по Олаве, по дороге, ведущей в Генрикову и Зембице.
Он выпрямился в седле, ловя ноздрями очередные милые ароматы, приносимые ветром. Пели птички, пригревало солнышко. Ах, как же прекрасен мир. Рейневана так и подмывало закричать от радости.
Прекрасная Адель, Гельфрадова жена – о чем сказал ему отец Фелициан в обмен за весящий около тридцати грошей кошель, – хоть, казалось бы, и удерживаемая швагером Стерчей в лиготском монастыре цистерцианок, ухитрилась сбежать и обмануть погоню. Сбежала в Зембицы, чтобы там затаиться в монастыре кларисок. Правда, рассказывал попик, вылизывая кастрюлю, – правда, зембицкий князь Ян, узнав об этом, строго приказал монашенкам выдать жену своего вассала. И посадил ее под домашний арест до выяснения проблемы предполагаемого чужеложства. Но – тут отец Фелициан крепко и кисло отрыгнул – хоть грех требует наказания, женщина в Зембицах находится в безопасности, со стороны Стерчей ей уже не грозят ни самосуд, ни самоуправство. Князь Ян – тут отец Фелициан высморкался – однозначно предостерег Апеча Стерчу и даже на допросе пальцем ему погрозил. Нет, Стерчи уже не смогут сделать невестке ничего плохого… Не в силах.
Рейневан направил гнедого через желтый от коровяка и фиолетовый от люпина луг. Ему хотелось смеяться и кричать от радости. Адель, его Адель показала Стерчам кукиш, выставила их дураками и растяпами. Они-то думали, что обложили ее в Лиготе, а она – шмыг! И только ее и видели. Ах как, наверное, кипятился Виттих, как ругался и изрыгал бессильные проклятия Морольд, как чуть было не захлебнулся кровью Вольфгер! А Адель галопом, ночью, на сивой кобыле с развевающейся косой…
«Впрочем, – спохватился Рейневан, – у Адели нет косы. Надо взять себя в руки, – подумал он трезво, подгоняя жеребчика. – Ведь Николетта, амазонка со светлой, как солома, косой, не значит для меня ничего. Конечно, она спасла меня от погони, отвела преследователей, за это я при случае отблагодарю ее. Господи, к ногам паду. Но люблю я Адель, и только Адель. Адель – владычица моего сердца и моих мыслей, я думаю только об Адели, мне вообще нет дела ни до той светлой косы, ни до того голубого взгляда из-под собольей шапочки, ни до тех малиновых уст, ни до тех соблазнительных бедрышек, охватывающих бока сивой кобылы…
Я люблю Адель. Адель, от которой меня отделяют всего-навсего три мили. Если пустить коня галопом, я попаду к зембицким воротам еще до того, как пробьет полдень.
Спокойно, спокойно. Не горячиться. Сначала, поскольку это по пути, надо воспользоваться оказией и навестить брата. Когда освобожу Адель из княжеских застенков в Зембицах, мы вместе убежим в Чехию или Венгрию. И Петерлина я могу уже никогда не увидеть. Необходимо попрощаться с ним, объяснить. Попросить братского благословения».
Каноник Отто запретил. Каноник Отто приказал – чтобы по-волчьи, ни в коем случае не по людным тропинкам. Каноник Отто предупредил, что погоня может поджидать в районе Петерлинова хозяйства.
Но Рейневан и тут знал, как поступать.
В Олаву впадал приток, речка, скорее даже ручей, бегущий в камышах, едва видимый под балдахином ольх. Рейневан двинулся вверх по нему. Он знал дорогу. Дорогу, которая вела не в Бальбинов, где Петерлин жил, а в Повоёвицы, где он работал.
Первый сигнал, что до Повоёвиц уже недалеко, подал через некоторое время именно тот ручеек, по берегу которого Рейневан двигался. От ручейка пошел запах, вначале слабый, потом все более ядреный, наконец просто ужасный. Одновременно изменился цвет воды, причем радикально – она стала красно-коричневой. Рейневан выехал из леса и уже издалека увидел причину этого – огромные деревянные стояки сушильни, с которых свисали покрашенные куски полотна и штуки сукна. Все перебивал красный цвет, о котором уже поведал ручеек, но были также ткани голубые, темно-синие и зеленые.
Рейневан знал эти цвета, которые теперь уже больше говорили о Петре фон Беляу, нежели тинктуры[136] родового герба. Впрочем, в этом была определенная, хоть и небольшая часть его собственного участия – он помогал брату получать красители. Причиной глубокого, живого пурпура окрашенного у Петерлина сукна и полотен была секретная композиция из алькермеса, румянки и марены. Все оттенки синего Петерлин получал, смешивая сок черники с вайдой, причем вайду – как редко встречающуюся в Силезии – он выращивал сам. Вайда, смешанная с шафраном, давала прекрасную яркую зелень.
Ветер подул в сторону Рейневана и принес с собой такой «аромат», от которого начали слезиться глаза и сворачиваться волоски в ноздрях. Красители, отбеливатели, щелочи, кислоты, сода, глиноземы, пепел и жиры были исключительно пахучи. Не слабо воняла также протухшая сыворотка, в которой – следуя фламандской рецептуре – замачивали полотна на последней стадии процесса отбеливания. Однако все это не перебивало запаха используемого в Повоёвицах основного средства – устоявшейся человеческой мочи. Мочи, которую в огромных кадках выдерживали около двух недель, а потом обильно использовали в валяльнях при сваливании сукна. Эффект был таким, что повоёвицкая сукновальня разом со всей округой воняла мочой так, что хуже не придумаешь, а при благоприятных ветрах вонь могла доходить до цистерцианского монастыря в Генрикове.
Рейневан ехал по берегу красной и воняющей, как выгребная яма, речки. Он уже слышал сукновальню – непрекращающийся гул вращаемых водой приводных колес, стук и скрип шестерен, скрежет рычагов; на все вскоре наложился глубокий, сотрясающий грунт грохот – удары молотов, толкущих сукно в ступах. Сукновальня Петерлина была предприятием современным, кроме нескольких традиционных узлов с пестами, у нее были приводимые в движение водой молоты, валявшие лучше, быстрее и ровнее. И громче.
Внизу над речкой, за дальними сушильнями и множеством ям красильни, виднелись постройки, сараи и навесы валяльни. Там, как обычно, стояли не меньше двадцати телег самого различного размера и конструкции. Рейневан знал, что это были телеги поставщиков, привозящих сукно для валяния, – Петерлин импортировал из Польши большое количество поташа и тканей. Репутация Повоёвиц делала свое дело: сюда приезжали ткачи со всей округи, из Немчи, Зембиц, Стшелина, Гродкова, даже Франкенштейна. Он видел ткацких мастеров, толпящихся вокруг валяльни и наблюдающих за работой, слышал их крики, пробивающиеся даже сквозь гул машин. Как обычно, они лаялись с валяльщиками касательно способа укладки и переворачивания сукна в ступах. Среди них он заметил нескольких монахов в белых рясах с черными ладанками, это тоже не было новостью, Генриковский монастырь цистерцианцев изготовлял значительные количества сукна и ходил у Петерлина в постоянных клиентах.
Но вот кого Рейневан не видел, так это именно Петерлина. Его брата очень часто видывали в Повоёвицах, так как он привык объезжать весь район. На коне, чтобы выделяться. В конце концов, Петер фон Беляу был рыцарем.
Что еще удивительнее, нигде не было видно тощей и высокой фигуры Никодемуса Фербрюггена, фламандца из Гента, большого мастера по валянию и крашению.
Своевременно вспомнив предупреждение каноника, Рейневан въехал в застройки скрытно, прячась за возами постоянно прибывающих клиентов. Надвинул на нос шапку, сгорбился в седле. Не обращая на себя чьего-либо внимания, подъехал к дому Петерлина.
Обычно шумный и полный народу дом казался совершенно пустым. Никто не ответил на его окрик, не заинтересовался ударом дверей, в длинных сенях не было ни живой души. Он вошел в комнату.
На полу перед камином сидел мэтр Никодемус Фербрюгген, седовласый, подстриженный как мужик, но одетый как господин. В камине гудел огонь. Фламандец не переставая рвал и бросал в огонь листы бумаги. Он уже заканчивал. На коленях оставалось всего несколько листов, а в огне чернела и извивалась целая кипа.
– Господин Фербрюгген!
– Jezus Christus, – фламандец поднял голову, бросил в огонь следующий лист, – Jezus Christus, господин Рейнмар… Какое несчастье, молодой господин… Ужасное несчастье!
– Что за несчастье, господин мастер? Где мой брат? Что вы тут сжигаете?
– Minheer[137] Петер велели. Сказали, что ежели что-нибудь случится, вынуть из сундука, сжечь, да поскорее. Так сказали: «Ежели что, Никодемус, не дай Бог, случится, сожги быстрее. А сукновальня должна работать». Так сказали minheer Петер… En het woord is vlees geworden[138].
– Господин Фербрюгген… – Рейневан ощутил, как от страшного предчувствия у него поднимаются волосы на голове. – Господин Фербрюгген, говорите же. Что за документы? И какое слово станет плотью?
Фламандец втянул голову в плечи, кинул в огонь последний лист, Рейневан подскочил, обжигая руку, выхватил его из огня, погасил. Частично.
– Говорите же!
– Убили, – глухо проговорил Никодемус Фербрюгген. Рейневан увидел слезу, бегущую по покрытой седой щетиной щеке. – Умер добрый minheer Петер. Убили его. Забили. Молодой господин Рейнмар… такое несчастье, Jezus Christus, такое несчастье…
Хлопнула дверь. Фламандец обернулся и понял, что его последние слова уже никто не слышал.
Лицо Петерлина было белым. И пористым. Как сыр. В уголке рта, несмотря на то что его обмывали, остались следы запекшейся крови.
Старший фон Беляу лежал на поставленном посреди светлицы настиле, окруженный двенадцатью горящими свечами. На глаза ему положили два золотых венгерских дуката, под голову подстелили лапник, запах которого, смешиваясь с ароматом тающего воска, наполнял помещение тошнотворным, неприятным, могильным запахом смерти.
Настил был накрыт красным сукном. «Покрашенным алькермесом в его собственной красильне», – не к месту подумал Рейневан, чувствуя, как слезы набегают на глаза.
– Как… – выдавил он из стиснутого спазмой горла, – как это… могло… случиться?
Гризельда из Деров, жена Петерлина, подняла на него глаза. Лицо у нее было красное и опухшее от плача. К юбке прижались двое всхлипывающих детей, Томашек и Сибилла. Ее взгляд был неприязненным, даже злым. Не очень дружелюбно выглядели тесть и зять Петерлина, старший Вальпот Дер и его неуклюжий сын Кристиан.
Никто, ни Гризельда, ни Деры не соизволили ответить на вопрос Рейневана. Но он и не думал сдаваться.
– Что случилось? Кто-нибудь мне наконец ответит?
– Убили его какие-то, – проворчал сосед Петерлина Гунтер фон Бишофсгейм.
– Бог, – добавил священник из Вонвольницы. Имени его Рейневан не помнил. – Бог их за это покарает.
– Мечом ткнули, – хрипло сказал Матиас Вирт, ближний арендатор. – Лошадь без седока прибежала. В самый полдень…
– В самый полдень, – повторил, складывая руки, вонвольницкий плебан. – Ab incursu et daemone libera nos, domine[139].
– Лошадь прибежала, – повторил Вирт, сбитый немного с толку молитвенным отступлением, – с окровавленным седлом и чепраком. Тогда я начал искать и нашел. В лесу, сразу за Бальбиновом… У самой дороги. Видать, из Повоёвиц господин Петер ехал. Земля там сильно изрыта была копытами, похоже, скопом напали…
– Кто?
– Не ведомо, – пожал плечами Матиас Вирт. – Не иначе, разбойники…
– Разбойники? Разбойники не забрали лошадь? Быть того не может.
– Да кто там знает, что может, а что нет, – пожал плечами фон Бишофсгейм. – Наши с господином Дером кнехты гоняют по лесам. Может, кого и уловят. Да и старосте мы знать дали. Прибудут старостовы люди, проведут следствие, поспрашивают cui bono[140], у кого, значит, были причины для убийства. И кто выгадал на этом.
– Может, какой-нибудь процентщик, – злобно сказал Вальпот фон Дер, – обозлившийся за неуплату процентов? Может, какой «дружок» красильщик решил отделаться от конкурента? Может, какой-нибудь клиент, обсчитанный на ломаный грош? Так оно и бывает, этим и кончается, когда о происхождении забывают и с хамами породняются. В купечика играют. Кто с кем связывается, тот таким и становится. Тьфу! Отдал тебя за рыцаря, дочка, а теперь-то ты вдова…
Он вдруг замолчал, и Рейневан понял, что виной тому был его взгляд. В нем боролись отчаяние и бешенство, то одно брало верх, то другое. Он сдерживался из последних сил, но руки у него дрожали. Голос тоже.
– А не видели ли часом поблизости, – выдавил он, – четырех конных? Вооруженных? Один высокий, усатый, в разукрашенной куртке. Один небольшой, с коростами на морде…
– Были такие, – неожиданно проговорил плебан. – Вчера, в Вонвольнице, подле церкви. Как раз на Ангела Господня звонили… О, свирепыми выглядели они рубаками. Четверо. Воистину наездники Апокалипсиса…
– Я знала! – крикнула осипшим, сорванным от плача голосом Гризельда, уставившись на Рейневана взглядом, которого не постыдился бы и василиск. – Знала, едва тебя увидела, негодяй! Это из-за тебя. Из-за твоих грешков и делишек!
– Второй фон Беляу. – Вальпот Дер с ехидством подчеркнул титул «фон». – Тоже благородный. Только для разнообразия – знаток пиявок и клистиров…
– Негодяй! Негодяй! – все громче кричала Гризельда. – Кто бы ни были убийцы отца этих детей, они по твоему следу прибыли. Одно только несчастье из-за тебя. Завсегда брату от тебя один только стыд да позор. И заботы. Ты чего сюда заявился? Наследством запахло, ворон? Убирайся! Убирайся вон из моего дома!
Рейневан с величайшим трудом усмирил дрожащие руки. Но не произнес ни слова. Он аж кипел внутренне от бешенства и негодования и еле сдерживался, чтобы не бросить всей этой Деровой кодле в лицо все, что думает об их семейке, которая могла разыгрывать из себя господ только благодаря деньгам Петерлина, которые им приносила валяльня. Но сдержался. Петерлин был мертв. Лежал убитый, с венгерскими дукатами на глазах, в светлице собственного дома в поселке, в окружении коптящих свечей, на настиле, покрытом красным сукном. Петерлин был мертв. Совершенно неуместны, отвратительны были ругательства и обвинения здесь, рядом с его телом, отвратительна была сама мысль об этом. Кроме того, Рейневан боялся, что стоит только ему открыть рот и он разрыдается.
Он вышел, не проронив ни слова.
Траур и подавленность висели над всем бальбиновским поселком. Было пусто и тихо. Слуги куда-то скрылись, понимая, что скорбящим родственникам не следует попадаться на глаза. Не лаяли даже собаки. Их вообще не было видно. Кроме…
Он протер все еще залитые слезами глаза. Сидящий между конюшней и баней черный британ не был привидением. И исчезать не собирался.
Рейневан быстро пересек двор, вошел в сарай со стороны тележной. Прошел вдоль корыта для коров – постройка была одновременно и конюшней, и хлевом, – дошел до перегородок для лошадей. В углу выгородки, которую сейчас занимала лошадь Петерлина, сидел на корточках среди развороченной соломы и ковырял ножом глинобитный пол Урбан Горн.
– Того, что ты ищешь, здесь нет, – сказал Рейневан, удивляясь собственному спокойствию. Походило на то, что своими словами он не захватил Горна врасплох. Тот, поднимаясь, смотрел Рейневану в глаза.
– Правда?
– Правда. – Рейневан вытащил из кармана недогоревший кусочек листа, небрежно бросил его на глинобитный пол.
Горн по-прежнему не вставал.
– Кто убил Петерлина? – шагнул к нему Рейневан. – Кунц Аулок и его банда по приказу Стерчей? Господина Барта из Карчина тоже прикончили они? Что тебя с ними связывает, Горн? Зачем ты явился сюда, в Бальбиново, спустя едва полдня после смерти моего брата? Откуда знаешь о его тайнике? Зачем ищешь в нем документы, сгоревшие в Повоёвицах? И что это были за документы?
– Беги отсюда, Рейнмар, – сказал Урбан Горн, растягивая слова. – Беги отсюда, если тебе жизнь дорога. Не жди даже, пока похоронят брата.
– Сначала ты ответишь мне на вопрос. Начни с самого главного: что связывает тебя с этим убийством? Что связывает с Кунцем Аулоком? Не вздумай лгать!
– И не подумаю, – ответил Горн, не опуская глаз, – ни лгать, ни отвечать. Для твоего же блага, кстати. Возможно, тебя это удивит, но такова истина.
– Я заставлю тебя отвечать, – сказал Рейневан, делая шаг вперед и извлекая кинжал. – Я заставлю тебя, Горн. Если понадобится – силой.
О том, что Горн свистнул, свидетельствовало только то, что он сложил губы. Звук слышен не был. Но только Рейневану. Потому что в следующий момент что-то с чудовищной силой ударило его в грудь.
Он рухнул на пол. Придавленный тяжестью, открыл глаза только для того, чтобы увидеть у самого носа оскал черного британа Вельзевула. Слюна собаки капала ему на лицо, запах вызывал тошноту. Зловещее горловое урчание парализовало страхом. В поле зрения появился Урбан Горн, прячущий за пазуху обгоревшую бумагу.
– Ни к чему ты меня не можешь принудить, парень. – Горн поправил на голове шаперон. – Ты просто выслушаешь то, что я скажу по доброй воле. Более того – по доброте. Вельзевул, не шевелиться.
Вельзевул не пошевелился, хотя видно было, что желание шевелиться у него было велико.
– По доброте, – повторил Горн, – я тебе советую, Рейневан: беги. Исчезни! Послушай совета каноника Беесса, а я голову дам на отсечение, что он тебе кое-что посоветовал, порекомендовал, как выпутаться из положения, в которое ты вляпался. Не отмахивайся, парень, от указаний и советов таких людей, как каноник Беесс. Вельзевул, не двигаться. А что касается твоего брата, – продолжал Урбан Горн, – мне ужасно неприятно. Ты даже понятия не имеешь как. Ну, бывай. И береги себя.
Когда Рейневан открыл глаза, зажмуренные перед почти касающейся лица мордой Вельзевула, в конюшне уже не было ни собаки, ни Горна.
Притулившийся у могилы брата Рейневан корчился и трясся от страха, сыпал вокруг себя соль, смешанную с пеплом орешника, и дрожащим голосом твердил заклинание. Все меньше веря в его силу.
Wirfe saltce, wirfe saltceNon timebis a timore nocturnoNi mori, ni gościa z ciemnościAni demona.Wirfe saltce[141].Чудовища клубились и буйствовали во мраке.
Хоть и понимал, что рискует и теряет время, тем не менее он дождался похорон брата. Не дал, несмотря на потуги невестки и ее родни, отговорить себя провести ночь рядом с упокоившимся, принял участие в заупокойной службе, выслушал мессу. Стоял рядом со всеми, когда в присутствии рыдающей Гризельды, плебана и немногочисленной похоронной процессии Петерлина опустили в могилу на кладбище за стародавним вонвольницким храмом. И только тогда уехал. То есть сделал вид, будто уехал.
Когда опустилась ночь, Рейневан поспешил на кладбище. Уложил на свежей могиле волшебные предметы, набранные – о диво – без особых сложностей. Самая старая часть вонвольницкого акрополя прилегала к вымытому речкой яру. Земля там немного осыпалась, поэтому доступ к древним захоронениям трудностей не составил. В магический арсенал Рейневана вошли даже гвоздь из гроба и фаланга трупа.
Однако не могла ни фаланга трупа, ни сорванные у кладбищенской ограды борец, шалфей и нивяник, ни заклинания, которые он шептал над идеограммой, выцарапанной на могиле кривым гвоздем из гроба, ничем помочь. Дух Петерлина, вопреки заверениям магических книг, не вознесся в эфирном виде над могилой. Не заговорил. Не подал знака.
«Если б здесь были мои книги, – подумал Рейневан, расстроенный и обескураженный многочисленными неудачными попытками. – Если б у меня были «Lemegeton» или «Necronomicon»… Венецианский хрусталь… Немного мандрагоры… Если б у меня была реторта и удалось дистиллировать немного эликсира… Если бы…»
Увы, гримуары, хрусталь, мандрагора и реторта были далеко, в Олесьнице. Либо, что более вероятно, в руках Инквизиции.
Из-за горизонта быстро надвигалась гроза. Раскаты грома, сопровождаемые розблесками неба, были все ближе. Ветер утих, воздух сделался мертвым и тяжким как саван. Близилась полночь.
И тогда началось.
Очередная молния осветила церковь. Рейневан с изумлением увидел, что колокольня кишит ползающими вверх и вниз паукообразными существами. У него на глазах несколько кладбищенских крестов зашевелились и наклонились, одна из дальних могил сильно взбухла. Из тьмы над яром долетел треск разламываемых гробовых досок, потом послышалось громкое чавканье… А затем вой.
Когда он снова принялся сыпать вокруг себя соль, руки тряслись у него словно в лихорадке, а губы с трудом удавалось заставить пробормотать заклинание.
Наиболее сильное движение пришлось над яром, в самой старой заросшей ольховником части кладбища. Того, что там происходило, Рейневан, к счастью, не видел, даже молнии не выхватывали из мрака ничего, кроме размытых форм и силуэтов. Однако очень сильные ощущения поставлял слух – разбушевавшаяся среди старых могил компания топала, рычала, выла, свистела, ругалась и вдобавок клацала и скрежетала зубами.
– Wirfe saltze…
Какая-то женщина тонко и спазматически хохотала, какой-то баритон под аккомпанемент дикого хохота остальных язвительно пародировал литургию мессы. Кто-то дубасил по барабану.
Из мрака появился скелет. Немного покружил, потом присел на могилу, да так и сидел, обхватив опущенный на грудь череп костяными руками. Вскоре рядом с ним уселось существо с огромными ступнями и тут же принялось их бешено чесать, при этом охая и постанывая. Задумчивый скелет не обращал на него внимания.
Мимо проплелся мухомор на паучьих ногах, за ним вскоре приковыляло что-то похожее на пеликана, но вместо перьев покрытое чешуей, причем клюв «пеликана» был полон обломков зубов.
На соседнюю могилу запрыгнула огромная лягушка.
И было там еще что-то. Что-то, что – Рейневан мог поклясться – неотрывно наблюдало за ним. Оно было совершенно скрыто во мраке, невидимо даже при вспышке молний. Но внимательный взгляд выхватывал из тьмы глазища, светящиеся, как гнилушки. И длинные зубы…
– Wirfe saltze. – Он сыпанул перед собой остатки соли. – Wirfe saltze…
Неожиданно его внимание привлекло медленно двигающееся светлое пятно. Рейневан следил за ним, ожидая очередной молнии. Когда та сверкнула, он к своему изумлению увидел девушку в белой просторной женской рубахе, срывающую и складывающую в корзину огромную кладбищенскую крапиву. Девушка его тоже заметила. Подошла, правда, не сразу, поставила корзину, не обратив никакого внимания ни на скорбящий скелет, ни на кошмарное творение, чешущее между пальцами огромных ступней.
– Ради удовольствия? – спросила она. – Или по чувству долга?
– Э… По чувству долга… – Он переборол страх и понял, о чем его спрашивают. – Брат… Брата у меня убили. Он здесь лежит…
– Ага. – Она откинула со лба волосы. – А я здесь, видишь, крапиву собираю…
– Чтобы сшить рубахи, – вздохнул он, немного помолчав. – Для братьев, заколдованных в лебедей?
Она долго молчала, потом сказала:
– Странный ты. Крапива пойдет на полотно, а как же. На рубашку. Только не для братьев. У меня братьев нет. А если б были, я б никогда не позволила им надеть такие рубашки.
Она гортанно засмеялась, видя его мину.
– Чего ради ты с ним вообще болтаешь, Элиза? – проговорило то зубастое, невидимое в темноте. – Какой смысл? Утром пройдет дождь, размоет соль. Тогда ему голову отгрызут.
– Это непорядок, – проговорил, не поднимая черепа, скорбный скелет. – Непорядок.
– Конечно же, непорядок, – подтвердила названная Элизой девушка – Он же Толедо. Один из нас. А нас уже мало осталось.
– Он хотел поговорить с мертвяком, – пояснил появившийся словно ниоткуда карлик с торчащими из-под верхней губы зубами. Он был пузат, как арбуз, голый живот торчал из-под слишком короткой истрепанной камзельки. – С мертвяком хотел поболтать, – повторил карлик. – С братом, который туточки лежит похороненный. Хотел получить ответ на вопросы. Но не получил.
– Значит, надо помочь, – сказала Элиза.
– Конечно, – сказал скелет.
– Само собой, брекекек, – сказала лягушка.