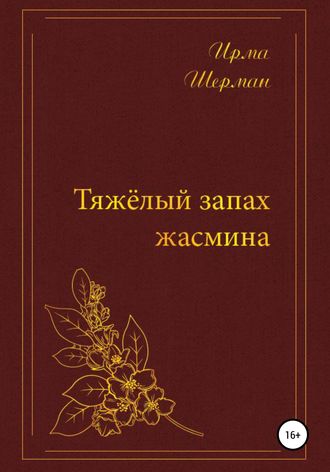 полная версия
полная версияТяжелый запах жасмина
– Идём, Коля, покушаешь, обогреешься, а там видно будет, что нам делать. – Она улыбнулась, взяла его за руку, и они вдвоём пошли к дому. В первой комнате, в которую они вошли, топилась русская печь, возле печи была пристроена лежанка, а у стены стояла, застеленная покрывалом с подушками, положенными одна на одну, широкая кровать. Почти посередине комнаты стояли стол и четыре стула. На стене висела рамка с фотографиями, а у дверей лежала небольшая дорожка-коврик. В комнате было тепло, уютно и чем-то очень вкусно пахло. Сёма стоял у двери, боясь пройти и сесть у стола.
– Ну, что, Коля, – обратилась к нему хозяйка дома, – снимай кожушок и шапку, помоем руки и будем кушать. – Сёма снял кожушок и шапку, и положил их у двери. – А что это за платок, которым ты подвязан? – спросила она.
– А это моей мамы… – он хотел сказать – «мамы– Симы», но остановился и продолжил: – память о маме, – сказал и вдруг зашёлся в кашле. Женщина, с поспешностью родного человека, подала ему стакан тёплой воды, которую он пил глотками, в промежутках между кашлем, а когда выпил весь стакан, попросил ещё. Ведь он тёплой воды не пил с тех пор, как у него украли флягу. Возвращая пустой стакан, он спросил:
– А как вас зовут?
– Антонина Петровна, – ответила она, улыбнулась и продолжила: – давай, Коля, помоем руки и будем кушать.
Тарелка с борщом уже стояла на столе, когда открылась дверь и в комнату вошли два полицая, один совсем молодой, а второй постарше. Сёма, не двигаясь с места, испуганно смотрел на вошедших.
– Здравствуйте, Антонина Петровна, – поздоровались они.
– Здравствуйте, здравствуйте, – ответила она и, смеясь, продолжила: – Как я помню, на сегодня гостей не приглашала?
– А мы не в гости, а по делу. Надо проверить пацана, откуда он и кто он такой. У нас директива, за подписью начальника полиции. Вот мы и выполняем приказ. Такая уж у нас работа, – ответил тот, кто постарше. Оказалось, что это староста села, об этом сказала Антонина Петровна, после того, как они ушли, а сейчас он подошёл к Сёме, который стоял, как бы застыв на месте, ожидая самого худшего, что только может произойти. «Неужели они узнали кто я такой?» Эта мысль не покидала его с момента их появления.
– Ну, пацан, как тебя звать? – обратился он к Сёме.
– Коля, – последовал ответ.
– Коля? А может иначе? Может тебя Изей зовут? – Сёма понял, что это, просто проверка, и они не знают, кто он.
– Я сказал, что меня зовут Коля!
– Так, так… А документ у тебя есть?
– Есть, – ответил Сёма, и расстегнул ворот рубашки, чтобы достать свидетельство о рождении, которое хранилось в кармане, пришитом изнутри. И тут староста увидел на шее крестик.
– Гляди! – обратился он к молодому полицаю, – Крестик нацепил!
– Не «нацепил», а это мне мама повесила, когда я ещё маленьким был, – ответил Сёма, всё стараясь вытащить клеёнчатый мешочек, где хранилась «Метрическая выписка».
– Ну, добро! Крестик так крестик! Давай снимай штаны! – приказал староста.
Тут Антонина Петровна, которая наблюдала за всем этим со стороны, не выдержала:
– Да что это вы издеваетесь над мальчишкой?! Вы что, не видите, что он еле-еле на ногах держится?! Надо же и совесть иметь!
– Не встревай, Антонина Петровна, не надо! Мы тебя уважаем, ты его бывшая учителька, – он указал на молодого полицая, – ты ведь и моего сына учила, мы тебе за это благодарны, благодарны за твою работу, так не мешай нам, мы тоже делаем свою работу! Ну, давай снимай, раз приказали! – обратился он снова к Сёме. И тут Сёма вспомнил, как говорил Фёдор, что есть приказ разыскивать и расстреливать скрывающихся евреев. И он понял, чего от него хотят! Они хотят убедиться, не еврей ли он? Для него это было не страшно, он не прошёл еврейский религиозный обряд, или, вернее, ритуал обрезания, о чём знал, и теперь не боялся этих полицейских служак. Антонина Петровна отвернулась, а Сёма медленно стал расстёгивать пуговицы.
– Пошевеливайся, зараза! – закричал полицай и замахнулся на него кулаком, но не ударил, а когда убедился, что перед ним стоит не еврейский мальчишка, приказал одеться и дать документ, который Сёма так и не успел достать из кармана. Глядя в документ, полицай снова начал допрашивать.
– Так как тебя звать?
– Коля!
– А отца как звать?
– Андреем.
– А мать?
– Пашей.
– Так, так! А как твоя фамилия?
– Любченко.
– А откуда ты родом?
– Из села Зеленовка!
– Откуда, откуда?! – переспросил он, заглядывая в документ, как бы сверяя правдивость ответа.
– Из Зеленовки, – повторил Сёма, и что-то вроде страха закралось в его душу. «Почему это он так заинтересовался, откуда я? – подумал он. – Но ведь там написано, где я родился и жил?» И тут староста придвинулся поближе и, пристально вглядываясь в его лицо, произнёс:
– Я тоже из Зеленовки, да вот давно там не был. Считай, что с того самого времени, как посадили в тридцать втором. Так ты, Коля, Андрея Афанасьевича сынок?! Во здорово! Я и мать твою знаю, Пелагею Ивановну. Так чего же это ты из дома сбежал и болтаешься по сёлам, как сирота? Я ведь тебя знал, когда ты совсем маленький был, лет пять или шесть, всё стриженным по селу бегал. Ну, так рассказывай, чего из дома сбежал?
– Не сбежал я! Мы жили вдвоём с мамой, а отца, как забрали на войну, так от него ни слуху, ни духу. А когда я заболел, то мама меня отвела в больницу. Это уже было при немецкой власти, а когда я поправился и пришёл домой, то узнал, что мама погибла, подорвавшись на мине, и я остался один. Запер дом и теперь хожу от села к селу, а что будет дальше, не знаю. Вот и всё, что я могу рассказать. – Он замолчал, глядя то на пожилого, то на молодого полицая.
– Пора осесть где-нибудь, а то скоро зима, а без крыши и замёрзнуть недолго. Ну, давай, Антонина Петровна, корми Миколку, а мы своё дело сделали, и пора уходить. – Он вышел первым, а за ним последовал и молодой. Сёма сел к столу и начал есть.
– Ты знаешь, Коля, я подумала, что пока ты ешь, – она поставила на стол ещё одну тарелочку с варёной картошкой, пересыпанной вяленым луком, и продолжала, – то я пойду и разогрею баньку. Это у нас на огороде, одна- единственная на всё село! Я ведь из России, а там без баньки никак нельзя. У каждого есть. Вот мы с мужем и построили, он вообще был на все руки мастер! Ну, я пойду, а ты ешь, – сказала и ушла топить баньку для паренька, которого недавно увидела, но вдруг почувствовала, что сама судьба привела его к ней в дом. Когда Антонина Петровна возвратилась, то застала Сёму спящим. Она дотронулась до его плеча и тихо сказала:
– Коля, просыпайся, банька готова.
Он поднял голову, вглядываясь в лицо стоящей возле него женщины, и с хрипом произнёс:
– Спасибо, тётя Тоня! – и улыбнулся ей, как мог улыбаться только усталый, больной, переживший страшную трагедию подросток. Банька была маленькая, в которой могли поместиться не более, чем два взрослых человека. Сёма вошёл первым, горячий воздух пахнул ему в лицо, он сел на скамейку, на которой лежал узелок с чистой одеждой, поднял голову и посмотрел на свою спасительницу, которая стояла рядом.
– Ну, Коля! – обратилась Антонина Петровна к нему. – Вот здесь разденешься, а всю свою одежду уложишь вот в этот мешок, а когда закончишь мыться, оденешь то, что я тебе приготовила, а твою я постираю. Так что раздевайся и иди, мойся, хорошо пропарься, а вот этим, берёзовым веничком, хорошо похлестай себя, думаю, что вся твоя хворь испарится с горячей водичкой. Ну, давай, как говорится: «С Богом!» А я пойду, обед приготовлю. Ты купайся, а я, погодя, приду за тобой!
Она ушла, а Сёма разделся и вошёл в ту часть баньки, где в углу была большая плита, в которую был вмонтирован котёл, в котором кипела вода, заполняя небольшое помещение паром. На широкой скамейке стоял большой таз, а в противоположном углу бочка с холодной водой. Он ковшиком налил в таз горячей воды, разбавил холодной и стал мыть голову, намыливая её хозяйственным мылом. Мылся он тщательно, ведь он этого не делал с тех пор, как распрощался с Василием Ивановичем и ушёл в неизвестность осенней ночи. Мылся он долго, стараясь теплом и горячей водой изгнать хворь из своего тела, но она брала своё. Он чувствовал тяжесть во всём теле, душил кашель, болело в груди и сил становилось всё меньше и меньше. Когда пришла Антонина Петровна, то Сёма был почти полностью одет и сидел, опустив голову, в ушах звенело, дышать было тяжело и клонило ко сну. Увидев Антонину Петровну, он улыбнулся, обрадовавшись её приходу.
– С лёгким паром, Коля! Одевайся и пошли в дом, пообедаешь и отдохнёшь.
Она видела, что Сёма болен, но старалась об этом не говорить, чтобы не расстраивать его. Он шёл как в тумане, кружилась голова, идти было очень тяжело. Войдя в дом, он сел возле стола, тяжело дыша, Антонина Петровна помогла ему снять верхнюю одежду и пододвинула поближе к нему тарелку с горячим борщом.
– Что-то мне не хочется кушать, – тихо сказал он.
– Ну, тогда выпей чашку молока и полезай на печь, там поспишь, отдохнёшь и сил наберёшься!
Сёма выпил молоко, разделся и еле-еле взобрался на табурет, потом на лежанку и уже оттуда на печь, где была приготовлена постель.
Антонина Петровна, стоя у стола, смотрела ему вслед и, немного погодя, вздохнув, пошла заниматься хозяйственными делами. Когда за окном сгустились вечерние сумерки – предшественники осенней ночи – она снова вошла на кухню, подошла к лежанке, прислушалась – было тихо – и, постояв немного, как бы вслушиваясь в тишину, пошла к себе в спальню. Уснула она далеко за полночь, а под утро приснился сон. Снилось родное село под Курском, которое утопало в зелени вековых деревьев, усыпанный цветами луг, по которому, будучи ещё ребенком, бегала по утрам к реке, чтобы окунуться в прохладную, утреннюю, чистую, как слеза, воду. Снилось, что она, муж – Костя и маленький Славик приехали в гости к её матери и отцу. Мать поочередно всех расцеловала, а отец поклонился и пригласил в дом. Застолье, которое организовали в саду за длинным столом, где собрались родные и односельчане, проходило весело и радостно, как всегда бывает в хороших снах. Сновидения сменяли друг друга: вот они идут втроём к реке по цветущему лугу, вот и скамейка, неизвестно, кем и когда построена. Они с мужем разместились на ней и наслаждаются, глядя, как среди цветов резвится их маленький сынишка.
Вдруг стало темнеть, солнце погрузилось в чёрную тучу, ей стало страшно, она повернулась в ту сторону, где сидел муж, но его нигде не было. И в это самое время из-за высоких деревьев камнем упала громадная птица, впилась длинными когтями в тельце Славика, взмыла вверх и полетела в сторону леса, держа его в больших когтистых лапах. Она бросилась в ту сторону, куда полетела птица, но вдруг наступила кромешная тьма, Антонина остановилась, закричала, и этот жуткий крик обезумевшей матери разнёсся по всей поляне, повиснув над притихшей рекой и отозвавшись эхом у далекого леса. Она проснулась, поднялась и села на кровати, охватив голову ладонями, покачиваясь из стороны в сторону, а в ушах всё ещё звучал тот крик, от которого она никак не могла избавиться, а за окном в это время просыпался еле-еле заметный, утренний рассвет. Посидев немного, встала, умылась, оделась и пошла, доить корову. Управившись, Антонина Петровна пришла на кухню, поставила ведро с молоком на табуретку возле печи и тут же услыхала какое-то бормотание, исходившее от того места, где лежал Коля. Она подошла и спросила: «Ты что, уже не спишь?» Но взамен ответа послышались какие-то неразборчивые слова. Почувствовав что-то неладное, взобралась на лежанку, заглянула на печь, прислушалась и поняла, что он бредит. Сойдя вниз, быстро постелила постель и перенесла его на кровать, которая стояла у стены, возле лежанки, а он, будучи без сознания, продолжал бредить. Антонина Петровна измерила ему температуру и ужаснулась: на термометре было сорок и один. Эта молодая и добрая женщина металась по кухне, не зная, что делать и чем помочь бедному, немощному пареньку, к которому она так быстро привязалась, как к родному сыну. Она намочила тряпочку в холодной воде и положила ему на лоб, а он вдруг закашлялся и начал задыхаться.
– О, Господи! Да что это такое?! Почему и за что мне такая кара?! В чём я провинилась?!
Она причитала и плакала. Надев стеганую фуфайку и накинув платок, подошла к кровати и обратилась к больному и задыхающемуся мальчику: «Не умирай, Коленька, не умирай, сыночек!» – И бросилась к двери. Выскочив из дома, она бежала по центральной улице села, не видя дороги и не отвечая на приветствия односельчан, которые останавливались и с недоумением глядели ей вслед. Она бежала к Афанасьевне, к бабе–лекарке, которую не так давно критиковала за «знахарство», бежала с надеждой на её помощь, не переставая уверять себя, что «она поможет! Она вылечит!» Домик, в котором жила Ефросинья Афанасьевна, стоял почти у самого сельского кладбища, окружённый высокими деревьями. В небольшой комнатке, куда вошла Анастасия Петровна, за грубо сколоченным столом спиной к двери сидела старушка, нарезая какие-то травы и коренья.
– Здравствуйте, Ефросинья Афанасьевна! – поздоровалась Антонина Петровна, оставаясь стоять у двери.
– Здравствуй, здравствуй! – не поворачиваясь, ответила хозяйка дома. – Чего пришла к бабе–«шарлатанке»? Ведь так ты нарекла меня при всём честном народе? Ну, что ж молчишь? Говори, чего пришла?
– Ох, Ефросинья Афанасьевна! Не держи на меня зла, прости меня, молю тебя, помоги беде моей, спаси моего сыночка от страшной болезни, вылечи его, не дай умереть! – сказала и, задохнувшись, разрыдалась.
– Свят, свят! – замахала руками старушка, повернувшись к плачущей женщине. – Ты что? Рехнулась, что ли? Ведь, как я помню, мы твоего сыночка Славика, считай три года тому как схоронили!
– Прости меня, глупую. Это у меня не просто с языка сорвалось. Нет, нет! Вчера в мой двор мальчонка прибился. Выхожу я из сарая, где корове сена подбросила и стала запирать двери, и вдруг слышу голос за спиной: «Тётенька, дайте что-нибудь, я уже два дня ничего не ел». Повернулась и вижу, стоит, небольшого роста мальчик, худой, худой и грязный, смотрит на меня своими голубыми глазами, а в них мольба застыла. Как глянула на него, сердце сжалось, гляжу в эти голубые глаза, в тёмных ресницах и на рыжий чубчик, который выбился из-под шапки, оторваться не могу. Ну, копия мой Славик, стоит, смотрит на меня и молчит, а у меня слеза глаза затуманила, слова сказать не могу и, вдруг, мне показалось, что и впрямь, мой сыночек возвратился ко мне. Привела его в дом, накормила, затем он в баньке искупался, а сегодня утром пришла на кухню, а он на печи что-то бормочет и кашляет. Поднялась я к нему, а он весь в жару и бредит. Перенесла его на кровать, а он закашлялся и стал задыхаться. Я испугалась и к вам побежала, Ефросинья Афанасьевна, помоги, не дай ему умереть! Ведь я как бы заново сыночка заимела. Вот и вся беда моя тут, – закончила она, вытирая слёзы.
Ефросинья Афанасьевна быстро встала из-за стола, взяла небольшую кошёлочку, вложила в неё бутылочки и банки с настоями трав, оделась, открыла дверь и громко сказала: «Пошли!» И первая вышла на улицу. Шли быстро, подгоняемые осенним, холодным ветром, спеша спасти человеческую жизнь, а в это самое время мимо села, по «большаку», неслись немецкие машины, в кузовах которых сидели солдаты.
Войдя в дом, Антонина Петровна подошла к кровати, где тяжело дыша, лежал Сёма, и стояла, глядя на него, не зная, что делать; а Ефросинья Афанасьевна сняла верхнюю одежду и, подойдя к Антонине, отстранила её, вынула из кармана деревянную медицинскую трубочку, какими пользовались в то время медицинские работники, и начала прослушивать больного. Сначала спину, затем грудь, а Сёма всё ещё был без сознания и что-то бормотал в бреду. Закончив осмотр, она возвратилась к столу и начала вынимать принесённые банки и бутылки с лекарствами, настоянными на травах, приговаривая: «Плохо, очень плохо!» – а Антонина Петровна стояла рядом и с немым вопросом глядела на неё.
– Не горюй! – обратилась к ней Ефросинья Афанасьевна. – Поборемся, Бог милостив! Надо надеяться, что твой – как ты говоришь – «сынок» поправится. А вот теперь смотри и запоминай! Из этой банки пои Колю по одной чайной ложечке через каждые три часа, а этим настоем бодяги натирай спину на ночь, а вот чтобы он пропотел, постарайся влить в рот вот этот настой, а если не пропотеет, то повторишь. Делай всё так, как я сказала, и надейся, что всё это поможет и, дай Бог, поправится мальчонка. – Она оделась и пошла к выходу, но возле дверей остановилась и, не поворачиваясь, сказала: – Если будет плохо – беги за мной! – и, не прощаясь, ушла.
Трое суток Сёма не приходил в сознание, и Антонина Петровна почти не отходила от его кровати, выполняя все указания Ефросиньи Афанасьевны. Никто не смог бы точно сказать, когда она спала, да и спала ли она вообще, управляясь со всем хозяйством и дежуря у постели больного. Ночью, на четвёртые сутки, Антонина Петровна, сидя возле кровати, задремав, уронила голову на подушку рядом с головой Сёмы и уснула. Проснулась, словно от толчка. Солнце только-только поднималось над просыпающимся лесом и тонким, ещё не окрепшим лучом стыдливо заглядывало в окно. Вокруг стояла тишина, но какая-то необъяснимая тревога закрадывалась в душу. Она напряжённо вслушивалась в непривычную тишину и никак не могла понять, что же её так встревожило?! И вдруг она резко поднялась и взглянула на больного «сыночка», как она его в душе называла, который не бредил, и ей вдруг показалось, что он не дышит. Низко наклонившись, взволнованно позвала: «Коля!» Сёма открыл глаза и мутным взглядом всматривался в наклонившееся над ним лицо, а потом тихо сказал: «Мама», – и снова закрыл глаза. «Мама, мама», – с дрожью в голосе повторяла и повторяла эта добрая женщина, которая три года не слышала этого слова, и только сейчас его произнёс мальчик, который так похож на её родного сыночка – Славика. «Сыночек, сыночек мой!» – со слезами повторяла она, веря, что к ней вернулся её родной сын. Она нежно гладила Сёмины рыжие волосы, где пролегла широкая полоса седых волос и, вспоминая всё то, что он говорил в бреду, понимала, что он пережил страшную трагедию, но какую, она просто не могла себе представить. С этого дня он пошёл на поправку, а через два дня уже мог сидеть в кровати, опустив ноги. Антонина Петровна была бесконечно рада и старалась как можно лучше накормить и напоить Колю, к которому всё больше и больше разрасталось и укреплялось её материнское чувство, святое чувство матери, которое только затаилось, но продолжало жить в ней, не угасая, с тех пор, как похоронила своего родного, единственного сына. На завтра, после того, как Сёма пришёл в сознание, пришла Ефросинья Афанасьевна, проведала больного, сказала, что продолжать пить, а что прекратить; посоветовала давать утром и вечером парное молоко с мёдом. Порадовалась, что Коля пошёл на поправку и, как пришла, тихо-тихо и ушла, отказавшись от продуктов, предложенных Антониной Петровной. А через несколько дней Сёма, по мере возможного, уже помогал своей спасительнице по хозяйству. Однажды утром, когда они сидели вдвоём в кухне, Сёма, не глядя на Антонину Петровну, спросил:
– А можно я останусь у вас до весны?
Она улыбнулась своей доброй материнской улыбкой, встала, подошла к нему, прислонила его голову к себе и, поглаживая её, проговорила:
– Нет, нет, Коленька, ты никуда не уйдёшь, ни зимой, ни весной, ни летом, ты будешь тут жить, и я буду тебя любить и беречь, как родного сына!
Она поцеловала его седую прядь и, отстранив его голову, отошла к окну, вглядываясь вдаль, сквозь навернувшиеся слёзы, а за спиной, где сидел Сёма, была тишина, и в этой тишине послышался его полушёпот:
– Спасибо, спасибо большое, Антонина Петровна, за вашу доброту, за всё то, что вы для меня сделали! Вы мне помогли, вылечили и заботитесь, как может заботиться только родная мама, – и, помолчав, спросил: – А можно мне вас называть Мама–Тоня?
Она вздрогнула, в голове пронеслось и как бы прозвучало имя «Мама–Сима», которое она часто слышала, сидя у кровати бредившего Коли, и не могла понять, зная, что у него мать не мама–Сима, а Поля, у него и в документе так написано, но он ни разу не назвал этого имени. Что это за имя, она не знала, но чувствовала, что за ним кроется какая-то тайна. Антонина Петровна, оторвав взгляд от окна и подходя к сидящему за столом Сёме, говорила:
– Можно, можно! Зови меня так, а я тебя «сыночком» называть буду. Ведь я своего сыночка-Славика схоронила, не уберегла, а теперь ты моим сыном будешь. – Она поставила стул возле Сёмы, села рядом и, заглядывая ему в глаза, спросила: – Согласен? – Он ничего не ответил, а взял её руку, несколько раз поцеловал и разрыдался, а Антонина Петровна обняла его и так они сидели, не говоря ни слова, уйдя в глубину своих воспоминаний, и только часы-ходики чётко и громко нарушали тишину, отсчитывая минуты военного времени.
Во второй половине дня, Антонина Петровна пошла, истопить баньку, но когда она подошла к двери, то увидела, что задвижка, которой закрывалась дверь, отодвинута. Осторожно приоткрыв дверь, заглянула и ничего подозрительного не заметила, но когда вошла, то увидела троих мужчин в рваных советских гимнастёрках, один держал пистолет, направленный в сторону двери, а двое других стояли по обе стороны.
– Закрой дверь! – обратился к ней тот, который был с пистолетом. – В селе немцы есть?
– Нет! – ответила она, продолжая стоять у двери. – Есть только староста и полицай.
– Это хорошо, что немцев нет! А мужик твой где?
– Воюет! Может так, как и вы мытарствует, а может уже и нет в живых, кто знает? Только того и есть, что война да смерть!
– Поесть бы чего? – сказал один из стоявших у двери.
– Я сейчас принесу. У меня там чугунок с картошкой, а вы притаитесь и не выходите, чтобы вас староста не увидел. Плохой он человек, от него всего можно ожидать! Я мигом.
– Смотри, не продай! Нам ведь терять уже нечего! – предупредил тот, что с пистолетом.
Зайдя в дом, сказала:
– Коля! Беги на Пчелиный хутор, ты ведь дорогу хорошо знаешь, там разыщи Ярину Матвеевну, домик её стоит почти над обрывом, а если у кого будешь спрашивать, то спрашивай «пасечницу», там её все знают. Передай ей, чтобы немедля шла ко мне, что я её жду по очень важному делу, а сам возьмёшь у неё баночку мёда и беги домой! Да, всё же ей скажи о солдатах.
Когда Антонина Петровна вошла в баньку, неся котелок и дрова, которыми прикрывала его, то застала своих «гостей» в каком-то настороженном состоянии. Так это ведь и понятно, когда люди боятся погони и предательства, невольно всё настораживает. Она вошла, как и положено хозяйке, остановилась и приказала, обратившись к самому молодому солдату:
– Закрой дверь и возьми чугунок.
Чугунок был передан старшему, тому, что был вооружён пистолетом, охапку дров хозяйка положила в углу, а «Старшой» начал делить картошку. Разделили поровну и каждый, получив свою положенную часть картошки, ел, не очищая её, плохо прожёвывая, ел так, как едят очень проголодавшиеся люди, а Антонина Петровна смотрела на них сквозь слёзы, которые застилали её добрые и, казалось бы, почти ко всему привыкшие глаза.
Ярина Матвеевна появилась у порога дома, когда сгустились осенние сумерки. Из-за леса, медленно надвигалась тяжёлая дождевая туча. Ветер гнал по дороге жёлтые листья, то утихая, то снова набирая силу, свистел и завывал в пустых проводах, раскачивал ветки деревьев, словно играя с ними, забирался во все щели и вдруг снова утихал, как бы к чему-то прислушиваясь, а потом снова начинал своё озорство.
В баньку пошли вдвоём. Первой вошла Антонина Петровна, а за ней Ярина Матвеевна. Солдаты встретили их настороженно, разглядывая вновь появившуюся женщину. В баньке было очень тесно и темновато, и разглядеть вошедших, а ещё и незнакомого человека, было очень сложно.
– Здравствуйте, хлопцы! – обратилась к ним Ярина Матвеевна. – Бояться меня нечего, я пришла к вам с добром, а не злом! – И засмеялась таким добродушным смехом, что не поверить ей было просто невозможно. – Итак, хлопцы, – продолжала она, – как я понимаю, вам нужна помощь, о которой вы сейчас молчите, но каждый из вас понимает, что в нынешнем вашем положении она необходима. Вот я и пришла, чтобы вам помочь, но сначала хочу знать, с кем имею дело, и кто вы такие? Ведь нынче всякие блуждают по сёлам и хуторам. Иди знай кто чем дышит? Солдаты молчали, и в тесном помещении повисла тревожная тишина, где каждый боялся довериться другому, кто знает, как всё обернётся?! Ведь сейчас везде и всюду смерть гуляет! И всё же, переборов недоверие и сомнения, «Старшой», как его назвала Антонина Петровна, нарушив молчание, спросил:
– А тебя-то, как зовут?
– Ярина! А вот как тебя величать?
– Сергеем меня мать нарекла! – ответил он и, помолчав, продолжил, – Попали мы в плен под Лохвицей, это на Полтавщине, почти на границе с Сумской областью. Там немец окружил и пленил большое количество наших солдат, говорили, что чуть ли не две армии. Вначале держали нас прямо в поле, где большой участок земли обнесли колючей проволокой. Много было раненых, из которых большая часть умерла. Мы тут же их и хоронили. Есть почти ничего не давали, а через неделю начали отбирать по сто пятьдесят человек и уводить куда-то, а куда – никто не знал. Вскоре отобрали очередную партию, в которую попали и мы. Шли весь день, а к вечеру нас пригнали на территорию бывшей воинской части, где был оборудован лагерь для военнопленных. Гоняли на работы по восстановлению железнодорожных путей, на строительство каких-то объектов, а четыре дня тому назад погнали нас на станцию, где начали грузить в вагоны – «теплушки». Две «теплушки» были уже полностью забиты людьми, двери которых еле-еле закрылись, а когда почти загрузили третий вагон, и оставалось совсем немного, наши самолеты начали бомбить железнодорожные пути, где стояли немецкие эшелоны. Кто-то из охранников поспешно закрыл двери вагона, а во время очередного взрыва охрана разбежалась, и те, кого не успели погрузить, нырнули под вагоны. Мы тоже последовали их примеру. Перебегая от одного состава к другому, мы выскочили на пустырь, где бежали те, которых, как и нас, не успели погрузить. Они бежали по открытой местности туда, где чернел лес, а немецкий офицер и солдат расстреливали бегущих. Мы снова нырнули под вагон, и в это время над пустырём появился самолёт, обстрелял то место, где метались несчастные люди, одновременно убив офицера и солдата, развернулся и улетел, а мы выскочили из-под вагона, побежали в сторону леса, спотыкаясь о лежащие тела убитых. Я подобрал пистолет, который лежал возле мёртвого офицера, а Артур подобрал автомат. Добежав до опушки леса, мы остановились и посмотрели в ту сторону, где была железнодорожная станция и увидели страшное зрелище. Всё пылало, взрывались цистерны с горючим и, как видно, взрывались снаряды, которые были в одном из воинских эшелонов. Стоя за деревьями, мы глядели на бушующий водоворот огня, понимая, что те, кто был закрыт в вагонах, сгорели заживо, а мы вот уже третьи сутки как блуждаем в лесу. Решили идти на восток, к своим, а дойдём или нет, так это, бабка надвое гадала! Ну, что ж! Не дойдём, то будем бороться с фашистами тут! Время покажет, как и что делать! – он помолчал и, как будто сам с собой размышляя, продолжил: – А пока, как ни крути, как ни верти, а помощь нам всё же нужна!

