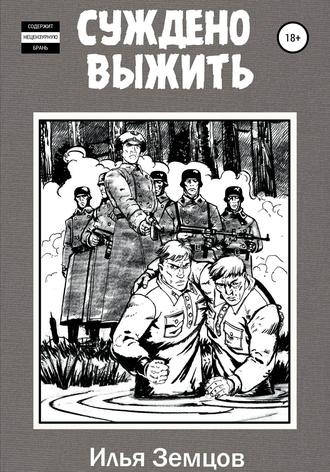 полная версия
полная версияСуждено выжить
«Знаем мы этих пижонов, – раздался раздраженный голос. – Они говорят, что не пьют, не курят, а на самом деле…» Излить свою горечь ему не дал сосед. Звонким, еще не испорченным голосом он сказал: «Не знаешь человека, а говоришь. Не суди обо всех так». Кто-то поправил и захохотал: «Свекровь, ведьма, снохе не верит».
Врачи ушли. Вместо медсестры ко мне определили здоровенного парня-санитара. Он, как часовой, сидел у моей кровати, поправлял воткнутые в тело иглы. Кроме рук, головы и левой ноги все мое тело было надежно защищено гипсовым панцирем. Поэтому уколы и вливания делали в руки выше локтей и в бедро левой ноги. Вся кожа была истыкана иглами разных диаметров. На руках и здоровой ноге от уколов образовалось несколько нарывов. Больная нога не давала не только уснуть, но и забыться ни на одну минуту. Я лежал с крепко сжатыми зубами и думал о смерти. Она, только она, может избавить меня от холодного, пахнущего могилой гипса, который охватил мое тело, мешал даже дышать.
Всем умом и всеми силами я не хотел показывать свою слабость, но временами от приступа боли невольно стонал. Через определенное время санитар давал мне полстакана раствора брома. Бром боли не унимал. В качестве снотворного давали люминал, он тоже на меня никакого действия не оказывал.
При очередном обходе врачей на заданный мне вопрос «Как себя чувствуешь?» я попросил: «Избавьте меня, пожалуйста, от незаслуженных мук. Дайте мне чего-нибудь, чтобы я уснул и больше не проснулся».
В ответ мне прочитали целую лекцию. Назвали меня меланхоликом, малодушным, слабохарактерным. Сказали, что рано собрался умирать. Процитировали несколько страниц из романа Островского "Как закалялась сталь".
«Они правы, – думал я. – Жить надо ради отца и матери. Ради своего будущего. Ради Родины, которой еще могу оказать ту небольшую, скромную помощь, на которую я буду способен».
Думы мои нарушил хирург: «Я вас оперировал, я отвечаю за вашу жизнь». Он подал мне полный стакан водки и приказал выпить. Я двумя глотками выпил. На дне стакана оказались какие-то нерастворенные кристаллы. Их я разжевал и проглотил, не ощущая ни вкуса, ни запаха. «Молодец, сейчас тебе будет легче», – похвалил хирург и ушел.
Из желудка по телу растеклись приятные теплые струйки. Через несколько минут мне полегчало. Казалось, нахожусь в невесомости. Куда-то лечу, как воздушный шар. Я уснул.
Со слов санитара, спал более трех часов. Когда проснулся, острой боли уже не чувствовал. Только давил со всех сторон и мешал мне дышать холодный гипс. Я как будто был замурован в железобетонную стену, из которой выхода нет и не будет. Я мерз, не согревали одеяла, принесенные санитаром. Я задыхался, гипс не давал возможности свободно дышать, от него отвратительно пахло. В голове роились мысли: «Как избавиться от гипса?» Не думая о последствиях, я просил санитара, медсестру освободить мне грудь и спину. Умолял их, что, если они не снимут гипс, я обязательно умру. Сытый голодному не верит. Здоровый боли больного не ощущает.
Я стал не просить, а требовать. Наконец, сестра доложила ведущему хирургу. Он разрешил выпилить окно в моем гипсовом панцире. Пришел временно исполняющий обязанности санитара из выздоравливающих. Судя по манерам, он был не новичком на этой работе. Искусно используя пилу, долото, нож и молоток, за десять минут проделал окно в моем гипсовом панцире. Грудная клетка сверху освободилась, дышать стало легче. Но ненадолго. Гипсовый панцирь свои челюсти полностью не разжал. Он давил на мое тело и сковывал все движения. Аппетита не было. Выданные для аппетита водка и вино не помогали. Пил много воды и глюкозы. К продуктам не притрагивался. Сестра ежедневно предлагала все разнообразие кухни. Готовили на заказ из наличия продуктов. Исполняли все прихоти, капризы и желания. Как только приносили заказы, от них становилось дурно, тошнило. Я просил брусники или клюквы. Медработники госпиталя все находили и приносили мне. Они выражали не только душевность и заботу, но и любовь к каждому больному, каждому раненому. Этот чисто русский коллектив госпиталя отдавал все свои силы, даже вкладывал личные ценности для излечения тысяч людей и скорого возврата их в строй.
Выздоравливающим госпитального пайка не хватало. Свой рацион я отдавал тем, кто нуждался. За это мне один парень подарил большой складной нож. Я сразу же приступил к освобождению грудной клетки от гипса. Резал целую ночь. К утру вырезал всю верхнюю часть, то есть соединил с окном. Грудная клетка стала свободной. Мне казалось, что я лежу в корыте для стирки белья. Недвижимость больной ноги была нарушена. При каждом движении тела стали ощущаться резкие боли.
При обходе хирург строго спросил: «Кто помогал тебе резать гипс? Сам ты этого сделать не мог». Я ответил: «Никто не помогал, все сделал сам». «Не верю», – раздраженно повторил хирург и тяжелым взглядом посмотрел на медсестру. Она покраснела, хотела что-то сказать. Он прервал ее на полуслове: «Поговорим после, не надо ваших объяснений. Покажи, чем ты резал?» Я вытащил из-под одеяла нож внушительных размеров, показал его с обеих сторон и тут же спрятал обратно. «Немедленно отдайте, – полушепотом заговорил он. – Мальчишка, притом не имеющий на плечах головы. Об уме и речи нет. Ты думал, что делал? Для твоего выздоровления мы сделали все необходимое. Ты захотел покончить жизнь самоубийством? Тогда завершай свою грязную работу. Если думаешь выздороветь и быть полезным нашему обществу, будь добр, выполняй все предписания врачей. Запомни раз и навсегда, ранение твое тяжелое. Для срастания костей нужен абсолютный покой. Ты что, хулиган, сделал? Ты нарушил его. Одного ты не хочешь понять. Смена гипса не улучшит, а ухудшит твое состояние и вызовет нестерпимые боли».
«Они не прекращались, доктор», – ответил я. «Что с тобой делать, не знаю. До свидания, – сказал он. – Своим поведением ты отталкиваешь от себя медсестер и врачей».
Сестра принесла мне стакан воды со следами брома и сделала укол, по-видимому, морфия. Мне стало легко и приятно. Казалось, лежу на перине под теплым одеялом. Я мгновенно уснул.
Когда проснулся, во рту была неприятная горечь, болела голова. Мой гипсовый панцирь увеличился в объеме. Все мои ночные труды были напрасны. Грудная клетка до самой шеи была замурована в сырой холодный гипс. Подаренный нож бесследно исчез.
Несмотря на душевный уход и заботу врачей, мое состояние с каждым днем ухудшалось. По все спине появились раны, пролежни гноились. Гной в гипсовом панцире скапливался и медленно вытекал на подостланную пленку, проникал на простыню, матрац и одеяло. От моей кровати по всей палате распространялся смрадный запах. Проходя мимо, больные морщились и отворачивались. Я начинал гнить живым. Ни тепла, ни холода не ощущал. Наступило полное безразличие ко всему. Я думал только о том, как избавиться от мучительного гипса, сковывающего все мое тело. Моим спасением было снотворное, но врачи его не прописывали. При появлении у кровати сестры у меня была одна просьба: «Сестра, снотворного». Медсестры, чтобы отделаться от назойливого больного, вместо снотворного давали таблетки аспирина, кальцекса и другие. После них боли на мгновение исчезали, но через несколько минут все начиналось снова.
Для меня время шло медленно. Казалось, час был равен целым суткам. Счет времени я потерял. Из больных теперь никто не хотел сидеть у моей кровати и дышать смрадом, вытекающим из моего тела. Даже санитарки и сестры не хотели долго задерживаться вблизи меня. На скорую руку сделают уколы, дадут таблетки и уходят. Многие больные требовали вынести меня из палаты. Но врачи, видимо, во всем громадном монастыре не находили для меня свободного изолятора. Ждали моей смерти. Я был безнадежен.
В конце февраля было объявлено, что госпиталь эвакуируется ближе к фронту. Об этом говорило само название госпиталя – «Эвакогоспиталь». Фронт от Тихвина отодвинулся далеко. Немцы отступали от осажденного Ленинграда, сделав свое черное дело. Около 2 миллионов человек погибли от голода, холода и военной машины. Наши войска освободили Чудово и Любань. Бои шли за Великий Новгород.
Всех движимых раненых отправили из госпиталя. Остались одни тяжелораненые. Всех их собрали в большом зале монастыря. Тех, кого можно было одеть, облачали в их обмундирование, остальным военную форму и личные вещи клали рядом на столики. Принесли мое обмундирование, личные вещи и полевую сумку. В сумке хранились документы, фотографии и адреса родных, убитых и раненых товарищей. Самое ценное – это дневник, который я вел с начала войны. В нем были фамилии командиров и моих лучших товарищей с адресами их родственников.
Нас приготовили к отправке. Помещение монастыря больше не топили. Наступила неприятная прохлада. Заботливые санитарки и медсестры всех перекладывали на носилки и укрывали теплыми одеялами и шинелями. Гимнастерки, брюки и личные вещи клали под головы или отдавали в руки на усмотрение больных. Полевую сумку положили мне под голову. Больных поочередно стали выносить на санитарные автомашины для перевозки к железной дороге и погрузки в вагоны. В огромный монастырский зал ворвался чистый холодный воздух. Не дождавшись, пока меня вынесут, я крепко уснул. Проснулся от разговора и толчка санитаров, поднявших носилки. Моя полевая сумка исчезла. Я попросил санитаров вызвать дежурного врача. Вместо него подошла медсестра. Она внимательно выслушала меня, успокаивающе сказала: «Ваша сумка обязательно найдется». Она записала, как сумка выглядит и что в ней находится. Санитары подхватили носилки с моим истощенным телом, замурованным в гипс, вынесли из гостеприимного монастыря, занесли в санитарный автобус, который был наполнен до предела. Мой полуживой труп на носилках поставили на пол в проход, автобус тут же тронулся. На станции Тихвин нас погрузили в пассажирские вагоны, теплые и чистые. Два дюжих санитара легко положили носилки с моим телом на среднюю полку. Прощай, Тихвин, которого я не видел. Прощай, моя полевая сумка, в которой осталось самое ценное. Дневник постараюсь восстановить.
Поезд плавно тронулся. Сарафанное радио передало: едем в город Бокситогорск, где для нас приготовлен госпиталь. От Тихвина до Бокситогорска расстояние всего 50-60 километров. Ехали мы целый день. В пункт назначения прибыли вечером.
На западе догорали последние отблески зари. Холодное зимнее небо было усеяно большими и малыми звездами, яркими, тусклыми и еле заметными.
Из вагонов нас вытащили и, как неодушевленный груз, положили на перрон. Недалеко от меня располагался небольшой вокзал. Через несколько минут я стал ощущать холод. Я ждал и думал, что нас занесут в теплое помещение вокзала. Но не тут-то было. Меня завернули в ватное одеяло. Мне еще повезло. Моему соседу с загипсованными обеими ногами – его гипсовый панцирь доходил, как и у меня, до шеи – ватного одеяла не досталось. Я предлагал ему свою шинель, но он наотрез отказался. Первые минуты лежать было очень приятно. Холодный чистый воздух усыпляюще действовал на все тело. Хотелось спать. Через 12-15 минут гипс стал охлаждаться. Тело начали колоть холодные иглы. Мой шабр застучал не только зубами, но и челюстями. Холодный ветер сек лицо морозной пылью. Струилась, ползла по перрону и железнодорожным путям сыпучая поземка, подгребая под себя шпалы, добираясь до нас. Я спросил своего шабра: «Как дела?» Ответил он не сразу. Сначала постучал зубами, затем разинул рот и долго держал его открытым. Я подумал, что у него примерз язык.
Раненые шумели, стонали, кричали. На перроне творилось что-то неописуемое. Многие, кто с момента ранения считался тяжелым и кому было запрещено ходить, сейчас покидали свои носилки и поползли по направлению к помещению вокзала. Мое положение было не из легких. Не только двигаться, я не мог самостоятельно повернуться на бок. Санитарки и медсестры ходили и успокаивали: «Голубчики, подождите еще две-три минуты. Слышите гул автомашин? Они едут за вами». Автомашин не было. Становилось невыносимо холодно.
Моему шабру повезло. Из вокзала вышел пожилой старший лейтенант, его знакомый, с подвязанной левой рукой. Он снял с себя полушубок и надел на него. Старший лейтенант стоял у наших голов, как статуя, и ругался хриплым басом, подбирая самые острые, едкие ругательства в адрес госпитального начальства. Грозился написать в Ставку Верховного Главнокомандования и лично Жукову. Не излив до конца наболевшего, он вернулся в здание вокзала.
Холод, говорят, успокаивающе действует на организм. От него опьянеешь, как от наркотиков, а затем приятно уснешь. Конец приходит в приятном сне.
Неподготовленность, дикое обращение с тяжелоранеными быстро дошли до партийного руководства района. Приехал главный врач больницы с флягой водки. Всем лежащим на перроне выдали по стакану водки. После выпитого мне на мгновение стало легко и тепло. Но через несколько минут сделалось невыносимо холодно. Зубы самопроизвольно стали выбивать чечетку. Зато шабр оказался в более выгодном положении. Он выпил два стакана и сейчас мычал себе под нос какую-то арию. Он говорил, что согрелся, только ноги от гипса мерзнут. На мне гипсовый панцирь настолько охладился, что согреть его можно было только в теплом помещении.
«Слушай, друг, за какие грехи нас мучают?» – громко заговорил мой шабр с левой стороны, до этого лежавший смирно, укутавшись с головой в ватное одеяло. Лица его я не видел, и голос он подал впервые. Я пытался повернуть к нему голову и рассмотреть его. Но как на грех шея не ворочалась. «Я не выдержу, застрелюсь», – чуть потише сказал он. «А у тебя есть чем?» – спросил я. «Да», – ответил он глухим сдавленным голосом. «Слушай, будь другом, дай мне. Я попробую первым. После выстрела положу на тебя руку, тогда ты возьмешь», – посоветовал я. «Сначала я, – повелительно сказал он. – Тяни сюда руку». Я вытянул к нему левую руку. В этот момент раздался выстрел. Холодный пистолет оказался в моей руке. По привычке пистолет перехватил в правую руку. Нажал на спусковой крючок – осечка. Подбежавший санитар выбил из моей руки пистолет. «Эх ты, растяпа, – пробурчал пьяный правый шабр. – Я бы тоже не прочь». После выстрела моего мертвого соседа и меня окружила толпа зевак. Все кричали, возмущались. Грозили госпитальному начальству. Прибежали медсестры и дежурный врач. Меня сразу унесли в здание вокзала. Вслед я услышал слова врача: «Готов труп». Я подумал, что он говорит про меня. Поднял обе руки вверх, пощупал голову и сказал: «Пока не готов, не труп, а живой». Шедший сзади санитар привел меня в мыслящее состояние. Он сказал: «Да не ты, дурило. Твой шабр готов».
На вокзале негодующе кричали и возмущались все – и военные, и гражданские. Появилась первая автомашина. Меня загрузили первым. Привезли в двухэтажное здание барачного типа. Занесли в чистую теплую комнату с двухэтажными кроватями. Положили к стене на втором этаже. Измученный пережитым за день, я в первый раз с момента ранения крепко уснул.
Не знаю, сколько спал. Когда проснулся, у моей кровати стояла медсестра. Она ласково спросила: «Может, хотите покушать? Как вы себя чувствуете?» Из глубины комнаты раздался мужской голос: «Он проснулся?» «Да», – ответила сестра. У моей кровати появились трое мужчин в белых халатах. Один из них ласковым голосом спросил: «Как вы себя чувствуете?» Я ответил пересохшей гортанью: «Хорошо». «Будем знакомиться, – раздался повелительный голос. – Майор госбезопасности Пронин и замполит госпиталя майор Головин». «Очень приятно», – выдавил я из пересохшего рта. Я смотрел на них широко открытыми глазами и думал: «Что им от меня надо?» На мгновение они закрутились вместе с палатой и моей кроватью с быстротой маховика. Когда все встало на свои места, ласковый голос снова спросил: «Вам дурно?» «Нет, ничего, – ответил я. – Что-то стала кружиться голова». «Вы сможете ответить нам на несколько вопросов?» – спросил Пронин. «Пожалуйста», – ответил я.
Началась беседа, похожая на допрос. Задавались вопросы: фамилия, имя, отчество, где родился, где крестился и так далее. Сначала я отвечал, затем, извиняясь, сказал: «Товарищ майор, прошу вас, посмотрите мою историю болезни, там все это есть».
Пронин вспылил. Заговорил грубо, не позволяющим возражения голосом: «Ты что, не хочешь отвечать на мои вопросы?» Я ответил: «Если вы будете говорить со мной таким тоном, то да».
«Как ты смеешь так со мной разговаривать? – закричал Пронин. – Ты просто негодяй. Будь немного похожим на человека. Мы поговорили бы с тобой. Ты бы у меня заговорил нужным тоном. Но если будешь жить, я тебя не забуду».
«Не пугай, майор, я не из трусливого десятка. Что вам от меня надо? Воевал я не хуже вас, тыловой крысы». Я горячился и тоже перешел на крики и на «ты». «Ты, гад, еще не нюхал пороху, а прицепился к беспомощному человеку. Лучше иди и цепляйся к тем, на кого у тебя ложные доносы от твоей сопливой агентуры. Будь я здоровым, мы бы еще посмотрели, кто кому дал».
Пронин затрясся, как малярийный, заикаясь, кричал: «Он мне угрожает!» Сунул к моему носу патрон. «Отвечай, дистрофик, почему хотел застрелиться? Если бы не осечка, ты был бы мертв, как и твой друг, с которым вы наделали столько шуму». Я выхватил у него патрон. Он поймал меня за кисть, но руки его оказались очень слабыми. Я легонько толкнул его. Он упал вместе с табуреткой, на которой стоял.
«Несите его в изолятор под арест». «Не сходите с ума, майор, – тихо сказал Головин. – Хорошо, что в палате ни одной души, иначе могли бы прославиться на весь Советский Союз. Вы думайте, что говорите». «Думаю, – крикнул Пронин, выругался нецензурной бранью. – Да я из него сейчас отбивную сделаю».
«Товарищи, оставьте его в покое, он слишком слаб, – сказал доктор. – Из него немцы уже сделали не отбивную, а ромштекс».
Пронин снова встал на табуретку, закричал: «Отдай патрон!» «Не отдам, – ответил я. – Лучше дай свой пистолет и одолжи еще один патрон. Я сначала в тебя выстрелю, а потом еще раз попробую, пущу себе в висок. Тогда мы с вами обязательно встретимся, только не живыми, а мертвыми. В загробном мире. Тогда бы я посмотрел, кто кому показал бы кузькину мать».
«Он сошел с ума, пошли. До свидания». «Всего доброго, товарищ майор, желаю вам счастья, побывать на переднем крае и поучаствовать в боях с немцами».
Майоры ушли, доктор встал на табуретку, ласково проговорил: «Покажите, пожалуйста, что за зверь этот патрон?» «Минуточку, доктор, сначала сам посмотрю», – ответил я. Патрон был обыкновенный, как и сотни миллионов, которые ежедневно выпускала наша промышленность. Боек пистолета сделал на капсюле вмятину, но капсюль почему-то не сработал. Доктор взял из моих рук патрон, молча, внимательно осмотрел, вздохнул и негромко сказал: «Напрасно, молодой человек, из-за мелочи и глупостей рискуешь своей жизнью». «Может, разрешите мне патрон оставить у себя на память? Пожалуйста, доктор», – попросил я. Он пожал мою руку и ушел.
В палату стали вносить раненых, привезенных с вокзала. Положили вниз на мою кровать и заполнили соседние. Первый разговор между ранеными: «Вася, ты здесь?» «Да, Коля. Хорошо, что мы с тобой попали в одну палату, нас положили почти рядом. Ты видел, как один застрелился, не выдержал? Говорят, капитан был. Надо же, мертвый после выстрела передал пистолет другому». «Нет, Вася, не видел. Я далеко лежал, а выстрел слышал. Ну а тот что, струсил? Взял пистолет, а не выстрелил?» «Да нет, не струсил. Осечка получилась, говорят, а там Бог знает».
В разговор вмешался бас из глубины палаты: «Хорошо, что санитар вовремя подоспел и вышиб из руки пистолет. Могло быть все – застрелил бы сначала двоих, троих, а потом и себе пулю пустил бы. Да и не пустил бы, с него, по-видимому, нечего и спросить. Говорят, на ладан дышит. Вот отдаст концы».
Ребята для себя сделали неправильный вывод: «Что он этим достиг? Застрелился… Это хлюпик, трус, псих, нездоровый человек. Кому он доказал. Убил себя, и на этом конец. Наверняка у него есть семья, а может и дети. Его ждут. На фронте не погиб, на тебе, отличился, показал из себя героя».
«Ты, Федотыч, не осуждай мертвых. Ты не из храброго десятка. Откромсали тебе ногу ниже колена, и ты говоришь, слава богу, остался жив. Слава богу, туда больше не попаду. Поставь тебя на раскаленный лист железа и дай тебе пистолет. Будешь жариться, а смелости у тебя не хватит пустить пулю в висок. Поэтому бери свои слова обратно. Они не хлюпики, не трусы и не психи, а настоящие смелые парни. Они не прятались от немцев, не лежали сутками, как ты, среди убитых. Врага встречали смело. А ты пролежал сутки в снегу, обморозил себе ногу, а сейчас встреваешь, куда не надо, осуждаешь людей. Из-за них по перрону госпитальное начальство бегом забегало, тут же нашли место и убрали всех в теплые помещения. Если бы не они, возможно, до сих пор бы морозили».
Раздался веселый, почти детский голос: «С одной стороны хорошо, а с другой стороны – человека нет. Да и другой чудом остался жив. Живого сразу утащили, сейчас, наверное, допрашивают, а мертвого убрали».
«А ты помолчи, – проговорил насмешливый голос. – Послушай, что взрослые говорят. Выступаешь без разрешения. Так куда же мертвого убрали?»
«Здесь, говорят, еврейский госпиталь. Начальник госпиталя еврей, все врачи – евреи. Даже половина сестер – еврейки. Вот они издеваются над больными».
«Из какого романа, Володя, ты это вычитал? – спросил тот же голос. – Отвечать надо на заданные вопросы, а не что тебе в голову придет».
«Правильно малый говорит. Весь госпиталь состоит из одних евреев, – подтвердил глухой хриплый бас. – Гады они, их на переднем крае ни одного не увидишь. Все пристроены в тылах. А тут еще как по заказу госпиталь».
Дверь в палату бесшумно распахнулась, вошел врач, к удивлению всех русский, с медсестрой-еврейкой. Первым подошел ко мне. Посчитал пульс. Сестра поставила градусник. Я попросил: «Доктор, пожалуйста, дайте снотворного». Он на мою просьбу сказал: «Сестра, дайте люминала». Со всех сторон раздались голоса: «Доктор, и мне!» «Да тише вы! – закричала сестра. – Потерпите, подойдет к вам доктор, тогда и просите». «А ты, сестричка, не кричи. Мы просим не у тебя, а у доктора, не твоего, а государственного, – заговорил мой сосед снизу. – Родное государство от вшивой немецкой нечисти защищали мы, а не ты». Сестре надо было молчать, но она не сдержалась и крикнула: «А я что делаю?» «Ах, так ты тоже со своим Абхамом здесь Родину защищаешь?» К ее ногам прилетел костыль. Она заплакала, убежала. Ей вслед кричала вся палата: «Твой Абхам на кровати с тобой воюет. Пьет коньяк, курит американские сигареты. Для вас это войны. Нас, мерзавцы, решили морозить на перроне». Врач стоял на табуретке, склонившись надо мной: «Тише ребята, тише, что вы раскричались».
Я думал, сестра убежала, и пропал мой люминал. Однако через минуту появилась другая сестра. Дала мне три таблетки. Я их проглотил и вскоре крепко уснул.
Говорили, что в палате долго кричали. Приходил и всех успокаивал замполит госпиталя. Я ничего не слышал, крепко спал.
На следующий день меня перетащили в другую палату, к таким же безнадежным, как и я. При обходе врачи сказали, что мой гипсовый панцирь оказался непригоден для дальнейшей эксплуатации. Единственный русский врач во всем госпитале был ведущим хирургом и начальником нашего отделения. Он дал распоряжение сменить мне гипс. Я этому радовался. Считал, что смена гипса улучшит мое положение, облегчит мое существование. Но, увы! Какое же было мое разочарование, когда с большим трудом содрали с меня гипс, моя правая раненая нога оказалась неуправляемой. Ощущалась нестерпимая боль. Начальник отделения держал мою ногу обеими руками. Две медсестры оборачивали ее гипсовыми повязками. От нестерпимой боли я сорвался, превратился в шизофреника. Мой язык работал дерзко. Человека, борющегося за спасение моей жизни, моей ноги, я обзывал самыми неприятными словами. Сравнивал его обличие, фигуру с разными животными. Я кричал, что он горилла в очках, безрогий буйвол, безмозглый баран, очковая змея, идиот и так далее. Придумывал до тысячи оскорбительных названий.
Вспоминая этот тяжелый в моей жизни случай, мне всегда заочно становится совестно, неудобно. Тысячи раз в мыслях я извинялся перед этим человеком.
От моих дерзких слов у доктора заметно дрожали руки. Он, казалось, не обращал внимания на мои дерзости. Умело руководил работой. Изредка тихо говорил, давая советы сестрам. Сжимал загипсованную пятку.
В операционную вошел хирург Пьюдик. Он грозно крикнул на меня: «Ты что язык распустил, хулиган!» От его внезапного крика меня дернуло, словно током высокого напряжения. Я вышел из шокового состояния. Думал: «Превратился в хлюпика, нытика и шизофреника. Распустил нервы, дал волю слабости. Надо немедленно извиниться, попросить прощения». С хрипотой в горле я выдавил из себя: «Прости, доктор, за мои дерзости». Хотел еще что-то сказать, но ничего придумать не смог. Снова повторил: «Прости, доктор».
Медсестры заулыбались. Доктор стоял серьезный и, мне казалось, грозный. Он посмотрел мне в глаза и криво улыбнулся. Из-за моей дерзости ему было совестно на меня смотреть. Он отвернулся и встал ко мне спиной. Изредка оборачиваясь, вскользь смотрел на мою кислую физиономию. Несмотря на нестерпимые боли, я нашел в себе мужество молчать. Крепко сжал зубы, был весь мокрый от пота. Когда наложили гипсовый панцирь, доктор внимательно посмотрел на меня и сказал: «Все-таки есть в тебе и сила, и воля. Можешь и держаться». «Извините, доктор, – пробормотал я. – Больше этого не будет». Он ответил: «Ничего. Ваши извинения приняты. Бывает и хуже. Мы, медики, народ привычный ко всему».






