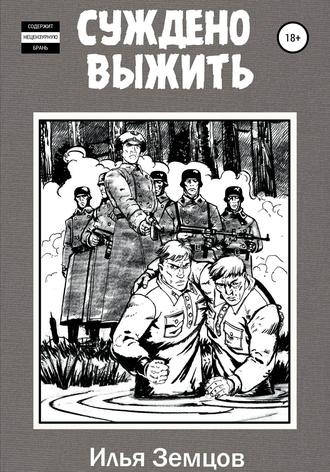 полная версия
полная версияСуждено выжить
В изолятор вошел начальник госпиталя Айзман. Галантно, с еврейским акцентом заговорил, обращаясь ко мне: «Ну, герой, как дела?» Я ответил: «Как сажа бела». «Как это понять?» – переспросил он. «Как хотите, так и понимайте». «Мы тебя сегодня же перетащим из этой кельи в более теплое место. Дела твои идут на поправку. Скоро снова пойдешь громить фашистов. В тебе я сразу увидел настоящего русского солдата». «Спасибо за комплименты, – ответил я. – Из меня уже видимо не получится ни военного, ни гражданского».
Кошкин молчал. Айзман с большим усердием сыпал в адрес Кошкина и меня сотни комплиментов. Он говорил, что за два с половиной года работы в госпитале впервые встретился с настоящими парнями, пробившимися сквозь ад, смрад, огонь и дым с границы Восточной Пруссии, минуя тысячи смертей, с людьми, которые находились в беспрерывных боях с первого дня войны. Айзман признался: «Я счастлив провести с вами несколько минут, свободных от работы. Товарищи, вы – настоящие русские герои».
Казалось, хвалебной речи не будет конца. Кошкин назвал Айзмана по имени и отчеству, поблагодарил за хорошие слова, спросил: «Вы за мной?» «Да, товарищ полковник. Мы решили с замполитом посоветоваться с вами по ряду вопросов». «Идемте, – ответил Кошкин. – Разрешите мне проститься со своим лучшим другом. Судьба нас вряд ли больше сведет».
Начальник госпиталя вышел. Кошкин тихо сказал: «Ну и льстец. Всюду ходит за мной по пятам. Даже поговорить с людьми возможности не дает. Илья, пришла пора сказать до свидания. Хотелось бы о многом поговорить, многое вспомнить. Думаю, что это не последняя встреча».
Он оставил мне адрес жены и взял адрес моих родителей. Обещали друг другу писать. Он поцеловал меня в лоб, пожал мою руку и вышел из изолятора.
В моем теле, в котором еле теплилась жизнь, чувствовалась сильная усталость и какая-то невыразимая тоска. Эта тоска иногда бывает у охотника, когда рядом с его шалашом неотступно, не взирая ни на какие угрозы, целую ночь воет собака.
Я думал: «Вряд ли судьба сведет нас с Кошкиным. На сей раз разошлись мы с тобой как в океане корабли». Это я чувствовал всей душой и телом. Предчувствие меня редко обманывало. «Почему мы больше не встретимся? Значит, один из нас умрет, так как расстояние для встреч не помеха. А кто – об этом думать не надо. Это, по-видимому, сделаю я, судьба это для меня уготовила».
После встречи с Кошкиным и передряги с выпитой водкой у меня появился аппетит. Впервые в изоляторе я попросил есть. По требованию, а может быть по просьбе Кошкина, я был переведен в теплую двухместную палату. Вторая кровать была заправлена по всем правилам женского искусства, но пока она была свободна по причине моей уже отступающей гангрены. Уход и внимание со стороны обслуживающего персонала ко мне возросли. Никаких стимуляторов для возбуждения аппетита мне не давали, но я ел все, что приносили. Ел понемногу, но часто. Чтобы время проходило быстрее, я просил и читал все без разбору книги вплоть до учебников.
Весна вступала в свои права. Днем нежно журчали ручейки. Малые реки и речушки вздувались, поднимая свой ледяной панцирь. Ложбины, тальвеги наполнялись водой и становились мощными водными преградами, не говоря о реках. С юга летели первые стаи гусей и журавлей. Весну чувствовало не только мое искалеченное тело, но и палата, вся скромная госпитальная обстановка. От госпитального обслуживающего персонала пахло весной. В наполненной весенним воздухом палате, мне казалось, пел по утрам свою длинную песню косач-тетерев. Ввысь взвивался веером жаворонок. Под окном на молодых стройных березах насвистывал свои мелодии скворец.
Лежа в гипсовом склепе, я считал себя самым несчастным человеком. Правда, тело уже привыкло, притерпелось ко всем неровностям гипса. Пролежни гноились, но омертвели, обесчувствели. Резких болей, как раньше, не ощущалось. Снотворного мне больше не давали. Уколы морфия заменили лекарством. Вместо люминала давали таблетки аспирина. Кровь вливали через день. Поили противным гематогеном.
В один из апрельских дней, счет которым я потерял, раньше обычного пришла процедурная сестра. Настроение у нее было отличное. Широко улыбаясь, она сказала: «А ну, милок, подставляй руку, будем колоть». В объемистый шприц она влила пузырек крови. Иглу вонзила в вену. Я оттолкнул шприц, высвободил руку и спрятал ее под одеяло. «В чем дело?» – резко спросила сестра. «Вы хотите влить мне не ту кровь, – ответил я. – Покажите флакон». Сестра криво улыбнулась, схватила флакон и поднесла к моим глазам. Я произнес: «Вы лучше сами прочитайте. На этикетке написано "кровь третьей группы"». Сестра бегло взглянула, молчала. Ее узкое, смуглое лицо с ястребиным носом побледнело. Затем на щеках появился румянец. Она тихо прошептала: «Простите, пожалуйста, ошиблась». Почти бегом выскочила из палаты.
Вбежала дежурная сестра, еще не старая женщина, лет 35. Строго спросила: «Что случилось?» Я спокойно ответил: «Да так, ничего. Процедурная сестра ошиблась. Она хотела влить кровь не той группы». Сестра подошла к кровати, поправила одеяло, негромко сказала: «Ты знаешь, чем это могло закончиться?» «Знаю, – ответил я. – Могло бы произойти свертывание крови. Через час стоял бы перед вратами рая. Мне кажется, я заслужил рая своими мученическими делами». «Как вы догадались, что это не та кровь?» – спросила сестра. «Мне кто-то подсказал, – я показал пальцем на потолок. – А откровенно, сестричка, по-видимому, сработал инстинкт, самозащита. После всего перенесенного жить буду, но жениться вряд ли захочу». Лицо сестры расплылось в добродушной улыбке. «Цыплят, милок, по осени считают. Как только вылезешь из гипсовой скорлупы и начнешь ходить, сразу же потянешься к девкам. Знаю я вашего брата, не первый год замужем». Ласковая улыбка не сходила с ее лица.
Вдруг медсестра стала серьезной. Лицо ее как бы вытянулось. Она глухо проговорила: «После всего этого вы еще шутите. А если бы она вам влила эту злосчастную кровь?» Не успел я ответить, как она быстро вышла из палаты.
Я снова остался один. Тяжелые, неприятные воспоминания роились в моей голове. Я вспомнил раннее детство. Мать всегда называла меня невезучим. Что верно, то верно. Действительно, мне не везло. Все сделанное мною оборачивалось против меня. Как только я начал запоминать, в моих мозгах стали откладываться памятные клетки. Как все мальчики, я любил играть с железяками. Отец и старший брат были плохими кузнецами, однако часто работали в кузнице. В первую очередь, для своего хозяйства. Нечасто – на сторону. Я не пропускал ни одного дня при открытых дверях кузницы, чтобы не повозиться с обрубками и обрезками железа. Часто выгоняли или просто по-деревенски брали за шкирку, то есть за ворот рубахи, и выносили из кузницы, драли за ухо или волосы. Я ревел, вырывался, убегал. Все обиды через полчаса забывал и снова появлялся в кузнице. Невзирая на окрики, шел в угол к натасканным мною железкам. Первое, что я отчетливо запомнил, подбросил над собой кусок железа, похожий на гайку. Он достиг потолка и ударил меня по голове. Пошла кровь. Отец взял меня на руки, принес домой, рану залил креолином. По-мужицки выругал и пригрозил матери, если она меня еще раз отпустит из избы, то держись. Но бедной матери за каждым из нас следить было некогда. Нас было шестеро.
Один раз схватил в руки только что откованный молоток. Он сжег до костей кожу и мясо на моих руках. Много раз руки резал ножом, серпом и косой. Два раза тонул. Без счету падал с лошади. Два раза был на рогах у коровы. Два раза меня переезжали на санях, и один раз переехала порожняя телега. Всего перечислить невозможно. Все я помнил отчетливо. Казалось, это было только вчера. От всех этих несчастий, как их называла мать, я отделывался легко – небольшими ушибами. В юности и отрочестве не раз падал с деревьев с высоты 5-7 метров, с возов сена и снопов. Один раз свалился через задний борт идущей автомашины на проезжую часть, покрытую булыжниками. Однако отделался только легким ушибом.
В памяти, как кинолента, в медленном темпе проходила война, с самого первого дня. Рисовал в воображении образы убитых товарищей, которые рядом со мной умирали в наступлении, в обороне или при отступлении. Не раз приходилось выходить из боя с простреленной в десятках мест одеждой. Я оставался жив и даже невредим. Во время боя в голове и всем организме вырабатывалось что-то необъяснимое. Не оборачиваясь назад, не раз я не только ощущал, но и видел опасность, тут же уходил от нее броском в ту или другую сторону. В атаках отчетливо различал, кто в меня целится или направляет в мое тело дуло автомата. Клетки мозга работали с полной отдачей и строгой ясностью. Казалось, что в общей свалке рукопашной схватки разобраться невозможно. Но я ориентировался отлично и всегда поспевал скорее врага или уходил от его удара.
В 1941 году, в районе реки Великая, когда наш батальон пошел в последнюю контратаку, один немецкий фельдфебель не раз ловил меня на мушку автомата, я тоже в него прицельно стрелял, но ни он меня, ни я его. Так мы с ним и разошлись. Он умело уходил от моих выстрелов, а я от его.
При авиа– или артналетах противника я точно ориентировался и уверенно знал, куда упадет следующая бомба, мина или снаряд. В этом я никогда не ошибался. Что тут – судьба, инстинкт или чувство самозащиты? Вот этого я не знаю. Но все-таки на пулемет последнего немца я напоролся. Я бросил гранату и убил неприятеля. Пока летела и взрывалась граната, он меня тоже уничтожил. Здесь мой инстинкт или самозащита не сработали. Недаром в народе говорят: «Сколько кому чего природой отпущено, больше не проси». По-видимому, и мне самозащиты или инстинкта природа рассчитала только до этого немца. Пришел конец солдатской жизни. Что меня берегло, когда тысячи людей гибли на моих глазах? И почему сегодня спасла от верной смерти, уже оскалившей зубы и поднявшей косу над моей головой, фортуна или судьба? Непонятно.
Я попросил сестру купить мне бумаги и карандашей. Решил восстановить утерянный в Тихвине дневник. Медсестра все мне принесла. Я приспосабливался, искал удобные положения для письма, долго ничего не получалось. Наконец, чуть повернувшись на бок при помощи санитарки Дуси, выбрал удобный момент и написал несколько слов.
В комнату внесли тяжелораненого. Положили на свободную, долго не занимаемую кровать. Когда санитары ушли, от нечего делать я стал его внимательно разглядывать. У него была забинтована голова. Левая рука была наполовину короче, обмотана толстым слоем бинтов, забинтованы живот и правая нога. «Нечего себе, – подумал я. – Здорово немцы угостили мужика. Наверняка снаряд или мина взорвались рядом».
У вошедшей медсестры я спросил: «Что, новенького привезли с фронта?» «Нет, – ответила сестра. – С фронта к нам сейчас уже никто не поступает. Фронт отодвинулся далеко от нас. Он глушил рыбу и подорвался на противотанковой гранате. Как говорят, граната взорвалась почти в руках. В результате искалечило человека на всю жизнь. Выбит один глаз, ампутирована рука. Грудь, живот и нога усеяны десятками осколков. Будет и он выдавать себя со временем за инвалида войны. Назначат ему большую пенсию. По делу-то надо бы судить как браконьера». «Вы, сестра, так громко не говорите, разбудите, проснется». «Нет, поспит еще часика три, а может и больше. Он получил хорошую дозу наркоза». «Кто он?» – спросил я. «Звание, кажется, майор, а кто он – не знаю. По правде сказать, больной он для меня. Я обязана за ним ухаживать и лечить его. Больше меня ничего не интересует». Сестра ушла.
Я стал внимательно разглядывать своего соседа. Почему его положили ко мне, а не в офицерскую палату? Марлевая повязка на левом глазу была с моей стороны. Открытой стороны лица я не видел. Через несколько минут он повернул голову в мою сторону. Я чуть приподнялся на лопатках. Что-то слишком знакомым показалась мне его одна половина лица. Я долго подбирал в памяти его физиономию. Наконец вспомнил. Ба! Да это же тот самый майор госбезопасности, который приходил ко мне с замполитом госпиталя и хотел учинить допрос. Обозвал меня самострелом и чуть ли не врагом народа. Сначала во мне проснулась обида, но искра злобы тут же угасла. Я начал смотреть на него с сожалением. Мне стало жаль его до слез. Такой статный молодец. Природа его наградила всем: красотой, ростом, чином. Вдруг непредвиденное несчастье – калека. Кто бы из нас отказался бросить одну-две противотанковые гранаты вглубь речного омута и сварить хорошую уху. А у него, может, мать есть, отец, жена и дети. Все будут переживать, плакать.
Слово "калека" меня прожигало насквозь, как каленое шило. Я тоже в двадцать пять лет инвалид. Что будет со мной дальше? Об этом не хотелось думать.
Я радовался, что ко мне поселили живого человека, который скоро проснется от наркоза. Мы с ним будем говорить на все темы. Главное, он мне расскажет о положении на фронтах, в тылу и все новости. Медсестры от разговоров на разные темы уклонялись, ссылаясь на недостаток времени. Врачи кроме диагноза и назначения лекарств ни о чем не говорили. Мне было скучно и неприятно, как преступнику в одиночной камере. Связь со всем внешним миром мною давно была потеряна. Но вот появился новый человек. Человек эрудированный, образованный. Он обо всем мне расскажет. Так я думал.
Разум работал четко и ясно. А не пора ли заняться самоподготовкой? Надо же учиться. Нужна специальность. Иначе куда я годен для будущего. Вылечат, выпишусь из госпиталя, поступлю в техникум или институт, в зависимости от обстоятельств. Решено. С сегодняшнего дня я буду просить учебники за 7-10 класс. Начну штудировать.
Сосед мой проснулся. Он открыл глаз, внимательно посмотрел на потолок и стены. Поднял кверху левую ампутированную руку и положил ее на забинтованный глаз. Тут же убрал и положил рядом. Изо рта его вырвался не то стон, не то вздох. «Молодец! Хорошо держится», – подумал я. Чтобы не обращать на себя внимания, зная, что после операции очень трудно, я начал читать новую книгу. Она с самого начала оказалась увлекательной. Сразу же забыл о соседе. Я был в мире книги, в мире авторской фантастики. Переживал за героя. Стремился скорее знать, что будет с ним дальше. Радовался его удачам и огорчался его промахам. Сосед стонал и метался по кровати. Я понимал его состояние и не обращал на него никакого внимания.
Раны его невыносимо болели. Давали о себе знать. Он обратился ко мне: «Слушай, друг, дай закурить. Больше не могу выносить болей». Я бросил ему пачку папирос. Но бросок рассчитал плохо. Он не сумел поймать, и пачка упала на пол. «Вы ловите», – предупредил я и бросил вторую пачку. Папирос у меня был большой запас. Я очень мало курил. Папиросы давали каждый день. Вторая брошенная пачка перелетела через него, ударилась о стену и тоже упала на пол, уже под кровать. Сосед закричал на меня зычным голосом: «Растяпа! Не можешь по-человечески бросить. Встань и принеси». На мгновение я потерял к нему всякое расположение. Чтобы успокоиться и не наговорить глупостей, я начал считать про себя. Сосчитал до пятидесяти. Сосед не унимался, кричал: «Ты что молчишь, как чурка с глазами! Не слышишь, что я тебе говорю?» Я с большим трудом сдержал себя, чтобы не крикнуть. Примирительно сказал: «Товарищ майор. Я рад бы подняться, но не могу. Четвертый месяц лежу замурованный в гипс. Посмотрите, пожалуйста». Я откинул одеяло и показал гипсовый панцирь. Он рассеяно посмотрел и уже тише, но повелительным голосом заговорил: «Есть еще папиросы? Брось пачку». На этот раз бросок я рассчитал точно. Папиросы и спички приземлились на его грудь. Он закурил. Большими дозами глотал горький едкий дым.
Снова повернул голову ко мне: «Откуда ты знаешь, что я майор?» Такого вопроса я не ожидал, но, не задумываясь, ответил: «Сестра сказала, да, кстати, мы с вами знакомы, встречались». Он направил на меня острый взгляд своего единственного глаза. Тихо проговорил: «Что-то не припомню. Всех разве можно помнить. За восемь лет, то есть с 1936 года, через мои руки прошли тысячи человек, неблагонадежные и враги народа. Мы с ними долго не нянчились. Все получали по заслугам. Может, вы проходили свидетелем по какому-нибудь делу?» «Никак нет, товарищ майор». «Тогда откуда ты меня знаешь?» – поинтересовался майор. «После скажу, товарищ майор. Сейчас вам нужен покой. Надо привыкнуть к болям». «Нет, уж если начал, то говори», – закричал майор.
Я отлично понимал его состояние после операции. Поэтому, чтобы не раздражать его, тихо ответил: «Вы не кричите. Я на сей раз не контужен, слышу хорошо. Если требуете, то расскажу. Помните, вы ко мне приходили в палату со злосчастным патроном, у которого не сработал капсюль, произошла осечка. Если бы капсюль сделал свое, я с вами вообще никогда бы не встретился».
«Ах, это ты, меланхолик. Я тебя не узнал. Хотя черты лица у тебя памятные, в голове могут сохраниться на годы. Правду сказать, я что-то стал плохо видеть одним глазом. Ты не знаешь, целый или нет мой второй глаз?» «Не знаю, товарищ майор». Говорить об этом я не имел права, сам узнает.
«Кстати, почему ты решил тогда застрелиться?» «Что я могу вам сказать в свое оправдание? Нервы не выдержали. Вы все равно меня не поймете. Различаете на мне гипсовый склеп, в котором я заживо похоронен?» В знак согласия майор чуть качнул головой. «Сейчас мое тело привыкло к гипсу. Старики говорили, попривыкнешь, и ад покажется раем. В то время я гипс еще плохо переносил. Мне казалось, что я пожизненно замурован в этот гипсовый гроб. Даже дышать он мне мешал. К тому же перевозка из госпиталя в госпиталь. Какой-то негодяй в Тихвине украл у меня полевую сумку с документами и фотографиями. Самое главное, у меня там лежал дневник со всеми событиями с начала войны». Я хотел сказать, что пронес дневник сквозь немецкий плен, но вовремя удержал себя. Сказал, что пронес его сквозь долгие огневые годы.
«Многие фронтовики – народ слишком загадочный, рискованный. Долго воевал?» – перебил майор.
«С первого дня войны. Самое главное, что заставило пристрелиться, это двадцатипятиградусный мороз. Вы можете себе представить? Хотя вы в гипсе никогда не были. В мороз выставили нас на носилках на перроне. Покрыли одеялами. Проклятый гипс начал постепенно охлаждаться. Через пятнадцать-двадцать минут появилось ощущение, что умышленно хотят заморозить. Кричать, стонать, требовать бесполезно. Криков хватало без моего голоса. Я был не один, были сотни человек. Я подумал, что на этом все кончается. Чем скорей умрешь, тем меньше мук. Если бы еще полчаса подержали на морозе, я постепенно превратился бы в кусок замороженных костей. Мало радости осталось от тех пятидесяти-семидесяти минут, которые я пролежал на перроне. Результат – крупозное воспаление легких, за ним следовала газовая гангрена. Все это перенес из-за гостеприимства госпитального начальства. Выложили на мороз и накрыли нестерильными одеялами».
«Ты перенес газовую гангрену? Не верю», – возразил сосед. «Не веришь – спроси медсестру, а лучше врача. Они не соврут». «Гады, враги народа, – сказал майор. – Я до них начинал добираться, но вот несчастье. Сейчас надолго выбыл. Как приступлю к работе, я ими займусь. Ты знал того человека, который покончил самоубийством и сумел передать тебе пистолет?» «Нет, не знал. Я даже его лица не видел, так как лежал в наклоненном положении в противоположную от него сторону. При всех моих попытках повернуть к нему голову ничего не получалось. Вы, по-видимому, этим делом занимались, поэтому прошу вас сказать, кто он и откуда».
Сосед ощущал сильные боли – молчал. Я подумал, что он не хочет отвечать. Он снова закурил. Набирал полный рот дыма и с жадностью отправлял его в легкие. После третьей затяжки, басом, как бы дразня меня, повторил: «Кто он! Кто он! Старший лейтенант. Он не знал, что ему присвоено звание капитана. Ему тридцать четыре года. Уроженец Тамбовской области, инженер. До войны работал в Минске. Судьба жены и двух детей неизвестны. Они остались в оккупации. Мать живет на Тамбовщине. Он, как и ты, был замурован в гипс по самую шею и с обеими ногами. О его гибели известили мать. А что написали в похоронной? Ясно что. Умер в госпитале от тяжелого ранения. Вот ты говоришь, что потерял дневник. А знаешь ли ты, что на фронте запрещено вести дневники».
Он назвал номер и дату приказа Верховного Главнокомандующего. Я сказал, что слышал и писал самое необходимое. «В моем дневнике кроме меня никто ничего не разберет». «Ты это брось, наши враги разберут». Я хотел ответить ему, что он не знает настоящих врагов-немцев, а они дневниками не интересуются.
В палату вошла врач Роза и медсестра Люда. «Людочка, как давно я вас не видел, и как вы пополнели, стали такой очаровательной», – невольно вырвалось у меня. Люда вначале посмотрела на меня кинжальным взором красивых серых глаз, затем лицо ее порозовело. Улыбаясь, ответила: «Какой ты молодец, перенес все, поправился». Врач сначала посмотрела на меня, затем на Люду. Взглядом приказала прекратить разговор. Я не унимался: «Люда, почему ты у нас так долго не была?» «Что, соскучился?» – ответила Люда. Роза оборвала наш разговор. «Как дела, больной?» – обратилась она ко мне. «Хорошо», – ответил я. Она открыла одеяло, посмотрела на гипс и снова закрыла. Мне показалось, что интересуются не моей раной, а гипсом.
Затем подошла к соседу, спросила, как его дела. Он начал жаловаться на сильные боли, на плохое отношение: «У нас в палате у тяжелораненых нет даже дежурной санитарки. Умирая, никого не докричишься». Претензиям его, казалось, не будет конца. Роза очень внимательно слушала его. Тихим голосом, как мне показалось, но очень резко ответила: «Вас мы к тяжелобольным не относим, и сажать к вам дежурного санитара нет необходимости». Тон врача показался соседу грубым. Он не просил, а требовал главного врача, то есть начальника госпиталя.
Главный врач не пришел. Может быть, Роза не доложила о требованиях моего соседа или его не было на месте. Сосед не успокаивался, кричал, ругал врачей и госпиталь на чем свет стоит. Возмущался несправедливостью, плохим отношением к больным. Через два часа после ухода врачей он встал с кровати, попросил разрешения, взял у меня карандаш и ученическую тетрадь. Пристроившись к своей тумбочке, что-то долго писал (в палате стола не было). Закончил писать. Письмо упаковал солдатским треугольником. Громко заговорил: «Я вам покажу кузькину мать. Они меня долго будут помнить. Не на того нарвались». Письмо он отправил, но вряд ли оно дошло по назначению. Цензоры работали отменно.
На меня он стал смотреть грозно. Накопившуюся злость на врачей стал срывать на мне. Закричал: «Эй ты, хлюпик, чего молчишь?» Я спокойно ответил: «Побереги нервы до завтра. Тебя долго не выпишут из госпиталя. Спокойствие – залог здоровья. Зачем напрасно возмущаться? Своим криком и угрозами здесь ты идеального порядка не наведешь». «Как ты смеешь, дистрофик, так со мной говорить? Я тебе покажу». И бросил в меня вилку. Вилку я поймал на лету. Следом за ней в меня полетела тарелка. Я драки не начинал, но ответный удар нанес. Его же вилкой и тарелкой попал точно в цель – в голову. Сначала он застонал, а затем вскочил с кровати и ринулся в атаку на меня. Я приготовился к обороне. Свои удары он обрушил на гипс, так как голову я защищал обеими руками. Улучив удобную долю секунды, я ударил его правой рукой в подбородок. Эффект превзошел все мои ожидания. Он, словно подкошенный пулеметной очередью, хлопнулся на пол. Завизжал, как кабан под ножом. Визг чередовал словами: «Помогите, убивают».
Первыми прибежали трое легкораненых. Следом за ними санитарка, медсестра и врач Роза Эдлер. Соседа осторожно подняли, положили на кровать. «Больной, почему вы хулиганите?» – спросила Роза. Вместо ответа из его горла вылетел клокот, как у разъяренного индюка. Затем, как из автомата, посыпались слова: «Вы меня обвиняете в хулиганстве? Я требую, чтобы сюда немедленно пришел главный врач! Немедленно уберите этого дистрофика и фанатика. Будете свидетелями. Он избил меня. Этого я ему никогда не прощу. Вы знаете, кто я? Завтра же его судить будем. Отправим туда, где Макар коз не пас». Роза раздраженно сказала: «Больной, что вы чушь несете. Кто вам поверит». Но он ее перебил: «Я весь ваш госпиталь разгоню. Все здесь неблагонадежные. Всех под суд, все враги народа!»
Он настолько увлекся полнотой своей власти и угрозами в адрес госпиталя, что даже не заметил, как все ушли из нашей тесной палаты. В реальность вернул его я. Крикнул: «Перестань грозить и напрасно трепать языком. Никто тебя не боится. Ты – самый негодный лгун, каких впервые видит наша русская земля. Ты – бандит, браконьер-рыбак, глупый идиот и трус. Клянусь тебе родной матерью, если бы я мог встать, я бы тут же тебя задушил, как вшивого фрица. Ты – гадюка в образе человека. Немало на твоем счету ни в чем не повинных русских людей, которым ты искалечил жизни, назвав врагами народа, а затем замучил или расстрелял. Придет время, кончится война, и ты еще за все ответишь. Наш народ после победы распознает в тебе волка в овечьей шкуре. Сорвет с тебя маску. Ты – Иуда, ты – предатель».






