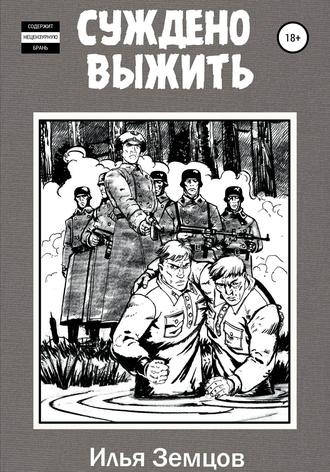 полная версия
полная версияСуждено выжить
Разница в нашем возрасте была полтора года. Она быстро сравнялась, и мы с ним росли как близнецы. До 12-ти лет он признавал мое старшинство. Оно заключалось в физическом развитии. Кто сильнее, тот и главный. Позднее он без особых усилий справлялся со мной на радость отца и матери, но только дома чувствовал себя на равных правах. На улице благодаря настойчивости и горячности я его при первых вздорах обращал в бегство. В отличие от меня он был выдержанным и спокойным. Детство и юность, проведенные вместе, во многом выработали у нас одинаковые привычки и нрав. Нас приучали к физическому труду крестьянина с семи лет. В этом возрасте мы сгребали сено, жали, носили в избу дрова, иногда кормили сеном скот. В десять лет с нас требовали работы наравне с взрослыми. Цену куска хлеба мы с ним знали хорошо. Дома с ним без ссор и драк жить не могли. За стол обедать нас рядом не сажали, а разделяли старшими братьями, которые при любом удобном случае расправлялись с нами, как повар с картошкой.
При старших братьях мы вели себя миролюбиво, зная, что любая размолвка приведет к незаслуженному наказанию.
На улице мы ссорились, но стоило кого-либо из нас обидеть, с обидчиком расправлялись искусно. В случаях, когда силы обидчиков были неравные, мы настолько усердно защищались, не отступая ни на шаг, что были прозваны двойня с левшой.
В детских драках нас боялись. Степан был левша. У меня сильно развита правая рука. Противник, пробуя обороняться от удара моей правой, при столкновении со Степаном забывал, что он левша. Сильные удары левой руки приводили врага в замешательство, которое заканчивалось бегством.
Вместе мы не могли без ссор и драк провести даже одного часа, но разлученные на два-три дня тосковали друг о друге.
Неразлучным нашим товарищем и другом был двоюродный брат Анатолий. Отцы наши были братьями – родными по матери. Отцы у них были разные. Толя почти все время жил у нас. Он, не по годам рослый и крепко сбитый, на четыре года был моложе меня. Ходил за нами всюду, не отставая ни на шаг. Большая смуглая голова его была покрыта завитыми, как каракуль, волосами. За это его прозвали "кочка". Дразнили его "болотная кочка". В девять лет он курил с отцом из одного кисета и научил курить Степана. В отличие от наших со Степаном отношений, Толя никогда с ним не ссорился и не дрался. У них все решалось мирным путем. Оба они были большими проказниками. Любили заглянуть ненароком в чужой огород, очистить грядки с морковью или репой. За это им изрядно попадало, но они быстро забывали неприятности и продолжали в том же духе. Нередко приходили с изжаленным крапивой задним местом.
Весть о гибели Толи под Воронежем в течение месяца не выходила из моей головы ни на минуту. Переживал я о нем как о брате и лучшем друге. На фронте он был недолго. После окончания Ярославского училища связи был назначен начфином полка. На этой должности пробыл только две недели. 14 марта 1942 года погиб от осколка снаряда в 2 километрах от переднего края. Смерть чисто случайная. Хуже ничего нельзя придумать.
Тишина-тишина, к сожалению, ты кончишься взрывом тысяч тонн взрывчатки и металла, немало унесешь за собой человеческих жизней, а может быть меня и моих фронтовых товарищей.
К этому взрыву готовились обе стороны. Ежедневно к нам на лошадях привозили сотни мин. Создавались большие запасы боеприпасов. Стреляли обе стороны редко, не выдавая своих огневых точек. Агитработа обеих сторон была на должной высоте. Как верующий в Бога человек усердно молится утром, перед обедом и сном, то же делали и немцы: передавали меню, лили грязь на наше правительство, призывали уничтожать евреев и комиссаров. Наши в долгу тоже не оставались. Призывали немецкого солдата, труженика из рабочих и крестьян, переходить в плен, чтобы не отдавать свою жизнь за благо немецких фашистов, капиталистов и так далее.
Командир орудия Казаков говорил: «Началась немецкая болтовня». Он каждый раз ходил к командиру роты просить разрешения ударить по лгунам. Чаще возвращался веселый, сияющий. Заходя в землянку, с порога кричал: «Расчет номер один, к бою!»
Мы пускали в трубу мины, которые с воем отправлялись к немцам. Были и удачи, диктор замолкал. Значит, мины были у цели.
Казаков – 20-летний паренек небольшого роста, щупленький, с серыми выразительными глазами, темно-русыми волосами, широким скуластым ртом. Рот его все время был приоткрыт – он им дышал. В носу у него от хронического насморка образовались полипы. Органы обоняния у него были развиты слабо, он многих запахов не различал. Его мечтой было сразу же после войны сделать операцию в полости носа, уничтожить полипы. Вторая его мечта была учиться.
Рос он сиротой, сначала умер отец, а затем и мать. Остались они вдвоем с сестренкой. Оба окончили школу ФЗО в Кирове и работали на заводе КУТШО. Еженедельно он получал письмо от сестры и чуть реже от девушки. За каждое под аккомпанемент окружавших почтальона ребят усердно плясал цыганочку. Довольный, с порозовевшими щеками, читал письмо. Затем ложился на нары, упершись взглядом в потолок, мечтал о будущем. Мечты, мечты, где ваша сладость?
Все мы мечтаем, но путь войны еще длинен и тернист. Немец у Ленинграда, охватил его кольцом. Пока только в одном месте блокада пробита – под Синявино. Больше половины Ленинградской области оккупировано. Великий Новгород тоже. Не говоря уже о масштабах Советского Союза. Враг дерзок, настойчив и силен. Держится за каждый клочок земли, за каждую кочку. Поэтому многим из нас не суждено будет прийти с победой домой, а придется навечно остаться в братских могилах или быть похороненными в ходах сообщения окопов, землянок и блиндажей.
Все мы мечтаем учиться и строить послевоенную жизнь, ибо знаем, что победа будет за нами. Но многим из нас, из молодых здоровых парней, придется доживать жизнь калеками, лишенными руки или ноги, с перебитыми ребрами и костями. Быть посмешищем для молодого поколения. Идет хромой, идет безрукий, идет калека. Каждому будет присвоена кличка, при произнесении которой у присутствующих будут появляться улыбки. Сколько уже покалечено, а сколько калек еще будет! Такова жизнь солдата. Сегодня здоров, в хорошем настроении, а завтра убит или калека без конечности или с перебитыми костями.
Такова судьба каждого из нас. Сюда ворота широко открыты, только с переднего края они очень узкие, лишь счастливчикам, может быть, одному из тысячи выпадет доля выйти невредимым. Остальным же две дороги: наркомзем и наркомздрав.
Алиев стал моим лучшим другом. Он во всем подражал мне и по всем вопросам советовался. Недолго длилась наша дружба. Его легко ранило осколком снаряда в начале декабря 1943 года. Ранению он был очень рад и считал себя счастливчиком. Мы все ему завидовали. Неплохо из грязной землянки с твердой звериной постелью переселиться в теплые, уютные, идеально чистые палаты. Поспать на мягкой человеческой постели. Укрыться теплым одеялом с простынью. Не подвергаться опасностям. Не слышать грохота артиллерийских канонад и свиста пуль.
В день ранения Алиева после очередного бросания мин в трубу миномета, мы звали ее трубой старого тульского самовара, у двери землянки остановил меня Казаков и шепотом сказал: «Какой же счастливчик Алиев. Он сейчас уже в медсанбате, завтра будет в госпитале. Может быть, даже получит отпуск домой после выздоровления. Я бы согласился отдать три пальца любой руки».
Казаков что-то еще намеревался прошептать, но я строго перебил его: «Трусишь, сержант, паникуешь. Не к лицу тебе».
Казаков внимательно посмотрел мне в глаза и уже громко проговорил: «Ничуть. Пойми меня правильно, ты, хотя и молчишь, но я вижу, прошел нелегкий путь войны. Тебе еще 24 года, а на голове уже серебрятся волосы. Поэтому как со старшим другом и товарищем я просто хотел поделиться с тобой. В последнее время у меня очень плохие предчувствия. Мне кажется, что доживаю последние дни. Сны и те вижу хуже не придумаешь. То меня ловят немцы, хотят расстрелять, то попадаю в какие-то ловушки, откуда нет выхода».
Казаков стоял как-то сморщившись, вобрав голову в плечи, и печальным, но ласковым взглядом смотрел на меня. Мне его стало до боли жаль. Я тихо сказал: «Не вешай головы, сержант. Выбрось все плохие мысли, думай только о хорошем. О смерти задумываться рановато. Мы с тобой еще поживем. Пусть немцы думают, как им отсюда свои грешные телеса унести. Мы с тобой хотя и недалеко от переднего края, а все-таки в тылу. Не каждая пуля сюда долетает. Да и потери в нашей роте незначительны. За два месяца стояния в обороне ранило только троих. Ты посмотри, что творится на переднем крае, каждый день идут сотни раненых, не говоря об убитых. Все снежные тропинки и дороги к переднему краю окрашены в алый цвет от человеческой крови, а ведь пока оборона, с той и другой стороны затишье».
Из землянки вышел лейтенант Серегин. Он подошел к нам с Казаковым, улыбаясь, проговорил: «Секретничаете». «Нет, товарищ лейтенант, курим и дышим чистым без примесей воздухом», – ответил я. «Очень хорошо, я тоже люблю чистый морозный воздух, но предпочитаю сидеть в теплой землянке. Лучше маленький Ташкент, чем большая Колыма, – улыбаясь, проговорил Серегин. – Если вы так любите дышать холодным воздухом, то вам задание сходить на передний край и передать вот это командиру третьего батальона. Если его не будет, начальнику штаба или замполиту». Он отдал мне свернутую в угольник записку. Я обрадовался, что выпала счастливая возможность побывать в родном батальоне и увидеть знакомых ребят.
Мы с Казаковым направились по алеющей от крови снежной тропинке. Прошли от нашего расположения не более 300 метров, как совсем близко от моей головы, буквально в 5-10 сантиметрах, обдав жаром, пролетела мина и шлепнулась рядом в четырех шагах. Шипя, ушла в торфяную массу болота. Мы плюхнулись в снег, лежали, ожидая взрыва, но мина не взорвалась. Вставая и отряхивая с себя снег, я сказал: «Вот так глупо можно остаться без головы».
Казаков, озираясь, смотрел, где скрылась мина. Он был бледен, губы дрожали. Он снова начал говорить о своих предчувствиях и мнимой скорой кончине. Я шел быстро, рассеянно слушал его, не вникая в смысл слов.
В штабной землянке батальона мы застали одного Ильина. Я отрапортовал, отдал ему записку, он, не читая, положил ее на стол. Встал и, смеясь, проговорил: «Ну, товарищ комбат, сейчас давай поздороваемся!» – и крепко пожал мне руку. «Не комбат, а рядовой», – ответил я. «Для меня ты на всю жизнь останешься комбатом, моим другом и старым товарищем. Есть хочешь?» Я отказался, поблагодарил Ильина за дружбу и ушел. Казаков слушал, раскрыв рот.
Глава тридцать третья
Шел последний месяц тяжелого переломного в войне 1943 года. Наша страна истекала кровью. Немецким войскам тоже было несладко. Они драпали на всех направлениях. На солдатах-победителях появилась масса вшей. При первой опасности поднимали кверху руки и целыми пачками сдавались в плен, крича "Гитлер капут". Из-под ног немцев гонор солдата-победителя был выбит.
Все население Советского Союза, не жалея сил, несмотря на скудный паек, работало по 12-14 часов в сутки. Голодные, измученные непосильным трудом люди, отрывая от своего пайка последние крохи, посылали на фронт посылки с продовольствием и нужными солдату носками и варежками. Их посылки, подарки поступали на армейские склады, оттуда распределялись по дивизиям, из дивизии – по полкам, до солдат переднего края доходили от посылок только рожки да ножки. Такова уж совесть человека.
Дошел и до наших дней частнособственнический волчий закон. Особенно он показал свои волчьи зубы в войну. Прорвавшийся в чины собственник прикладывал все силы лезть выше. Тащил, тянул и сохранял свою жизнь. Когда падал, а это закономерно, то не просил себе пощады и не цеплялся за чужие ноги, старался отползти в сторону, чтобы не затоптали. Спасая свою шкуру, уползал подальше от греха. Но его хватали за шкуру, давали ему автомат и отправляли в штрафную роту, а оттуда выход только в два наркомата. Однако эти шкурники портили хорошее праздничное настроение десяткам тысяч солдат. От внимательного ока солдата и его любопытства трудно скрыть мошенничество и махинации.
Наша дивизия твердо стояла на занятых рубежах. Немцы стали слабаками и забыли о своей обиде. Они больше не пытались наступать и отбить у нас свои окопы. Обе стороны ограничивались ежедневным устройством артиллерийско-минометной дуэли. С обеих сторон снайперы не давали высунуть головы выше бруствера окопа. У смельчаков появлялись дырки на касках, а иногда и в головах. Наши солдаты дразнили немецких снайперов: ежедневно из окопов высовывали чучела в шинелях и касках. Немцы усердно целились и записывали на текущий счет еще одного русского. Не уступали в этой махинации и немцы. Они тоже высовывали из окопов чучела и каски на палках, наши снайперы усердно целились, стреляли. Большинство были девушки. Они, унижаясь перед командирами взводов и рот, просили справки об убиенных немцах, которые, чтобы отделаться от назойливых снайперов в юбках, писали с ограничением на пятьдесят процентов.
Несмотря на все солдатские выдумки, потери были значительны и в обороне. Свидетельством тому были дороги и тропы с переднего края, сплошь окрашенные в розовый цвет. Это кровь раненых. Шедшие на передний край пополнения из необстрелянной молодежи озирались по сторонам, один вид розовых тропок и дорог портил им настроение и заставлял их думать о плохом.
Дивизия комплектовалась. Каждый день по всем тропинкам и дорогам шли цепочкой пополнения из госпиталей и молодежи 1924-1925 годов рождения. Наш 77 стрелковый полк пополнился и стал боевым. Приближался 1944 год. Год побед наших войск на всех фронтах. Год побега немцев с захваченных территорий и безусловной их гибели в снегах России.
В канун Нового 1944 года неприятели уже не торжествовали, как в канун 1942 года. Они только делали вид, что рады празднику, шлялись пьяные по своему переднему краю и выкрикивали песни. В рупор звали наших солдат встретить Новый год вместе. На шестах вывешивали окорока, колбасы и жареных гусей. Предлагали обменять румын на узбеков. В нашей роте в канун Нового года ничего не изменилось, на роту дали две раскупоренных посылки новогодних подарков от наших женщин с Урала. Обе посылки остались в землянке Васильева. Люди знали о них, возмущались, но молчали. Таковы суровые законы военного времени. Закон этот со всеми последствиями на совести командиров, начиная с взводного. Новый год был обычным днем. Тот же вкусный перловый суп и могаровая каша. Те же разбавленные наполовину водой 100 грамм водки, пайка черного хлеба – 900 грамм. Вдобавок солдату тройная праздничная бдительность. Это значит – тройное стояние на посту.
В 10 часов утра у командира роты появился небывалый в нашей роте гость, начальник штаба полка майор Басов. Командира роты в землянке не оказалось, он был на НП, поэтому Басов пришел в нашу землянку.
Со времени ранения Алиева, который исполнял обязанности старшины и помкомвзвода, эта должность была свободной. Рапортовать вошедшему Басову никто не решился. С минуту все молча смотрели на него. Привыкший к яркому дневному свету Басов в темной землянке никого не видел, после минутного молчания проговорил: «Есть здесь кто?»
Я вскочил на ноги и скомандовал: «Встать, смирно, равнение на выход». Люди повскакали с нар. В проходе все не помещались, поэтому многим пришлось стоять на коленях по стойке смирно на нарах.
Я доложил: «Минометная рота в количестве 42 человек занимается изучением материальной части миномета». Басов сказал: «Вольно. В Новый год изучать миномет? Сегодня праздник, надо отдыхать. Весь мир празднует его, а для нас он особенно дорог».
Когда глаза Басова привыкли к полумраку землянки, он увидел меня, подошел вплотную и с удивлением проговорил: «Ты, старшина, здесь? Какими судьбами?» «Судьба играет человеком и за собой его влечет, то вознесет его высоко, то кинет в бездну навсегда. Чьи слова, не знаю».
Басов рассмеялся, проговорил: «Значит, в бездне? Не падай духом, все кончится хорошо. Припасай, старшина, капитанские погоны, вопрос почти решен. Был на тебя дополнительный запрос со штаба фронта, они что-то тянут резину. Мы снова написали ходатайство и описали твои заслуги. Ждем приказа».
Он протянул руку и крепко пожал мою. Обращаясь ко всем людям в землянке, сказал: «Товарищи, давайте испортим немцам праздничное настроение. Они ведут себя развязано, ходят по переднему краю пьяные и орут песни. Заставим их не петь, а плакать».
Я скомандовал: «Рота к бою». Люди быстро оделись и выбежали к минометам. Появился командир роты Васильев, закричал хриплым басом прицельные данные. «Первое, третье, пятое, седьмое, девятое и десятое орудия по пятнадцать снарядов огонь».
Басов его поправил: «Мин». На мины цепляли дополнительные заряды, полотняные кольца, набитые порохом. Я кидал мины в прямую трубу миномета, а Казаков вслед каждой кричал: «Получайте, гады, новогодний подарок».
Басов давно уехал, а мы все стреляли под крики пьяного Васильева. Немцы по нам в ответ ударили из восьмиствольных минометов, но мины вместо нас ударили по связистам, расположенным рядом. Прямым попаданием завалило примитивную землянку. Мы кинулись на помощь. Я влез в узкое отверстие, оставшееся на месте дверей, но тут же начал задыхаться. У меня обнаружилась клаустрофобия. Поэтому я тут же вылез обратно.
Из четырех человек, погребенных заживо в землянке, троих спасли, они оказались невредимыми, четвертый был тяжело ранен.
После спасения связистов мы решили отметить Новый год всей ротой. У каждого во фляжке была водка. Когда все собрались в землянке, ефрейтор Мульдигинов встал на нары, вобрав шею и голову в плечи, стал похож на приготовившегося к драке петуха. По-русски он говорил плохо, поэтому был неразговорчив. Но тут парень решился на подвиг, гортанным голосом он крикнул: «Товарищи! Зачем вешай голова. Кушай водка, пей хлеба с кашей. Новый год идет, встречай ее».
Все захохотали. Настроение у всех поднялось. Мульдигинов налил водку себе и Антонову, стукнулся кружками и крикнул: «Кушай за побед, кушай свинину и мне давай». Снова налил, снова стукнулся и крикнул: «Кушай за Новый год, кушай, Антонов» – и снова выпил. Все хохотали до слез и лезли в вещевые мешки за хлебом для закуски. Наливали из фляжек водку. Звенели кружки. Догадливый повар сам принес в землянку кашу и чай.
Началась пьянка. Пили все за Новый год, за новое счастье, за Родину, за родных. В землянке стоял неописуемый шум. Все говорили, рассказывали друг другу о семьях, подругах, разного рода истории.
Я сидел один, забравшись в угол землянки. Вскоре ко мне подсели Васильев и Казаков. Васильев – москвич. Он старался дружить со мной, делился своими горестями и радостями. Я слышал про него, что перед каждым наступлением он заболевал и уходил в санчасть. Возвращался после прекращения боев. Солдаты боялись его как агента СМЕРШа. Поэтому я с ним откровенным не был.
Мы тоже наливали каждый из своей фляжки, произносили тосты и пили. Казаков заискивающе сказал: «Если ты будешь капитаном, тогда наверняка меня узнавать не будешь». Я протянул ему руку и сказал: «Будем до гроба друзьями». «Будем», – сказал Казаков.
Васильев крепко пожал руку мне и Казакову и задумчиво проговорил: «Я к вам с дружбой и открытой душой, а вы почему-то меня избегаете, в чем-то подозреваете». Я прервал его: «Неправда, мы тоже к вам с открытым сердцем и фронтовой дружбой. Извини нас за невоспитанность, мы с Казаковым из деревни и с колыбели грубияны, обижаться на нас не надо».
Васильев ответил: «Я тоже родился не в Москве, но всю жизнь провел в столице. Мой отец был чуть ли не купцом в Нижегородской губернии. Он сочувствовал революционерам и перед Первой мировой войной, загнав все состояние, переехал в Москву. Мой дед был богатым скрягой, купцом третьей гильдии, самым почетным человеком Смирновской волости. Имел паровую мельницу и электростанцию. Торговал кое-какими товарами даже с заграницей. Вы можете на меня доносить, но это так. Я внук купца. Отца в счет не беру, он был дураком. Свернул все и к революции пришел неимущим. Хотите, я вам расскажу о смерти моего деда».
«Расскажи», – в один голос сказали мы с Казаковым.
«Это похоже на небылицу, но было все в действительности так. Старик был крепким, дожил до 75-ти лет, не болея. За три дня до смерти он позвал своего единственного сына, моего отца, и сказал: «Сынок, я на днях умру. Оставлю тебе большое богатство, которое нажил я правдами и неправдами. Начал горбом, а кончил умом. Грешен я на этом свете перед Богом, но каяться в грехах ему не буду. Когда умру и предстану перед ним, думаю, что найду с ним общий язык. Умные люди и Богу нужны, я в этом не сомневаюсь. Моя последняя просьба к тебе: обуй меня в лапти. На дно гроба положи две тысячи рублей золотыми монетами. Но об этом никому не говори, ни попу, ни церковному сторожу. Запомни, что все люди жадны до денег. Все преступления и грехи совершаются ради денег и богатства».
Словами дед зря не бросал и через три дня умер. Быстро соорудили гроб, обили его черным бархатом. Покойника, как водится на Руси, вымыли, одели во все новое, дорогое. Исполняя последнюю просьбу, ноги закрутили в самотканые онучи и обули в лапти, приготовленные на этот случай самим дедом. На следующий день утром гроб с телом увезли в церковь, поставили в усыпальницу. Отец с детства, как рассказывала бабушка, не был одарен умом. Поэтому долго колебался, класть ли деньги в гроб. Наконец, страх перед Богом взял свое. Выбрав удобный момент, уже в усыпальнице, положил под подушку в изголовье две тысячи рублей золотом. Это заметил церковный сторож – 80-летний старик Прокофий. Он спросил отца, что тот кладет в гроб.
Отец смутился и тут же признался начистоту. Он попросил старика зорче охранять гроб с телом и деньгами, обещая ему вознаграждение. Прокофий долго ломал себе голову, как взять деньги. Не один раз отпирал он тяжелый засов, открывал железные двери и крышку гроба, но как дело доходило взять кошелек, тряслись, как в лихорадке, руки и ноги. Наконец старец решил для храбрости выпить. Захватив свои скромные сбережения, направился купить в казенке штоф водки. Опираясь на посох, вошел он в казенку и спросил приказчика Еремея: «Сколько стоит штоф водки?» Отсчитал дрожащими руками деньги, получил водку и направился к выходу.
Хитрый приказчик остановил старца в дверях, вернул его обратно. Выгнал из казенки пьяниц и вкрадчиво спросил: «Дедуся, что-нибудь недоброе случилось. Ведь ты за последние десять лет не знал дороги в казенку».
Старец Прокофий долго маялся и, наконец, рассказал Еремею, что видел, а также слова признания моего отца. «Вот дьявол на старости лет толкнул меня взять эти деньги. Много раз я подходил к гробу за ними, но тут же уходил, не хватает смелости. Вот, думаю, выпью и возьму на душу грех. Зачем мертвому деньги, а мне они еще могут пригодиться».
Старик усердно закрестился и беззубым ртом зашамкал молитву. Приказчик Еремей елейным голосом сказал: «Дедуся, на старости не бери на душу грех. Давай лучше я возьму деньги и отдам тебе половину, то есть одну тысячу рублей. С тебя хватит до конца твоей жизни. Ты одинок, наследство тебе некому оставить». Дед заморгал слезливыми глазами, закрестился дрожащей рукой и прошамкал: «Согласен».
Договорились ограбить гроб с телом деда в 10 часов вечера. Еремей пришел в назначенное время. Под бледный свет свечи открыл крышку гроба. Энергично сунул руку под голову мертвеца, вытащил кошелек с деньгами и положил к себе в карман. Несмотря на протесты сторожа, Еремей принялся снимать с покойника лапти и портянки. Снял все, аккуратно связал и унес к себе в казенку. Лапти с портянками повесил на самое видное место. Тысячу рублей он отдал Прокофию, как договаривались. Довольный старец, крестясь и шмыгая носом, пересчитал деньги, завернул их в грязную тряпку и ушел к себе в сторожку.
В воскресенье приехали хоронить деда. Отец мой зашел в казенку и, не веря своим глазам, увидел лапти и портянки деда. Выждав момент, когда посетители уйдут, спросил Еремея: «Откуда у тебя?» Показал рукой на лапти с портянками. Еремей, испугавшись, состроил гримасу и усердно закрестился. Вышел из-за прилавка, закрыл на внутренний крючок дверь казенки и шепотом стал говорить отцу: «Сегодня ночью твой батька меня на тот свет от страха чуть не отправил. Всю ночь заставил дежурить в казенке. Перетаскал водки на две с половиной тысячи рублей. Если не веришь, пойдем посмотрим, весь склад стал пустым. Две тысячи рублей золотом отдал наличными и пятьсот рублей задолжал. За долг оставил мне лапти с портянками. Сказал, передай сыну, чтобы расплатился, иначе, если не заплатить долг, придет домой».
Мой отец усердно закрестился, приняв слова пройдохи за чистую монету, просил Еремея не распространять слухи, за что отдал еще тысячу рублей. Забрал лапти с портянками, унес в церковь, где деда снова обули. После всех церковных процедур отнесли на кладбище и похоронили. Отец долго дрожал, ожидая в гости деда, так и не дождался».






