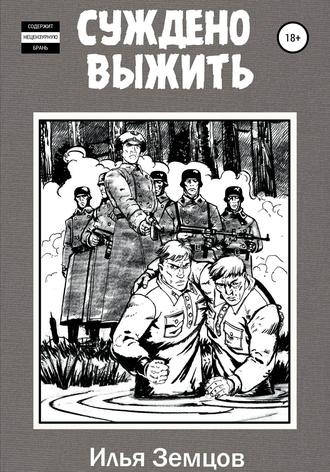 полная версия
полная версияСуждено выжить
Два брата и два зятя у меня воевали, за их жизнь я гарантии дать не мог. Тетки и дяди по отцу и матери, оставшиеся в живых, все жили в деревнях в радиусе, досягаемом ходить в гости пешком.
Моими ответами капитан был, по-видимому, удовлетворен. На прощание он мне сказал: «Командование полка будет ходатайствовать перед командованием фронта о восстановлении вам звания старшего лейтенанта. За успешное командование батальоном, выполнение боевых заданий командира, за проявленную личную храбрость и геройство будем просить присвоить вам звание капитана». Я попросил разрешения идти, на что получил положительный ответ.
Вышел из штаба сияющим от радости. Вернулся на передний край. Скрипник заметил мое возбуждение, спросил: «Что сияешь? Героя получил?» Я рассказал ему, зачем вызывали. Он осторожно поздравил меня и легонько предупредил: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Еще яичко в курице, а курица гуляет цыпленком». Он был прав.
В этот же день батальон у меня принял капитан Назаров, прибывший из офицерского резерва штаба армии. Он предложил мне принять 2 роту, но с оговоркой. «Получается не совсем удобно – старшине командовать лейтенантами и даже старшими лейтенантами». Я скромно попросил: «Если есть возможность, пошлите меня старшиной роты до восстановления звания». Назаров ответил, что это рекомендация командира полка Козлова, и он ничего изменить не может. Я попросил разрешения поговорить по телефону с Козловым. Телефонист вызвал его. Я взял трубку. Извинился, что беспокою. Козлов, награжденный природной грубостью, сказал: «Короче, без комплиментов и извинений». «Товарищ майор, разрешите капитану Назарову назначить меня старшиной роты». Козлов грубо ответил: «Что, обиделся за понижение?» Я крикнул в трубку: «Ничуть!» Козлов велел передать трубку Назарову. Чего он ему говорил, можно было только догадываться, так как Назаров говорил только "да" и "есть". Он повесил трубку, немного помедлив, ответил: «Раз не хочешь брать на себя много, временно принимай хозвзвод батальона». «Будешь моим помощником по хозяйственной части», – в шутку крикнул Скрипник. «Исполняйте, – сказал Назаров. – Знакомьтесь с поварами и старшинами рот». «Разрешите идти, товарищ капитан?» – отрапортовал я. «Идите», – негромко проговорил Назаров.
Ребята говорили, что о подобной работе может мечтать только счастливчик. Таковым я не был и поэтому на указанной должности был всего 15 дней. Не успел нарастить на шее сало и превратиться в алкоголика. Случилось это так.
Склад ПФС полка был расположен примерно в 3 километрах от базирования хозвзвода, а дивизионные склады примерно в 7-8 километрах. За продуктами часто приходилось ездить самому. Последний раз приехал в ПФС. Начальник ПФС Айзман попросил меня получить все продукты для батальона на складе дивизии.
Продукты мы получили с ездовым, на обратном пути заехали в ПФС полка, чтобы передать просьбу завскладом прислать людей для разгрузки вагонов. Айзман меня задержал минут на 15. Пристал с разного рода расспросами.
Откровенно признаюсь, и я поболтать люблю. Пока я ему рассказывал новости батальона и что видел на складе дивизии, время текло. По возвращении в батальон я увидел, что лошадь с повозкой стояла в 20 метрах от дороги в лесу, зацепив колесами брички за деревья. Ездовой лежал в кузове, связанный вожжами и с заткнутым ртом. Нас ограбили, взяли водку, консервы и свиной шпик. Остались хлеб, крупа, маргарин, растительное масло, сахар, картошка и так далее.
Перепуганный ездовой утверждал, что это были немцы, переодетые в нашу форму. Они все делали молча, не проронив ни единого слова, их было четверо. Для меня было ясно, кто мог это сделать. В дивизию прибыло новое пополнение, большинство – досрочно освобожденные из мест заключения. В нашем полку их было много. Многие из них называли себя ворами-профессионалами.
Меня обвинили чуть ли не в соучастии, посадили на гауптвахту полка, где лежал, ворочаясь с боку на бок четверо суток. Соучастия моего установлено не было, но Назаров, по-видимому, отказался взять меня на старую должность, и прямо с гауптвахты увели меня под конвоем в минометную роту. Рота была полностью укомплектована новым пополнением.
Минометы я поверхностно когда-то изучал, но минометчиком никогда не был. Командир роты Васильев принял меня довольно грубо. У него в землянке сидел командир взвода лейтенант Щеглов.
Щеглов был бледен, невысокого роста, с болезненным видом, с неощутимым взглядом почти бесцветных глаз. По специальности он был инженером-металлургом. Васильев осмотрел меня с ног до головы. Свой взгляд задержал на моих хромовых сапогах, портупее и опрятно подогнанной кавалерийской шинели.
Обращаясь к Щеглову, Васильев искоса скользил взглядом по моему лицу. Сделал недовольную физиономию, сказал: «Всех штрафников и неблагонадежных толкают ко мне в роту. Нашу роту скоро превратят в колонию». Я не понял до конца, что он этим хотел сказать. Но духом пал. Направил он меня в минометный расчет Казакова, где помкомвзвода оказался Алиев, мой старый знакомый.
Попал я как гусь в кастрюлю со специями. Щеглов слова Васильева принял близко к сердцу и в тот же день решил надо мной поиздеваться. Вооружив меня немецкой саперной лопатой, заставил одного копать ниши для мин. Расчеты, кроме постов, отдыхали. Щеглов сам наблюдал за моей работой. Когда ему становилось холодно, заставлял Алиева. Я копал не спеша, что им обоим не нравилось, но подгонять меня не решались. Знали, что получат словесный отпор.
Жить стало невыносимо тяжело. Днем копал ниши и площадки для минометов. Ночью часто вне очереди стоял на посту. Все двухнедельные телесные накопления в хозвзводе сползли с меня за пять дней.
Во время дежурства на наблюдательном пункте Щеглова ранил в желудок немецкий снайпер. Пуля прошла рядом с позвоночником.
Вынести его с НП и перетащить в санитарную часть Васильев послал меня с Казаковым. Мы положили Щеглова на носилки, сделанные из плащ-палатки. Ползком вытащили из зоны видимости снайпера, а затем понесли в полный рост. Щупленький Казаков оказался слабосильным, маловыносливым. Через каждые 150-200 метров ставил носилки. Щеглов все дорогу стонал и кричал, требовал нести быстрее.
В санчасти сдали его дежурному фельдшеру. Щеглов глухо со слезами на глазах сказал: «Прости, старшина, я виноват перед тобой, погорячился». Я ответил: «Вы мне ничего плохого не сделали, прощения просить не надо. На вашем месте я бы поступил точно так же». «Вы меня поняли, старшина».
Он сделал вид, что улыбается, но вместо улыбки получилось болезненное выражение лица. Через день из медсанбата сообщили – Щеглов умер.
Старший сержант Алиев оказался злопамятным. Он за что-то мне мстил на каждом шагу. Состоялся откровенный разговор. Я спросил у Алиева: «За что смотришь на меня как вошь на солдата». Он или не понял значения моих слов, или просто решил придраться. Закричал на меня: «За разговоры ставлю на ночь под елку». Стояние рядом с часовым не предвещало ничего хорошего. Алиев выполнил свое обещание, сдал меня часовому.
Нервы не выдержали, я стал раздеваться догола. Сказал Алиеву, что нахожусь под теплым небом Таджикистана, мне очень жарко. Не спеша разделся и нагишом лег на подостланную одежду. Обратился к Алиеву: «Ты жалкий трус. Ты вислоухий осел и рахит». Язык работал у меня дерзко. Наговорил я много лишнего. Язык мой – враг мой.
Алиев горячился, хватался за автомат, требовал немедленно встать и одеться. Он грозил пристрелить меня, наставляя дуло к моей груди. Я ему кричал: «Ты трус. Тебе не сметь выстрелить». Стоявший часовой задыхался от смеха.
На шум вышел командир роты Васильев. Он приказал мне одеться, а Алиеву привести меня к нему в землянку. От напряжения нервной системы холода я не чувствовал, поэтому одевался очень медленно, как в гостях после сильного перепоя.
Моя медлительность Алиева из равновесия вывела совсем. Он бегал, кричал на меня и ругался десятками русских нецензурных слов. Так вряд ли сумел бы выругаться любитель десятиэтажных русских непечатных слов.
Дисциплинированный в тылу Алиев дождался, не умер от злости, пока я одевался. Наставил мне в спину дуло автомата, повел меня к Васильеву.
Как только мы скрылись из поля зрения часового, я остановился, обернувшись лицом к Алиеву, сделал вид, что хочу закурить. Старший сержант подошел ко мне вплотную, пытаясь дулом достать до моего тела и тем заставить меня идти. Я выхватил автомат из рук Алиева. Он пытался крикнуть, но я вовремя зажал ему рот рукой и строго полушепотом сказал: «Если ты поднимешь шухер, я тут же тебя пристрелю. Приказываю немедленно скрыться. У Васильева появишься только после меня, а лучше завтра утром. Невыполнение моего приказания знаешь, чем грозит».
Алиев в знак согласия кивнул головой, от испуга он не мог выговорить ни одного слова. «Сейчас же беги», – шепнул я. Он, неуклюже переваливаясь с боку на бок, растаял в темноте ночи.
Повесил автомат на шею, продел сквозь ремень левую руку. Постучав, вошел в землянку. Внутри было двое: лейтенант Серегин, который пришел вместо Щеглова, и Васильев. Оба сидели за столом, на котором были кастрюля, две алюминиевые кружки, сало и хлеб. Судя по блеску глаз и разговору, оба явно под хмельком. Воздух был не только выкрашен табачным дымом, но и достаточно насыщен. Тускло горела коптилка, сделанная из 45-миллиметровой гильзы.
Я остановился почти у самого порога, спешно закрыв за собой дверь. Доложил: «Товарищ капитан, прибыл по вашему приказанию старшина Котриков».
Васильев посмотрел на меня пьяным рассеянным взглядом, почти крикнул: «Почему не выполняете приказаний Алиева? Не забывайте, вы здесь не старшина, а рядовой Котриков». Васильев на мгновение умолк. Я воспользовался этим и тоже громко сказал: «Разрешите, товарищ капитан, снять погоны старшины и поменять на рядового». Васильеву мои слова показались дерзостью, он вскочил на ноги, но посмотрел на автомат, ствол которого был направлен на него, и грузно сел.
«Почему вошел с оружием?» – уже тихо спросил Васильев. Я ответил: «На войне оружие – жизнь солдата». «Где Алиев?» «Проверяет посты».
Отпив из кружки водки и закусив, Васильев глубоко втянул в себя ароматный дым немецкой сигареты. Грубо заговорил, язык его срывался и заплетался: «Я знаю, что ты – разжалованный господин офицер. Это для нас не имеет роли. Для меня ты солдат. Что такое солдат, ты тоже знаешь. Это слепой исполнитель любого приказа. Солдат каким был, таким и остался. Мне дано право приказывать солдатам, наказывать их и даже в крайних случаях расстреливать. Приказ Верховного Главнокомандующего товарища Сталина. Но я сам был солдатом, не желаю видеть твою кровь, поэтому живи на радость папы, мамы и всего советского народа».
Я стоял по стойке смирно. Васильев говорил долго. Отдельные предложения повторял до трех раз. Серегин был почти трезвый. Он внимательно смотрел то на меня, то на Васильева. Намеревался что-то сказать, но как только раскрывал рот, Васильев ему мешал, и он снова закрывал.
Васильев наговорился досыта. Под конец буркнул себе под нос: «Садись». Я сделал вид, что не понял. Васильев встал, подошел ко мне и почти крикнул: «Садись за стол». Я сел. Он налил мне в свою кружку водки из кастрюли и сказал: «Пей за наше здоровье и дружбу».
Я поднял кружку, стукнулся с Серегиным и выпил до дна. Пихнул здоровый кусок сала в рот, встал на ноги и попросил разрешения идти. Отяжелевший Васильев кивнул головой в знак согласия.
Я быстро вышел из душной землянки. Прошел еще не более пяти шагов, как меня догнал Серегин. Он хлопнул меня по плечу и сказал: «Молодец, старшина, умеешь держаться, не трус. Давай посидим, покурим».
Мы сели с ним на подбитый снарядом ствол ели. Он спросил: «Откуда, старшина?» Я ответил: «Из Кировской области». «Я с Алма-Аты. Прости за нескромный вопрос. Что бы ты сделал, если бы пьяный Васильев выхватил пистолет и стал бы угрожать тебе?» Я ответил: «Он, видя в моих руках автомат, сделать этого не мог. Я для этого и пришел с автоматом». «Последствия борьбы за существование», – добавил я. «Я вас понял, – сказал Серегин и подал мне руку. – Пока, до завтра».
Я вошел в свою землянку – все спали. От выпитой большой дозы водки у меня кружилась голова. Я снял шинель и ботинки. Обмотки размотать, казалось, не хватит сил. Лег на мягкий еловый лапник. Глаза мгновенно закрылись, но уснуть не дал Алиев. Он попросил меня выйти из землянки. Я вышел за ним босиком. Алиев с заискиванием попросил меня молчать о случившемся. Я для пущей убедительности сказал: «Клянусь богом, молчать буду, как рыба, как камень, как дерево. Можешь быть спокоен, никому ни слова. Автомат твой стоит в пирамиде землянки». В знак дружбы мы пожали друг другу руки. Оба вошли в землянку уже друзьями. Лучшая дружба, говорят старики, познается в беде. Алиев стал ко мне относиться с уважением. В наряды и на посты я ходить перестал. Иногда мне было неудобно перед ребятами. Многие с завистью смотрели на меня. Кто-то говорил: «Разжалованному старшине везет. Он как в доме отдыха, его никуда не посылают».
Особенно с ехидцей относился ко мне однофамилец командира роты Васильев, старый мой знакомый, еще по разведке боем под Новгородом. Этому филону в обороне не везло. Его посылали за минами, их носили за 2 километра. Он стоял наравне со всеми на посту. Мы показывали, что почти дружим, но я его ненавидел как волка в овечьей шкуре.
Жили мы в просторной землянке с тремя накатами из бревен. Землянка минометной роте досталась от предшествующих минометчиков по наследству. На нарах, сделанных из крупного подтоварника и застланного толстым слоем елового лапника, размещалась вся рота, кроме офицеров.
Два офицера роты капитан Васильев и лейтенант Серегин, их связной жили в отдельной землянке. Она им служила штабом, командным пунктом и жильем. В их землянке стоял телефон, связывающий роту с наблюдательным пунктом и штабом полка. Васильев и Серегин почти круглосуточно по очереди дежурили на НП, откуда корректировали огонь минометов.
Стреляли редко и не всеми минометами, чтобы не открывать врагу количество основных точек. Немцы тоже стреляли нечасто, считая, что наши минометы для них ничего не значат.
С наблюдательного пункта по телефону давалась команда со всеми прицельными данными. Находившиеся в землянке Васильев или Серегин объявляли тревогу. Мы выбегали к минометам. Командир орудия устанавливал прицел. Я со спокойной совестью брал мину с дополнительным зарядом, отпускал ее в ствол миномета, получался выстрел. Мина с огненным хвостом вылетала из трубы, а куда она летела, мы не знали.
Если артканонады не было, то разрывы наших мин хорошо были слышны. Отстрелявшись, подавалась команда "отбой", снова шли в землянку рассказывать друг другу, кто что знал.
Бывали минуты, когда все до слез смеялись над выкинутыми шутками ребят. Преуспевал в этом скромный на первый взгляд, молчаливый Антонов. Он спал рядом с ефрейтором Мульдигиновым. Оба они уроженцы солнечного Узбекистана. Мульдигинов не только не ел свиное мясо, но даже и запаха его не переносил. Антонов решил приучить его к всемирно известному мясу. Во-первых, уважать его как деликатес, во-вторых, есть как питательное средство, этого требовала обстановка. Поэтому Антонов, привязывая к кусочку свиного сала груз, часто украдкой клал его Мульдигинову в котелок с супом. Обнаружив свиное сало с привязанной к нему на нитке пулей, Мульдигинов подолгу плевался. Начинал ругаться на родном языке и кончал русскими круглыми словами.
Один раз Антонова послали на разгрузку вагонов с продовольствием. Разгружая свиные туши, у одной Антонов обнаружил невырезанные яйца. Попросил у завскладом разрешения взять для угощения друга. Это ему разрешили.
Вместе со свиными яйцами он привез большой кусок баранины. Якобы получил за хорошую работу, но, скорее всего, при удобном случае положил в вещевой мешок без разрешения. Вернулся в роту и сразу же пригласил своего друга варить и есть баранину.
Баранина вместе со свиными яйцами была сварена. Выпили за дружбу по 100 фронтовых грамм. Ужинали оба с большим аппетитом. Мульдигинов сначала съел оба свиных яйца, а потом уже принялся за баранину. Когда котелок опустел, он сказал: «Вкусное мясо, вкусный барашка». Антонов, боясь, что товарища может стошнить, рассказал ему правду только через три дня. Мульдигинов хотя и плевался, но не верил своему другу.
Иногда на НП брал меня с собой командир роты Васильев. Я подсчитывал и корректировал огонь. Наедине Васильев ко мне стал относиться как к равному. Он был хорошим культурным человеком. За пять лет до войны окончил Ленинградский политехнический институт. Работал на Кировском заводе. Жена с ребенком эвакуировалась на Урал, вместе с каким-то важным оборудованием с завода. Шесть месяцев спустя она написала Васильеву письмо, что ждать его очень трудно. Жить без него еще труднее. Нашелся хороший человек, который будет неплохим отцом трехлетней дочери и мужем ей. Письмо жены крепко расшатало нервную систему Васильева. Он стал пить. За что с командира батареи был переведен командиром минометной роты. Здесь численность солдат была небольшая, поэтому водка была менее доступна.
Васильев все равно пил почти каждый вечер. Водку он покупал у солдат. Из его землянки доносилась песня: «Ты ждешь, Лизавета, от мужа привета…».
Немцы нечасто тревожили наш передний край. Редко разыгрывалась артиллерийская и минометная дуэль. Работали разведчики. Они пробивались в глубокие тылы врага, доносили о передвижении немецких войск, таскали языков. Немцы тоже не дремали. Их разведка появлялась в наших тылах. Уводила наших людей как языков. Совершали диверсии.
В ночь на 12 ноября 1943 года немецкая разведка в количестве 15 человек проникла в наш тыл. Зная в нашем переднем крае слабые места, уничтожила полностью наш взвод полковой разведки. От всего взвода остался только один человек, и то чисто случайно.
Произошло это трагическое событие так: в 23 часа немцы со стороны штаба полка, то есть с тыла, в количестве 15 человек подошли к землянке разведчиков. Весь взвод полковой разведки был в сборе. Многие спали. Остальные ребята сидели, чинили свою одежду, чистили оружие.
В это время была смена караула. Стоявший у землянки часовой вошел в нее послать вместо себя смену. В дверях ему встретился рядовой Матвеев, который спешил в туалет под елку. Матвеев видел, как к землянке не спеша подошли люди в маскхалатах, окружили ее полукольцом. Один из них вбежал в узкий проход, открыл дверь и бросил две бутылки с горючей смесью. Пламя озарило землянку и стоявших около нее немцев. Матвеев, не надевая брюки, лег и отполз за елку. Враги бросали в дверь землянки гранаты и бутылки с горючей смесью. Выбегающих горящих людей расстреливали в дверях и узком проходе. Скоро дверной проем был закупорен телами убитых. Раздался взрыв или от противотанковых гранат, которые были в землянке, или немцы бросили туда взрывчатку. Матвеев не знает. Накаты из трех рядов бревен осели и заживо похоронили всех недогоревших людей. Немцы не спеша ушли в тыл, в направлении штаба полка. Матвеев следом за ними побежал в штаб полка, но по дороге их не догнал, они словно растворились в пространстве.
По тревоге подняли роту автоматчиков, защитницу штаба полка. Автоматчики в течение шести часов, до самого рассвета, прочесывали близлежащие леса, но никого не обнаружили.
Все это произошло очень загадочно. Рота саперов по тревоге стала разбирать могилу заживо похороненных разведчиков, извлекая сначала бревна, а затем обгоревшие трупы. Трупы сразу укладывали в выкопанную рядом вместительную братскую могилу. Могила с хорошо знакомыми мне ребятами была не зарыта три дня. Два раза в день я ходил к ней, но из лежавших наверху трех человек в сгоревшей одежде и с обугленными телами признать никого не мог.
Приходя к могиле, говорил: «Здравствуйте, ребята». Уходя: «Прощайте, ребята».
Все они смелые честные люди. На их груди красовалось по нескольку правительственных наград, полученных за опасные дела. Все стали жертвой загадочного предательства. Бдительность на войне – это залог жизни. Наши прославленные на всю дивизию ребята оказались беспечными, небдительными.
Кому было лучше знать, как не разведчикам. Они почти все сотни раз бывали в тылу врага. Сами искали беспечных немцев и, находя их, приводили как языков или уничтожали.
Погибли они в ловушке в страшных мучениях от ожогов и удушья. Кто в этом виноват – пусть судьей будет бог.
Матвеева арестовали, по-видимому, подозревая в предательстве. По неполным данным сидел он более месяца и был отправлен на передний край в соседний полк нашей дивизии. Посыпались приказы о бдительности из штабов полка, дивизии, армии. В нашей роте стоял один часовой. Было приказано ставить двух. Одного у минометов, расположенных в 30 метрах от землянки. Другого – у землянки нашей и штабной.
Снова начали организовывать взвод полковой разведки. Ребят туда приглашали многих, но брали только по личному желанию. С новым пополнением в полк прибыл высокий мощного телосложения моряк. Волосы и глаза черные, лицо изуродовано оспой. Он походил на морского пирата, каких показывают в приключенческих кинофильмах. Взгляд его был суров и, казалось, пронизывал насквозь.
Моряк был направлен в нашу минометную роту и целую неделю был в нашем расчете Казакова. К нему с большим уважением относились не только рядовые, но даже командир роты Васильев. Моряк это видел и использовал в своих целях. На посты не ходил, мины не носил. В стрельбе мы обходились без него. Лежал целыми днями в землянке, ворочаясь с боку на бок.
Длинными ноябрьскими вечерами он рассказывал об обороне Одессы и Севастополя, о рукопашных схватках моряков против немецких автоматчиков, в которых он как капитан второго ранга принимал самое активное участие. По начитанности, по всем манерам и знанию он походил на офицера. Но почему был разжалован, молчал.
Врал он безбожно, на каждом слове противоречил сам себе. Ребята слушали его, знали, что сочиняет, но на вранье его никто не ловил. Боялись его физической силы и даже взгляда.
Командиром взвода разведки был оставлен старший лейтенант Трошин. Был слух, что за гибель всего взвода его хотели судить. Что его спасло, знают только Трошин и командир полка Козлов. Однако Трошин снова здравствует и подбирает себе разведчиков. В минометной роте он появился случайно. Увидев нашего моряка, заинтересовался его мощной фигурой. Вторым после моряка на глаза Трошину попал я. Он кивнул мне головой, но к себе в разведчики не пригласил.
Я в упор пытался встретиться взглядами. Он свои глаза прятал от меня, как ребенок, пойманный с поличным. Нашего храброго в кавычках моряка вызвали в штаб полка и предложили ему быть разведчиком взвода полковой разведки. К нашему большому сожалению, мужественный по внешности и на словах моряк оказался жалким трусом.
Начальнику штаба полка майору Басову он сказал: «Я еще хочу жить» – и отказался быть разведчиком. От нас его перевели в похоронную команду, где проходил службу и мой друг по транспортной роте Путро.
Путро я встретил чисто случайно. Шел с дежурства с НП, навстречу мне попалась вся их команда. Шли кого-то хоронить. Путро оброс рыжей бородой, был грязен, худ. При встрече со мной он смешно сложил свои губы, глаза его почти выкатились из орбит. Приложил к ушанке руку, отрапортовал: «Здравия желаю». Я пожал ему руку, не снимая варежки. Он сунул мне в руку немецкую зажигалку и хрипло проговорил: «Возьми на память» – и, не оборачиваясь, поспешил за своей командой.
Я проводил его взглядом, пока он не скрылся за деревьями, и подумал: «Бедный Путро, ты неплохой парень. Дай бог пережить тебе войну и возвратиться к матери в Ленинград, от которой не получаешь писем вот уже более года и каждый день ждешь почту, встречая еще по дороге».
В длительной обороне минометчику не жизнь, а малина. Три раза в день вышел к минометам, отстрелялся и снова в теплую землянку.
В свободное с избытком время семейные писали своим женам письма, вздыхали, вспоминали детей, скучали о любимых подругах. Холостяки вспоминали любимых девушек, а те, у кого их не было, все заботы переносили на отцов, матерей и братьев.
Мои родители жили в глухой деревушке в Кировской области, далеко от фронта. Обоим им было далеко за шестьдесят. От всех видов обложения и налогов были освобождены по принципу: молодым у нас везде дорога, старикам везде почет. Жили они очень хорошо. Отец, любитель-пчеловод, ежегодно получал по 10-12 пудов меда. С приусадебного участка родителям в достатке хватало хлеба, картофеля и овощей. Корова обеспечивала их молоком, жирами и мясом. В коротких фронтовых письмах они писали ученическим почерком: «Живем хорошо, о нас не беспокойся». Оба они были неграмотны. Письма под их диктовку писали, как правило, ученики, дети.
На фронте нас было три брата. Мы с младшим Степаном в армию были призваны до войны. Она нас застала в солдатских казармах. Старший работал на железной дороге и был мобилизован в октябре 1941 года. С братьями я почти не переписывался. По единственному письму, полученному от Степана из госпиталя, я знал, что он как до войны, так и сейчас пограничник в Карелии. Роли пограничника в войну я не представляю. От старшего Егора я не получил ни одного письма, хотя написал ему два. К младшему Степану я питал особую симпатию и любил его не только как брата, но и друга детства.






