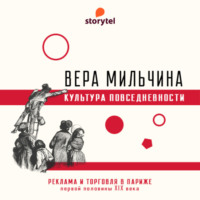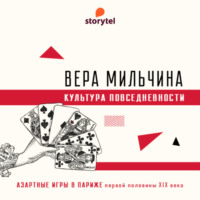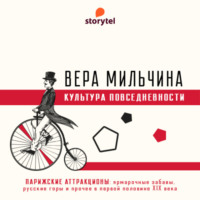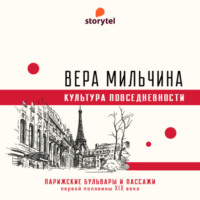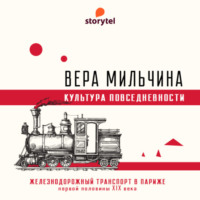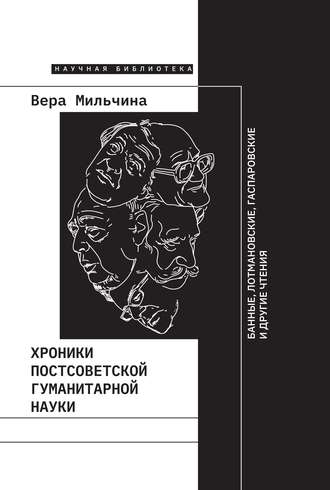
Полная версия
Хроники постсоветской гуманитарной науки
4. После такого крутого поворота дискуссии доклад Хенрика Барана (Университет штата Нью-Йорк, Олбани) прозвучал весьма умиротворяюще. Он назывался «Деревня – паремия – литература»[97]. Докладчик исследовал функционирование паремиологического материала, то есть пословиц и поговорок, в двух произведениях В. Хлебникова: поэме «Сельская дружба» и стихотворении «Русь певучая в месяце Ай…». Баран показал, как используется этот материал для воссоздания природных циклов; названные произведения Хлебникова он поставил в контекст земледельческой поэзии (Гесиод, «Георгики» Вергилия) и поэзии буколической (Феокрит, Спенсер, польско-латинский поэт Шимонович). Коснулся докладчик и судьбы паремиологического материала в текстах новейшего периода (если в европейской словесности ориентация на модель циклического времени с этим материалом не смыкается, то в африканской и латиноамериканской литературе дело обстоит противоположным образом).
5. Ричард Темпест (Иллинойский университет, Урбана) предпослал своему докладу «Семиотизация Сталина и Хрущева по Солженицыну» весьма пространную теоретическую преамбулу, в которой разъяснил, как понимали миф А. Ф. Лосев, М. Элиаде и Р. Барт, что такое «бартезианский» (первоначальный вариант эпитета, «бартианский», был отвергнут по настоянию А. Жолковского) дискурс и каким образом создаются семиологические системы второго порядка. К сожалению, пространность преамбулы не оставила докладчику времени на подробный рассказ о «семиотизации» Хрущева по Солженицыну и, что самое любопытное, Солженицына по Хрущеву, и он успел лишь сказать, что Хрущев на солженицынской бинарной шкале русских правителей находится на самом верху «положительного» полюса – «полюса русака», а также что свергнутый Хрущев, который, подобно Солженицыну, жил на даче и писал тексты, тревожившие «органы», начал воспринимать Солженицына как товарища по несчастью и собрата по писательству. Что же касается «семиотизации» Сталина, то дело не пошло дальше разбора известного фрагмента из романа «В круге первом», где сначала описываются парадные изображения Сталина, а потом реальный Сталин – рябой и сухорукий человек маленького роста. Официальные изображения Сталина Темпест, действуя «по Барту», назвал означающим культа Сталина, а несоответствие между этими изображениями и Сталиным «в жизни» – разрушением семиологической единицы и деконструкцией мифа о Сталине.
Казалось бы, Темпест, учтя горький опыт Чудакова, сделал все, чтобы его не смогли упрекнуть в «методологической невменяемости», и одел доклад мощной теоретической броней. Однако неблагодарная публика совершенно не оценила этих стараний. Вячеслав Курицын сказал, что никакой деконструкции он у Солженицына не наблюдает, так как деконструктор не претендует на то, что его высказывание точно описывает реальность, Солженицын же авторитарно заменяет неверное высказывание (лживый портрет Сталина) верным (со своей точки зрения) – что теоретикам и практикам деконструкции решительно не свойственно. Сергей Зенкин отослал докладчика к книге Е. Мелетинского «Поэтика мифа», два десятка лет назад осуществившей применительно к «русскоязычной» публике ту просветительскую миссию, которую нынче взвалил на себя исследователь из Урбаны; Зенкин напомнил также, что Барт включал в число мифологизируемых предметов только предметы потребления, субъектов же политики в виду не имел, так что тень его скорее всего была потревожена совершенно напрасно. Наконец, А. Зорин в чрезвычайно изящной реплике определил выступление Темпеста как типичный «русский дискурс», где возникла по контрасту со «страной Россией» пресловутая «страна Запад» и где было определено все, кроме понятий «Сталин», «Солженицын» и «Хрущев», каковые мифологизировались прямо на наших глазах так стремительно, что четырежды докладчик допускал оговорки, поминая вместо Сталина Солженицына, а вместо Солженицына – Сталина. Кстати об оговорках; по ходу своего изложения Темпест упомянул среди партийных начальников, «воспитывавших» опального Хрущева, «некоего Кириенко»; зал в лице тех, кто еще сохранил некоторые воспоминания о советских годах, возмущенно ухнул: мифологизация Кириленко не удалась, и он вновь обрел свою законную букву «л».
6. Доклад автора этих строк носил название весьма пространное: «Избранные страницы из жизни плута, или Как создавалось европейское общественное мнение», речь же в нем шла об особенностях журналистской деятельности Шарля Дюрана, редактора франкоязычной газеты «Journal de Francfort», с 1833 года выходившей во Франкфурте на деньги России, Австрии и Пруссии[98]. Дюран не просто принимал вспомоществования; он подводил под это довольно любопытную теоретическую базу. Он считал глубоко несправедливой ситуацию, когда якобинцы щедро награждают своих писателей, монархисты же своих стыдятся, и убеждал своих русских покровителей, что многие либералы охотно стали бы монархистами, если бы им за это заплатили. Но русских и австрийских денег Дюрану показалось мало; получив предложение сотрудничества от Франции, которая в это время находилась с Россией в весьма прохладных отношениях, но очень хотела эти отношения улучшить, он решил совместить принципы с интересами и стал печатать в газете (от своего лица) статьи из Парижа, помечая по просьбе австрийского канцлера Меттерниха на его экземпляре особыми значками эти французские материалы. Своему парижскому «работодателю» Луи Дюрану («не родственнику», специально подчеркивал он в послании Бенкендорфу) герой доклада объяснял, что может напечатать в своей газете все что хочет, но должен иметь возможность маневрировать: либо объявлять эти материалы присланными из Парижа, либо помещать их в разделе «Вести из Германии». Газетные тексты, таким образом, совершенно отрываются от реального сочинителя и поставленная под ними подпись меняет их смысл в сторону, диктуемую политической конъюнктурой (так действовал в ту пору не один Дюран; агент Третьего отделения в Париже Я. Н. Толстой, в чьи задачи входила «покупка» французских легитимистских газет и публикация в них статей в пользу России, возмущался поступком богача Анатолия Демидова, который напечатал во влиятельной газете «Journal des Débats» заметку за собственной подписью, впрочем вполне хвалебную по отношению к России; ведь я, писал Толстой, мог сделать это не хуже, но за подписью французского легитимиста, а такая статья имела бы вид куда более беспристрастный!). Мораль: прежде чем использовать материалы тогдашних газет как исторический источник, следует выяснить, кто за них заплатил.
7. В отличие от других участников чтений, в основном говоривших о тех авторах и эпохах, какие всегда являются предметами их внимания, Александр Осповат сменил тему и произнес доклад под названием «Вокруг и около теории литературного быта Б. М. Эйхенбаума». Осповат говорил о том, как совершалось в конце 1920‐х годов отпадение Эйхенбаума от формализма. В пристрастной интерпретации Шкловского отпадение это, выразившееся, в частности, в создании теории «литературного быта», представало «окончательным разложением» и «полным маразмом», однако, по мнению докладчика, в реальности литературным бытом довольно скоро стал заниматься сам Шкловский (книга о Матвее Комарове) и «прозелиты» Эйхенбаума: Аронсон и Рейсер (авторы книги «Литературные кружки и салоны»), Гриц и Тренин (авторы книги «Литература и коммерция»), Эйхенбаум же, обращавший преимущественное внимание на понятия биографии и судьбы, на знаки исторической характерности, переходящие с одних явлений на другие, подошел вплотную к созданию новой дисциплины, равноправной с поэтикой, – культурологии (решением сходных проблем занялся Лотман в «Статьях по типологии культуры»). На фоне панпоэтики 1920‐х годов новые разыскания Эйхенбаума (не «как сделана „Шинель“», но что означала «Война и мир» для различных групп читателей) казались ненужными, однако роль их куда важнее, чем казалось коллегам-формалистам. Во-первых, они «запрограммировали» тот поворот, который, по-видимому, при должной открытости ума рано или поздно происходит со всеми адептами «чистой» поэтики (Осповат сослался на «профессора Z» – Александра Жолковского, который ныне занимается «стратегиями поведения» писателей, от чего 20 лет назад с возмущением бы отказался). Во-вторых же, Эйхенбаум снял с исследователей тяжкий груз – необходимость быть верным присяге и доказывать всю жизнь одну и ту же теорию (тоже своеобразное проявление чувства историзма).
Из дискуссии тут же выяснилось, что груз этот тяготит далеко не всех. Александр Иванов сказал, что имманентное прочтение литературного текста, продемонстрированное Эйхенбаумом в статье «Как сделана „Шинель“», безусловно, возможно и необходимо, и тартуская школа совершенно напрасно стала объяснять произведения литературы, редуцируя их к чему-то другому. Впрочем, попытки повторения методологического тайфуна, разбушевавшегося после доклада Чудакова, были пресечены Осповатом, сказавшим, что его счастливое неведение насчет того, что должен делать филолог, освобождает его (вослед Эйхенбауму) от потребности в жесткой методологической узде.
8. Доклад Раисы Кирсановой назывался «Романтический идеал и действительность». «Упаковка» донельзя скучная, но содержание в ней обнаружилось увлекательнейшее, причем, как ни парадоксально, строго отвечающее заявленной теме! Кирсанова говорила о том, как мало соответствовал реальный быт (прежде всего костюм) романтической эпохи идеологическим декларациям писателей-романтиков. В текстах речь постоянно шла о свободе духа, в жизни же люди были предельно несвободны в отношении чисто физическом: мужчины непременно носили несколько жилетов, один из которых представлял собою корсет, и затягивались точно так же, как и дамы; высокие воротники и галстуки, закреплявшиеся на спине с помощью целой системы завязок, не давали мужчинам повернуть голову, так что поворачиваться приходилось всем корпусом, а появление более свободного «байроновского» галтука (косынки, которая завязывалась так, чтобы не стягивать горло) произвело настоящую революцию. Разрыв между декларациями и реальной практикой наблюдался и в области русского народного костюма: русское платье для дам насаждалось сверху и стало в 1830‐е годы официальным придворным дамским «мундиром», однако русская тема здесь трактовалась маскарадным образом: например, допускалась открытая грудь, что в реальном народном костюме было бы решительно невозможно (купчиха, даже вынужденная надеть такой декольтированный наряд, прикрыла бы грудь пусть прозрачной, но все-таки тканью). Чрезвычайно интересны были также замечания Кирсановой о том, как в разные эпохи искусство (в том числе и такая сфера пересечения искусства и быта, как костюм) ориентировалось на разную античность: в пору, когда господствовал стиль ампир, за образец брались мраморные копии греческих бронзовых статуй; женщины белили тело «под мрамор», а когда в Александровскую эпоху статуи в парке выкрасили однажды в розовый цвет, возмущенный император тотчас осведомился, зачем в парке голые люди, ибо статуй в них не опознал. В основе же более позднего течения («art déco» начала XX века) лежала ориентация на греческую вазопись; отсюда насыщенный колорит и жесткость линий – в том числе в моделях костюмов, разработанных Бакстом для парижского модельера Жанны Пакен.
9. Абрам Рейтблат говорил о «Романе писательского краха» (подзаголовок: литературный быт в русской прозе конца XIX века)[99]. Роман этот – выделенная самим исследователем жанровая разновидность, целый ряд произведений, повествующих о судьбе талантливого и идейного литератора, который по ходу своих занятий литературой убеждается, что писать то, что хочется, невозможно, и остается либо продать себя, начать сочинять романы или статьи на потребу невоспитанной публике, либо вовсе проститься с литературной деятельностью. Возникновение этой коллизии (которая, безусловно, не была плодом фантазии романистов, но существовала в действительности) докладчик связал с «газетным бумом» 1880–1890‐х годов, когда в низших сословиях наблюдалась огромная тяга к чтению, наверху же, среди литераторов, ослабело осознание писательской миссии как миссии учительской, проповеднической, но память об этом прежнем почетном статусе писателя сохранилась. Отсюда на одном полюсе – появление «продажных писак», которые, однако, тяжко переживают свою продажность, а на противоположном полюсе – рождение декадентов, которые сами сознательно отказываются от учительства.
Развернутый комментарий к докладу Рейтблата (практически содоклад) сделал Борис Дубин. Он говорил о существовании в истории литературы периодов безвременья, когда последователи у некоего культурного явления уже исчезли, а ниспровергатели еще не появились. Именно таким был тот период, который рассматривал Рейтблат: большая нормативная парадигма просветительского, воспитательного искусства закончилась, прежняя литературная форма потерпела крах (производным от него является тот крах отдельных литераторов, как реальных, так и вымышленных, о котором шла речь в докладе), прежняя рамка серьезных произведений больше не порождает, но сохраняется в качестве точки отсчета; происходит некоторая закупорка, когда литература никуда не движется, а нарождающихся литераторов тотчас «съедает» среда – а потом внезапно литературные поколения начинают сменяться с калейдоскопической скоростью, и перед ошеломленным читателем почти одновременно предстают символизм, футуризм, акмеизм, имажинизм и проч. (Дубин привел и более свежий пример: во время перестройки за два – два с половиной года перед читателем прошла одновременно практически вся русская литература ХX века.) Дубин значительно расширил само понятие «литературного краха», связав с ним тему «несвоевременного», неосуществимого, невозможного писательства («Мастер и Маргарита», «Доктор Живаго», «Поэма без героя»): здесь мы имеем дело не с несостоятельностью писателя как проблемой его карьеры, но с невозможностью письма как проблемой экзистенциальной.
Дискуссия вокруг доклада Рейтблата – Дубина развивалась в основном в сторону расширения круга источников: Андрей Немзер напомнил о литературных неудачниках, действующих в прозе Бальзака и в русской словесности начиная с 1830–1840‐х годов (где понятия «литератор» и «честность» непременно связаны так, что даже продавшийся герой вроде Глумова в первой, «идеалистической» фазе обязательно что-то пописывает), Сергей Зенкин связал сюжет о литературном крахе с общеэстетическими представлениями раннеромантической эпохи о том, что идеальное творение обречено на неудачу (здесь, следовательно, важны не столько бальзаковские «Утраченные иллюзии», сколько его же «Неведомый шедевр»); разница между романтическими героями и героями Рейтблата в том, что в романтизме конфликт носит сугубо внешний характер, в душе художника его нет.
10. Николай Богомолов говорил о «Литературе и мистическом быте конца 1900‐х – начала 1910‐х годов»[100], а конкретнее – о мистических увлечениях и оккультных штудиях членов первого Цеха поэтов; в конце доклада он высказал предположение, что каждый из участников Цеха воплощал в себе одну из сторон личности его «синдика» – Гумилева, и члены оккультной «фракции» не являлись исключением.
11. Если доклад Богомолова особых споров не вызвал, то последовавший за ним доклад Сергея Козлова «„Я не Бодлер“: сопротивление быту в поэзии Анненского» снова возбудил чуть поутихшую аудиторию до чрезвычайности. Фраза Анненского, приведенная в названии доклада, взята из его частного письма 1906 года, написанного в Вологде. Почти одновременно с этим письмом, 20 мая 1906 года, сочинено стихотворение «Я на дне…», которое, собственно, и стало предметом анализа в докладе. Докладчик рассмотрел возможные коннотации единственного упоминаемого в стихотворении имени собственного – Андромеда. Андромеда – инобытие Андромахи, а связанная с нею тема вдовства ведет к понятию échafaudage (нагромождение. – фр.), которое, в свою очередь, отсылает к Бодлеру (стихотворение «Лебедь»); иначе говоря, тема вдовства у Анненского связана с Бодлером. Но о ком тоскует упомянутая в анализируемом стихотворении «Андромеда с искалеченной белой рукой»? Докладчик предположил (и тем навлек на себя бурю возражений), что если для Андромеды логично тосковать о Персее, то все стихотворение («Помню небо, зигзаги полета…») написано от его лица («зигзаги», в частности, восходят к «Метаморфозам» Овидия, где полет Персея описан именно так), а упал Персей («Я на дне, я печальный обломок…») оттого, что в руках у него была голова Медузы. Этот Персей – репрезентант Анненского, вся экзистенция которого адекватно описывается в терминах выживания; выживание происходит за счет уклонения в борьбе с превосходящей силой. В этом контексте в Медузе, погубившей летучего и светоносного Персея, можно опознать скуку – главного врага Бодлера. Иными словами, в стихотворении, по поводу которого было сказано: «Я не Бодлер», обнаруживаются бодлеровские ассоциации. Разница между Анненским и Бодлером в том, что у них разная стратегия. Анненский отказывается от бодлеровской интенсивной символизации повседневности, окультуривания ее мощными символическими подтекстами. В письме из Вологды он скептически описывает все поэтические красоты этого города (колокольный звон, в частности, мешает ему писать стихи), и единственным фактором, который оценивается с положительным знаком, оказывается парной дождь – проявление той неокультуренной природы, которую Бодлер страстно ненавидел.
Основная дискуссия, как я уже сказала, развернулась вокруг Персея. Далеко не всем его присутствие в стихотворении показалось очевидным; точку зрения скептиков сформулировал Михаил Гаспаров, сказавший, что «по своей наивности» не видит в стихотворении ни Персея, ни Медузы и считает его написанным от лица обломка статуи Андромеды (на что Козлов возразил, что Анненскому была свойственна поэтика опущенных звеньев; самое важное он в своих стихах часто опускал, и в данном случае именно такими опущенными звеньями являются неназванные Персей и Медуза). Процедура установления личности Персея и прочих «персонажей» стихотворения настолько увлекла аудиторию, что Александр Жолковский на следующий день специально попросил автора этих строк «занести в протокол», что лично он прочит на роль отбитой руки статуи Анну Андреевну Ахматову.
12. О вещах куда менее гадательных, но ничуть не менее интересных говорила Ирина Шевеленко в докладе «Издательская практика времен идеологической войны (к истории издания русских классиков XX века в США)». Источником доклада послужил корпус писем Бориса Филиппова, хранящийся в Фонде Глеба Струве в Стэнфорде. Докладчица рассказала о том, с каким трудом приходилось Филиппову и Струве убеждать представителей «фондирующих организаций» финансировать издания этих самых русских классиков XX века. К поэтическим их достоинствам лица, которые давали деньги, оставались вполне равнодушны и были совершенно убеждены, что Цветаева – это псевдоним Ахматовой[101], а Мандельштам интересен лишь тем, что был репрессирован. При выборе книг для издания Филиппову приходилось руководствоваться в первую очередь политической конъюнктурой, ибо его «спонсоры» понимали лишь аргументы политические. Воспользоваться скандалом вокруг «Доктора Живаго» и под этим предлогом издать том пастернаковских стихов, писал Филиппов Струве, – это «самый верный ход конем» (на это деньги наверняка дадут). Точно так же, как мы по эту сторону железного занавеса доказывали советским чиновникам, что тот или иной писатель прошлого был в общем-то не против революции, а осуждал лишь ее эксцессы, и проч., точно так же Филиппов постоянно должен был доказывать американским «фондирующим» чиновникам, что Мандельштам и Ахматова – это мощное идеологическое оружие, что если эмигрантские издания постоянно критикуются в советской прессе, то, следовательно, они играют важнейшую роль в борьбе с советским режимом (существенным аргументом были и детали чисто технические: сколько книг и по каким каналам можно будет переправить в Советский Союз). Доводы звучали весьма убедительно, однако в конце 1960‐х годов левые выступления американской прессы и разочарование «фондирующих» (нет прямой отдачи!) положили конец издательской деятельности Филиппова и Струве; началась эпоха «Ардиса», где издавали преимущественно современную литературу – и безо всяких «политических спонсоров».
Именно об «отдаче» (отсутствие которой удручало американских госслужащих) говорил в своей пространной реплике Александр Осповат. Он напомнил, что Филиппову и Струве, их предисловиям к «тамиздатовским» классикам ХX века обязаны не только идеями, но и синтаксисом, самим строем языка и мышления диссиденты 60‐х годов, к какому бы направлению, либеральному или почвенническому, они ни принадлежали. Струве и Филиппов не претендовали на роль духовных отцов, однако, несомненно, ее сыграли.
13. И наконец, наступил апофеоз первого дня Третьих Банных чтений. В моднейшей пестрой жилетке, сменив утренние шорты на вечерние брюки, на сцену поднялся профессор Z, он же Александр Жолковский (Университет Южной Калифорнии, Лос-Анджелес), и мы услышали доклад «Анна Ахматова в школе и дома: к жизнетворческим стратегиям самопрезентации», который сам автор охарактеризовал как фрагмент из более обширной работы под названием «Прогулки по Ахматовой»[102]. Речь шла, в частности, об отношениях Маяковский – Ахматова. Ахматова долгое время не могла простить Маяковскому того, что он однажды на эстраде спел «Сероглазого короля» на мотив песни «Ехал на ярмарку ухарь-купец…»; с другой стороны, из воспоминаний Алексея Баталова известно, что она сама провоцировала пародийное исполнение своих стихов (в частности, заставила Баталова спеть «под Вертинского» не только стихи Маяковского – в качестве своеобразной запоздалой мести за некогда исковерканного «Сероглазого короля», – но и свои собственные). Однако смех над собой Ахматова, по мнению докладчика, допускала не всегда, а только в тех случаях, когда он был ею же самой и срежиссирован и оставался под полным ее контролем (докладчик употребил здесь слова «узурпация карнавала» и даже помянул эйзенштейновского «Ивана Грозного»). Сосредоточенная только на самой себе, Ахматова отстала от Сальери, но к Моцарту не пристала.
Доклад вызвал претензии двоякого свойства. Во-первых, поскольку все выводы докладчик делал на основе определенного корпуса мемуаров, ему были сделаны многочисленные источниковедческие замечания: почему он учел только определенные воспоминания, а другими пренебрег и почему он вообще принимает все воспоминания об Ахматовой как данность, не учитывая возможного искажения фактов под влиянием личности мемуариста (личности и неутомимый полемический темперамент выступавших – Леонида Кациса и Константина Поливанова – также имеют первостепенное значение; они сыграли в этой дискуссии не последнюю роль). Во-вторых, доклад вызвал недоумение «морального» свойства, наиболее четко выразившееся в вопросе Ирины Прохоровой: «Так хороший, по-вашему, Ахматова поэт или плохой?»; Жолковский ответил: «Хороший, поэтому-то я и не анализирую ее стихов», однако его, мягко говоря, скептическое отношение к Ахматовой как личности проявилось в докладе слишком заметно для того, чтобы его смогли смягчить какие бы то ни было позднейшие декларации. Само по себе ироническое отношение к объекту исследования, конечно, никому не возбраняется, однако в данном случае оно натолкнулось на неприятие зала, – возможно, по той причине, что многие разделяют точку зрения А. Зорина: мы читаем тексты, чтобы понять имя и личность, Ахматова же – гениальное явление культуры, и гениальность эту можно осознавать, не только изучая ее тексты, но и постигая принципы ее жизнедеятельности (тем более что, по утверждению самого Жолковского, в этом деле она была таким мастером, что дала бы сто очков вперед самому Вячеславу Иванову).
На этом закончился первый день Банных чтений, а назавтра начался день второй.
14. Начался он с доклада Марии Неклюдовой «К понятию скандала во французской культуре XVII века». В основу доклада было положено то значение слова «скандал», которое главенствовало во Франции в XVI–XVII веках: скандал как грехопадение. Обследовав случаи употребления этого понятия в мемуарах Сен-Симона, докладчица пришла к выводу, что скандал невербален (он визуален, это некое миниатюрное представление) и связан с вопросами морали лишь косвенным образом (любовные похождения, как бы бурно они ни протекали, в понимании XVII века – не скандал); скандал – невидимая ловушка для тех, кого аристократическое общество выбирает своими жертвами (при этом символически подразумевая короля, которого хотело бы принести в жертву, но не имеет такой возможности); человек, оказавшийся в ситуации скандала, вычеркивается из жизни общества навсегда, и характерно, что, описав «героя» скандала, Сен-Симон тут же сообщает о его смерти, пусть даже в реальности она произошла несколькими годами или даже десятилетиями позже.