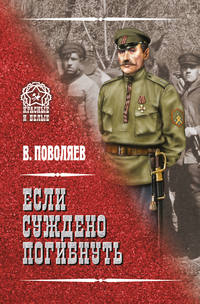Полная версия
Разбитое зеркало (сборник)
В планшетке той лежало прощальное письмо лейтенанта. Сохранилось письмо, не погибло. Лишь в двух местах бумагу взяла плесенная прель, в одном месте оставила свой след какая-то мелкая бумагогрызка, – ну словно бы дробью секанула по письму, прошлась острыми зубами, а в остальном ничего, строчки не пропали, не смылись, слова сохранились все до единого.
Содержание письма было, конечно, обычное, от него даже фронтом особо не пахло, но часть присутствующих, – прежде всего женщины, которые помнили войну, – заплакали: ведь это письмо было вестью из того времени, которое они помнили, помнили и поминали в своих молитвах, в песнях, в разговорах, в думах, которое, будто ожог вызывало у них слезы.
Вызвало слезы и сейчас. Память о беде, даже минувшей, обычно сидит в человеке долго. Так было всегда.
Письмо вместе с планшеткой и фотоснимком лейтенанта Тихонова, присланными с хутора, отправили в областной центр, в краеведческий музей: место этим свидетельствам того задымленного, закопченного, тяжелого, яростного времени было там, и только там.
Жители же Большого Фоминского объявили у себя денежную подписку, сложились, и вскоре на земле, где погиб их земляк, поставили блестящую, мастеровито сваренную из нержавейки пирамидку, увенчанную золотистой латунной звездой, а на боку памятника написали, какой подвиг здесь был совершен…
И еще. Последнее, как иногда говорят мудрые теоретики, а их поправляют практики, имеющие хороший опыт: «Не последнее, а крайнее»… Всякая война, даже малая, – это проклятое пекло, так просто и горько высказался один писатель-фронтовик, пекло, в котором сгорает все: и судьбы человеческие, и сами солдаты, и техника, и города с селами и даже целые государства. Все это, увы, так. Сгорает лучшее, что сумела создать матушка-природа – в большом количестве погибают люди, к войне никакого отношения не имеющие, в том числе и самородки, нацеленные на мирную жизнь и созидание, извините за выспренный слог, конструкторы завтрашнего дня, погибают лучшие и прежде всего – таланты. Война обладает страшной способностью распознавать их в первую очередь, находить и уничтожать.
Кто знает, может быть, из Тихонова получился бы второй маршал Рокоссовский или полководец Конев, но он погиб лейтенантом. Выполнил свой солдатский долг и лег в землю.
Все, что произошло с Тихоновым, вплоть до сбитого из простой снайперской винтовки самолета, все, что описано в повести, – правда. Все это было, было!
Узнав историю Тихонова, я подумал невольно: а ведь наверняка в его биографии есть натяжки, без натяжек, как во всяком приключенческом повествовании, не обойтись, но на проверку оказалось – натяжек нет. И жизнь довоенная, в чем-то безмятежная, в чем-то трудная, была у Тихонова именно такой, и пойманные диверсанты на улице маленького городка были, и подстреленный «лаптежник», и георгиевский кавалер дед Павел, погибший в Гражданскую, и добровольное восхождение на плаху, и гибель в бою – все это было у лейтенанта, выпускника Киевского пехотного училища. Кстати, фамилия лейтенанта – подлинная…
Мне оставалось только взяться за ручку и изложить то, что вы только что прочитали…
И пожелать всем нам: не допусти Господь еще одну войну на нашу землю!
Список войны
Пополнение привезли на четырёх новеньких «зисах» – машинах завода имени Сталина, сработанных на скорую руку уже на Урале, а не в Москве, с пахнущими краской кабинами, с фарами, на которые были надеты колпаки с прорезями, чтобы ночью свет автомобилей не был виден с воздуха и машины не атаковывали немецкие самолёты, с кузовами, битком набитыми людьми в солдатской форме.
Часть прибывшего пополнения была уже потёрта фронтом, покарябана – побывала в боях, получила ранения и отвалялась своё в госпиталях, часть была вообще необмята – совсем зелёные новички… Конечно, командиры, приехавшие за пополнением и разобравшие его в несколько минут, гонялись в основном за «старичками» – опытные солдаты были очень нужны, на новичков поглядывали недружелюбно и брали их к себе неохотно – слишком уж много предстоит с ними мороки, им ещё надо объяснять, с какого бока подходить к винтовке, где у неё дуло с мушкой, а где приклад с железной пластиной упора, но даже и после подробных объяснений нельзя будет считать, что новички стали солдатами…
Вот когда повоюет иной парнишка месяц-полтора, пропитается порохом до самого копчика, тогда можно будет вносить его в разные списки и ставить на настоящее довольствие. Хотя на довольствие они попадают гораздо раньше, иногда даже до того, как появятся в части.
Старший лейтенант Горшков только подивился тому, как быстро растаял строй пополнения – очень уж подсуетились товарищи командиры, – с огорчение подумал о том, что надо было бы приехать минут на десять раньше, но не вышло, получилось то, что получилось, в строю пополнения осталось лишь человек пять хлипких прыщавых юнцов, один колченогий дедок с ходулями такими кривыми, что их можно использовать вместо циркуля, да приземистый человек с рысьими светлыми глазами и какой-то сожалеющей улыбкой, прочно приклеившейся к твёрдым жёстким губами.
Горшков озадаченно почесал затылок: брать было некого.
Водители «зисов» выстроили своих железных коней в рядок и отбыли колонной – так же, как и прибыли, рядком… Едва рокот автомобильных моторов стих, как стал слышен другой рокот – где-то за облаками ходил самолёт, судя по всему, с характерным собачьим «гау-гау-гау», но поскольку облака наползли плотные, ни одной дырки в них, пилот был слеп, как крот, его можно было не опасаться. Напрасно водители «зисов» поторопились… А с другой стороны, беспокоиться о собственной жизни никому не возбраняется. Горшков прошёлся вдоль жидкого строя оставшихся, по лицу его было хорошо видно, что он думает о сложившейся ситуации, о людях, тянущихся перед ним во «фрунт».
Впрочем, один из прибывших и не думал тянуться перед командиром – независимо поглядывал в сторону и что-то тихонько сплёвывал на землю, словно бы к губам у него прилип банный лист и он теперь скусывал его по частям.
Это был мужичок с плоским загорелым лицом и рысьими глазами.
Горшков остановился перед ним.
– Как тебя зовут?
Мужичок окинул старшего лейтенанта оценивающим взором, – с головы до ног прошёлся, – и ответил неторопливо, с достоинством:
– Мустафа.
– Где крещение порохом и дымом принимал, Мустафа?
– Под городом дедушки Калинина, в декабре сорок первого…
– Значит, под Калинином. А до этого где был?
Мустафа чуть приметно усмехнулся.
– В зоне.
– Сидел?
– Сидел.
– За что?
– Да так. Развлекался мало-помалу.
– Значит, серьёзно развлекался, иначе бы не посадили.
Старший лейтенант ещё раз окинул Мустафу взглядом, подумал о том, что в полку к этому человеку могут придраться, поскольку полк их, артиллерийский, считается элитным, да и вообще артиллеристы – это белая кость в армии, образованные люди, сливки, – тем не менее спросил Мустафу:
– Ординарцем ко мне пойдёшь?
– А возьмёте?
– Раз предлагаю – значит, возьму.
Мустафа поддел под лямку тощий «сидор», висевший у него на плече, и произнёс тихо и спокойно:
– Хоть и не привык я начальству сапоги чистить, но к вам пойду, – видимо, что-то сработало в нём, он оценил командира, стоявшего перед ним, и поверил ему.
– Я, Мустафа, начальник разведки артиллерийского полка и сапоги мне чистить необязательно, если надо, я их и сам могу почистить, но вот когда пойду на ту сторону фронта, с разведчиками, со мной надо идти обязательно.
У Мустафы, когда он услышал об этом, даже выражение глаз изменилось – то ли посветлели они больше обычного, то ли загорелись – заполыхали в них крохотные костерки, изменили взгляд, то ли произошло что-то ещё, прошло всего несколько мгновений, и перед Горшковым стоял уже другой человек.
– Разведку я уважаю, – проговорил Мустафа прежним тихим голосом.
– Тогда поехали, друг, – старший лейтенант махнул рукой, забирая бывшего зэка, расписался в ведомости у тщедушного горбоносого младшего политрука, отвечавшего за целостность пополнения, и пошёл к своей машине – полуторке с обломанными бортами – на неё во время бомбёжки рухнуло тяжёлое дерево, – по дороге спросил: – Чтобы быть полезным в разведке, делать что-нибудь умеешь?
Мустафа неопределённо приподнял одно плечо, почесался о него щекой и произнёс простодушно:
– Не знаю. Может, умею, а может, и нет.
– Ну, например? – Горшков остановился, испытующе посмотрел на Мустафу.
Тот также остановился, сунул руку за голенище и вытащил оттуда нож. Небольшой самодельный финский нож с цветной наборной ручкой и прочными алюминиевыми усиками. Лёгким движением послал нож вниз, себе под сапоги.
Нож всадился в землю по самые усики.
– Ну и что? – недоумённо спросил старший лейтенант. – В чём фокус?
Мустафа молча извлёк нож из земли, снова взмахнул им, и лезвие вошло точно в прежний след, в прорезь, оставленную первым ударом, миллиметр в миллиметр. Горшков хмыкнул непроизвольно: а ведь действительно в этом что-то есть… Мустафа тем временем снова выдернул нож из земли и опять вогнал нож в старую щель – в третий раз не нарушил прорезь ни на миллиметр. Предложил:
– Может, попробуете, товарищ старший лейтенант?
– А ведь ей-ей, хрен повторишь? – сомневающимся тоном проговорил Горшков, покачал головой, словно бы осуждая себя за что-то, потом нагнулся, вытащил нож из земли, скребнул пальцем по лезвию. – И не жалко тебе, Мустафа, такой острый нож тупить?
– Я его наточу, это дело недолгое.
Горшков задержал в себе дыхание, будто перед показной стрельбой на учениях, примерился, внёс небольшую поправку, глядя на кончик острия прищуренным глазом, и метнул нож в прорезь, оставленную Мустафой. Крякнул досадливо – нож всадился в землю по самую рукоятку сантиметрах в семи от прорези.
– Тьфу! – сплюнул себе под ноги старший лейтенант. – Наваждение какое-то. Такое простое дело, а мимо почему-то.
Мустафа вежливо рассмеялся.
– Да не наваждение, товарищ старший лейтенант, а тренировка.
Старший лейтенант почувствовал, что он начинает заводиться.
– Дай-ка, попробую ещё разок, – сказал он, берясь за рукоять ножа.
– Попыток – не пыток, – коряво, искажённой пословицей, отозвался на это Мустафа.
Вытащив нож, Горшков несколько мгновений держал его в руке, словно проверял на тяжесть, либо искал центр, точно разделяющий черенок с лезвием, поморщился озадаченно, ухватился за нож поудобнее и снова послал его в землю. Опять мимо – до прорези не дотянул сантиметра три.
– Ну-ка, попробуй снова ты, – сказал старший лейтенант, протянул нож Мустафе.
Тот понимающе наклонил голову, ловко перехватил нож и без всяких примерок, без прицеливания, отправил его в землю, в след, оставленный последним броском старшего лейтенанта, затем нагнулся, вытащил финку – движения были отлаженными, точными и, не останавливаясь ни на секунду, сильно и ловко кинул нож себе под сапоги. Только комочки влажной земли брызнули в разные стороны.
Лезвие точно вошло в старый разрез, оставшийся после ударов Мустафы.
– Ловко! – удивлённо произнёс старший лейтенант. – Простая вроде бы вещь, а семь потов надо пролить, прежде чем получится что-то путное…
– Больше, товарищ командир, – серьёзным, даже чуточку опечаленным, а может быть, обиженным тоном проговорил Мустафа, – не семь потов, и не семнадцать, и даже не семьдесят… Для этого надо посидеть в лагере.
– Тьфу, тьфу, тьфу! – недовольно дёрнул головой старший лейтенант. – Лучше не надо… Это нам, пардоньте, совсем ни к чему.
– Тьфу, тьфу, тьфу! – повторил Мустафа плевки старшего лейтенанта. – Я имел в виду совсем не это.
– А в дерево со скольких метров попадаешь? – спросил Горшков.
– Ну-у… Если нож с тяжёлым лезвием, утяжелённым ртутью или свинцом, могу даже с двадцати метров попасть.
– А больше?
– Больше – вряд ли.
– Ну-ка, попробуем…
– Не верите? – Мустафа улыбнулся, блеснув чистыми, на удивление молодыми крепкими зубами. – Ваше право. Я бы тоже, наверное, не поверил.
Полуторка старшего лейтенанта стояла под вялой, с обломанными сучьями берёзой. Ствол дерева был сильно посечён осколками. Горшков показал пальцем на берёзу:
– Попробуем?
– Попыток – не пыток, – привычно произнёс в ответ Мустафа.
Старший лейтенант подошёл к березе и стал шагами измерять пространство. Отмерив пятнадцать шагов, остановился.
– Ну, Мустафа, сколько метров ещё отматывать?
– Давайте, товарищ командир, как и договорились, остановимся на двадцати.
– Двадцать так двадцать, – произнёс Горшков согласно, отсчитал ещё пять метров и провёл носком сапога на земле черту. – Есть двадцатка. Вот риска.
Мустафа, ловко подкидывая нож и ловя его на ходу – каждый раз нож оказывался наборной ручкой в ладони, приблизился к риске, встал около неё и несколько мгновений стоял молча, вглядываясь в изувеченный ствол и вслепую подкидывая и ловя нож.
Потом, поймав его в очередной раз, сильно взмахнул рукой.
В воздухе раздался свист. Нож нёсся, как пуля, он почти не был виден, достиг берёзового ствола и всадился в него.
Горшков не выдержал, похлопал в ладони, лицо старшего лейтенанта сделалось весёлым, открытым, будто он что-то выиграл в карты.
– Браво, Мустафа!
Мустафа, никак не реагируя на восторги старшего лейтенанта, прошёл к берёзе, выдернул из ствола нож.
– Ехать пора, товарищ командир, – произнёс он негромко.
– Счас поедем. Доберёмся до части, там нас ждёт обед.
– Пообедать и тут можно. У меня есть полбуханки хлеба и банка немецкой консервированной колбасы.
– Я тоже не пустой, но первое мы с тобой вряд ли сумеем сгородить. А я хочу первого отведать, супа какого-нибудь. На сухомятке мы с тобой ещё насидимся, когда в разведку пойдём… – Горшков оглянулся на полуторку. В кабине спал, положив голову на руль, водитель. – Да и шофёр – едок не промах, имеет изнеженное брюхо, вряд ли согласится на сухомятку. Ладно, поехали, друг Мустафа…
– Как скажете, товарищ старший лейтенант, так и будет.
Мустафа прыгнул в кузов, Горшков уселся рядом с шофёром, длинноносым унылым парнем с висячим пыльным чубом, закрывавшим с одной стороны глаз едва ли не целиком, шофёр зевнул, откинул чупрынь в сторону и завёл мотор.
Дорога была изрыта воронками, скорость не наберёшь даже самую малую – колёса обязательно унесёт на ближайшее дерево, поэтому шофёр ожесточённо тряс чубом и матерился, объезжая воронки и короткими бросками продвигаясь вперёд.
Неожиданно он нажал на тормоз и остановил машину, чуть не уткнувшись лицом в ветровое стекло. Сморщился болезненно, будто в него угодила пуля.
– Господи, – прошептал он неверяще, – Вовка Макаров… Неужели это ты? – Шофёр всхлипнул зажато, тоненько, словно бы в нём что-то отказало – взяла и оборвалась внутри нужная мышца и жизнь сразу сделалась бессмысленной.
Впереди, между двумя голыми, напрочь очищенными от веток и сучьев деревьями, стоял старенький грузовик и медленно догорал. Задние колеса у грузовика были оторваны, проломленным кузовом автомобиль опустился в свежую, источавшую едкий дым воронку.
– Вовка! – горестно взвыл водитель и выскочил из кабины.
Старший лейтенант выскочил следом.
Собственно, кузова у грузовика уже не было, вместо днища зияла большая дыра. Снаряд, прилетевший издалека, умудрился выбрать себе цель и точно угодил в неё, проломил кузов грузовика и взорвался в земле.
От шофёра после таких попаданий обычно остаётся одна оболочка – кожа с переломанными костями. Да бурые пятна на потолке кабины.
Водитель полуторки обежал раскуроченный грузовик кругом, простонал на ходу:
– Володька… За что же тебе такое наказание?
Кабина светилась от частых дыр, в наполовину сбритой осколками крыше серело недоброе тусклое небо. То, что осталось от неведомого водителя Володьки, было обычной окровавленной кучей тряпья, сверху накрытой помятой пилоткой-маломеркой.
– Мака-аров! – взвыл водитель полуторки громко, затряс головой, сыпя вокруг себя слёзы.
Старший лейтенант обошёл грузовик следом за водителем полуторки, удручённо почесал пальцем затылок: на спасение у шофёра не было ни одного шанса.
– Что же ты, земеля, – водитель полуторки вновь обрызгал пространство слезами, – как же ты промахнулся?
– А что он мог сделать? – спросил Горшков. – Отпихнуть от себя снаряд ногой?
Водитель полуторки повыл ещё немного и умолк, начал деловито суетиться, выламывать из разбитых бортов куски дерева, потом остановился и тупо, как-то остервенело поглядел на старшего лейтенанта.
– Надо бы Володьку в часть отвезти, товарищ командир, похоронить там.
– Да от него ничего не осталось. Один воздух с тряпками.
– Что делать, что делать…
– Похоронить здесь, на обочине дороги, рядом с машиной, чего же. Лопата есть?
– Есть.
– Доставай. – Горшков оглянулся на полуторку, призывно махнул рукой: – Слезай, Мустафа, предстоят земляные работы.
Мустафа легко перелетел через борт, при приземлении смачно бултыхнул разбитыми сапогами. Заглянул в кабину грузовика.
– Не повезло парню.
Водитель полуторки отошёл в сторону, отмерил лопатой прямоугольник могилы.
– Одно хорошо: земля сухая, песка в ней много, – с хакеньем вогнал лезвие под густой травяной куст, с хрустом подрезал корни, – лежать в земле приятно.
Старший лейтенант подивился: какое значение имеет сейчас эта ерунда? Приятно лежать, неприятно… Тьфу! Главное, что Володьки этого уже нет. Нету! И не будет никогда. Горшков почувствовал, что у него сами по себе раздражённо задёргались уголки рта. Водитель полуторки выдохся быстро, воткнул лопату в землю и ухватился обеими руками за поясницу.
– Охо-хо-о… Ноет, проклятая, – пожаловался он старшему лейтенанту, лицо его стало плаксивым. – Пуля засела в прошлом году, так её и не вытащили.
Старший лейтенант перехватил лопату, примерился, но копать ему не дал Мустафа.
– Не царское это дело, товарищ командир. Дайте-ка!
Работал Мустафа сноровисто, ловко, только земля отлетала в сторону непрерывно, не прошло и получаса, как могила была вырыта.
Водитель полуторки, увидев это, захныкал вновь, хныканье быстро перешло в хриплый, забитый мокротой вой.
– Воло-одька!
– Мустафа, обыщи разбитый грузовик, может, какое-нибудь полотно найдётся? – не обращая внимания на вой водителя, приказал старший лейтенант. – Неудобно хоронить человека без какой-либо домовины.
Мустафа понимающе кивнул.
– В кабине посмотри, под сидением. Наверняка у шофёра была подстилка… Когда он забирался под грузовик чего-нибудь отремонтировать, то, как пить дать, подстилал что-то под себя…
Под сидением действительно нашлась пропахшая бензином, в пятнах мазута, в нескольких местах проткнутая осколками подстилка. В неё и завернули то, что осталось от неведомого Володьки Макарова.
Водитель полуторки вновь не сумел сдержать себя, заплакал, затряс плечами, потом заревел в голос – у Горшкова даже сдавило горло.
– Тихо ты! – рявкнул он на водителя. Тот подёргал плечами ещё немного и умолк. – Лучше дощечку какую-нибудь найди – на могиле надо надпись оставить.
Размякший, будто разварившийся, враз сделавшийся рыхлым водитель полуторки, слепо шаря пальцами по воздуху, пошёл к своей машине.
Несмотря на размякшесть и то, что он вроде бы ничего не соображал, водитель довольно быстро отыскал чистую, аккуратно, без заусенцев, обрезанную фанерку, притащил её к старшему лейтенанту.
– Вот.
Могила к этой поре уже была закопана, Мустафа деликатно обшлёпывал её лопатой, лепя аккуратный земляной холмик. Горшков расстегнул свою полевую сумку. Там, в отделении для ручек-самописок, у него гнездились два толстых карандаша – трофейные, чёрный и красный.
Старший лейтенант выдернул красный карандаш. Нарисовал наверху на фанерке звёздочку – обозначил, что здесь похоронен военный человек.
– Как, говоришь, фамилия твоего земели была? Макаров?
– Так точно, Макаров, – горестно кивнул водитель полуторки. – Володька.
– А отчество его как?
Лицо водителя сделалось недоумённым.
– Отчества не знаю. Ведь мы же никогда не обращались друг к другу отчеству… Только по именам. Эх, Володька!
– Всё, обрёл твой Володька на этой земле вечную хату. – Горшков косо всадил в землю фанерку, постучал сверху камнем, вгоняя её поглубже, и поднялся на ноги. – Прощай, друг! Поехали!
Водитель полуторки забрался в кабину, положил руки на руль и поморщился плаксиво: пальцы у него плясали на эбонитовом круге – так расстроился…
– Я не смогу вести машину, – сипло выдавил он из себя.
Горшков, уже усевшийся рядом, молча выпрыгнул из кабины, обошёл полуторку.
Водитель послушно уступил ему руль, старший лейтенант тронул полуторку с места, пригнулся, заглядывая под козырёк кабины: что там наверху, в небе, нет ли «мессеров»?
Небо по-прежнему было серым, плотным, ни одного светлого прогала: погода была нелётной. Впрочем, впереди, на дороге поднялся столбик пыли, проворно побежал в сторону… Родился ветер. Если он устоит, если облака и тяжёлое небо не раздавят его, то ветер может справиться с этой обморочной затишью и разгонит наволочь. Вот тогда и жди стервятников с крестами, которые начнут поливать дороги свинцом и бросать бомбы.
А пока их можно не бояться.
Разведчики занимали в одном из приусадебных участков просторную клуню, набитую прошлогодним сеном, которое пахло очень и очень вкусно: хозяйская корова с тёлкой были убиты взрывом, их пустили на мясо, а запас сена остался – не выкидывать же его, разведчики понаделали в нём нор, каждый себе индивидуальную, побросали туда вещевые мешки, патроны и прочие нужные манатки – в сене и спать было хорошо, особенно завернувшись в плащ-палатку, и у каждого место своё собственное было.
Горшков поставил полуторку под деревом недалеко от штаба артиллерийского полка, будто любимую корова, чтобы дождик сверху не накапал, хлопнул водителя по плечу и двинулся по широкой ровной улице села, будто по городскому проспекту, к клуне, где его ждали разведчики. Надеялись, что прибудет с пополнением, на деле же вышло, что он прибыл лишь с намёком на пополнение.
Разведчиков у него оставалось немного, с гулькин нос, остальные выбыли: четверо валяются в госпитале, одного даже в Москву отвезли на операцию – немецкая пуля раздробила у него один из позвонков, трое убиты, в клуне же живут – вместе с Горшковым – пять человек. Пять дееспособных солдат, которые и проволоку зубами умеют перекусывать, и суп из топора варить, и поезда под откос пускать подручными средствами без всякого тола и динамита, и лечить без лекарств, и стрелять без патронов – одним словом, настоящие разведчики. Других людей начальник разведки Горшков не признавал и старался брать к себе только тех, которые ему подходили.
Поскольку клуня стояла в отдалении от старого, с потрескавшейся на крыше дранкой хозяйского дома, то имела свою изгородь, излаженную из кольев, а в изгороди – калитку. Едва старший лейтенант взялся рукой за калитку, как дверца клуни беззвучно распахнулась – именно беззвучно, хотя обычно скрипела так, что было охота выплюнуть собственные зубы, – и показался Коновалов, полнеющий солдат, совсем не похожий на разведчика, с ускользающим взглядом и сбитой набок пряжкой ремня… Это называется – почувствовал товарища командира.
Нюх у Арсюхи Коновалова был такой, что любая собака могла ему позавидовать, за редкостное чутьё Горшков прощал Коновалову и сбитый набок ремень, и всегдашнее желание выловить в общем котле кусок мяса побольше, и природную лень… Но главный талант заключался в том, что Арсюха умел перемещаться по пространству без единого звука, даже по битому стеклу мог ходить бесшумно. В разведке такое умение ценилось высоко.
– Ба! – развёл Арсюха руки в стороны. – Командир вернулся.
– Вернулся, – подтвердил старший лейтенант, – и не один. – Он пропустил вперёд Мустафу. – Знакомься, Коновалов, это Мустафа.
Коновалову одного взгляда было достаточно, чтобы понять, кто такой Мустафа, где крестился и крестился ли вообще, в каких местах провёл одну половину жизни, а в каких другую, и так далее. Он наклонил голову и произнёс с едва приметной усмешкой:
– Будь здоров, Мустафа!
– И ты будь, не кашляй в холодные дни, – в тон Арсюхе отозвался Мустафа, также едва приметно усмехнулся.
Было ясно без всяких слов: эти двое, несмотря на натянутость, возникшую при знакомстве, уже прикинули кое-что и как пить дать сработаются, в любом поиске будут действовать, словно единое целое.
– Меня зовут Арсением, – проговорил через несколько мгновений Коновалов, – можно просто Арсюхой – не обижусь.
– А меня – Мустафой Ильгизовичем. Тоже, если назовёшь целиком, – не обижусь.
Арсюха раскатисто, колыхаясь всем телом и роняя на грудь подбородок, рассмеялся. Мустафа – тоже. Они поняли друг друга до конца и оба теперь знали, – уже окончательно, без всяких поправок, – как будут действовать в той или иной ситуации – в наступлении, в отступлении, в голодухе или в жирной объедаловке, знали, кто кому и в какой момент протянет руку, а в какой, напротив, отвернёт голову в сторону.