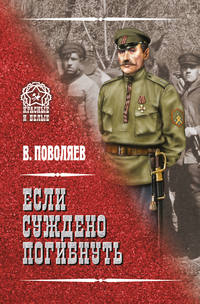Полная версия
Разбитое зеркало (сборник)
– Так точно!
– Сведения сведениями, Горшков, но лучше будет, если возьмёте «языка». Задача ясна?
– Так точно! Но до фронта, товарищ майор, двадцать километров…
– Это не твоя забота, Горшков! Я лично, если понадобится, доставлю тебя на место, сам сяду за руль машины…
– Всё понятно, товарищ майор. Разрешите идти? – Горшков выпрямился так резко, что услышал, как в хребте у него громко хрустнул один из позвонков.
Майор это тоже услышал, усмехнулся недобро:
– Иди! И не забудь – мы должны утереть нос пехоте.
Слова эти донеслись до Горшкова, когда он уже находился за дверью.
Небо опять затянулось плотным, словно бы спрессованным неведомой силой, маревом, день потемнел. Горшков подумал, что может собраться дождь – где-то далеко вроде бы даже громыхнуло, но потом понял, что не гром вовсе, а рявканье гаубицы, подтянутой к линии фронта и открывшей тревожащий огонь. Через полминуты гаубица рявкнула снова.
В общем, если дождь и затеется, то не раньше темноты. Старший лейтенант глянул на часы. Майор велел собираться… А чего, собственно, собираться разведчику? Он всегда собран – остаётся только сдать ордена, документы да письма, присланные из дома, которые всякий солдат хранит так тщательно, как и ордена – письма эти греют душу и помогают выживать.
Можно было, конечно, вернуться в клуню, к девушкам, столь желанным, к разведчикам своим, но возвращаться не хотелось.
Горшков завернул в дом, где на постое находился Юра Артюхов, старый приятель, также прибывший в полк из Сибири, только не из Кемеровской области, а из Сибири более глубокой, из города Минусинска; в полку Артюхов находился на должности, которой не позавидуешь, место это хуже раскалённой сковородки, – был корректировщиком огня.
Все промахи в стрельбе пушек приписывают корректировщикам, все попадания – наводчикам… Несправедливо. Но Артюхов на судьбу не жаловался, смерти не страшился, поскольку считал – судьбу не обманешь, и спокойно лез под пули, под обстрелы, если слышал за спиной взрыв, не оглядывался, понимал: это не по его душу.
В хату Горшков зашёл без стука. Артюхов лежал на продавленном детском диванчике, совершенно облезлом, с одним валиком, который он использовал вместо подушки – другой мебели у хозяев для постояльца не было, – и читал дивизионную многотиражку.
– О, Иван Иванович собственной персоной, – обрадовано воскликнул он, спуская ноги на пол. Старший лейтенант Артюхов звал своего приятеля по имени-отчеству, Горшков Артюхова – уменьшительно, только по имени: «Юра», иногда даже «Юрочкой» и это уменьшение подходило как нельзя кстати к облику минусинца.
– Что слышно в высших эшелонах штабной власти? – спросил Горшков.
– Говорят, грядёт большое наступление.
Горшков удовлетворённо потёр руки.
– Правильно говорят. Хватит отсиживаться по сараям, клуням, амбарам, вдавливать диванчики, пора наступать. А ещё чего, Юр, есть нового из штабных секретов?
– Говорят, от нас забирают Семеновского.
– Конечно, на повышение?
– А ты мыслишь себе ситуацию, чтобы Семеновский пошёл на понижение? Нет. И я нет. Говорят, волосатая лапа у него есть даже в штабе фронта.
– Немудрено. – Горшков пригнулся, глянул в низкое окошко избы – по улице широкой шеренгой шли связистки, сопровождаемые разведчиками, – трапеза с «шампанским» с кулешом без командира не затянулась, да и у бутылки было дно…
– Твои? – Артюхов также глянул в оконце.
– Мои.
– Чай будешь? Трофейный, немецкий.
– Не хочется. Чай – не водка, много не выпьешь.
– Вид у тебя что-то уж больно озабоченный…
– Семеновский только что озаботил. Ночью надо на ту сторону сходить.
– Да для тебя же это, Иван Иванович, всё равно, что два пальца об асфальт…
– Ординарца я себе взял нового, из бывших штрафников, с пополнением прибыл… Думаю только вот – сводить его ночью на ту сторону или подождать?
– Своди. Чем быстрее проверишь в деле – тем лучше будет.
– А не рано ли? Ещё не обтёрся мужик.
– Своди, своди… Зато потом меньше головной боли будет.
– Тоже верно…
К линии фронта, обозначенной в ночной темноте вспышками ракет да частой беспокоящей стрельбой – и чего люди мешают друг дружке спать? – подбросил всё тот же хнычущий шофёр на своей полуторке.
Ехал он медленно, включать фары опасался: а вдруг враг засечёт и в машину кинет снаряд? – не доезжая полутора километров до фронта, остановил машину и ехать дальше отказался.
– Не могу, – категорично заявил он, – мне велено отсюда вернуться.
– Дурак ты, – спокойно и презрительно проговорил старшина, перегнувшись через борт и заглядывая из кузова в кабину. – С разведчиками никто не решается ссориться, даже командир полка.
– Нет, нет, – затрясся шофёр, – ехать дальше я наотрез… Запрещено, слишком много техники мы потеряли. Обращайтесь к командиру автороты, пусть он приказ даст.
– Выходим, – скомандовал Горшков разведчикам, с хряском распахнул дверь кабины, прыгнул наружу. – А ты… – Он повернулся к шофёру, хотел выматериться, но сдержал себя и, перепрыгнув с раскатанной, в следах танковых гусей дороги на обочину, зашагал в сторону ракетного зарева. – За мной!
Старшина поднёс к носу шофёра кулак.
– Если впредь увидишь разведчиков – беги, как заяц от охотника. Иначе рожа на задницу будет смотреть… Всю оставшуюся жизнь.
Линию фронта пересекли без приключений – ни единой былки не потревожили, ни звука не издали, в поиск пошли все, кто по штату числился в разведгруппе: Горшков, старшина, Арсюха Коновалов, Довгялло, Мустафа и сержант Соломин. На Мустафу вначале обеспокоено поглядывал старшина, потом перестал. Мустафа был такой же, как и старшина, умелец: и подшивать сапоги без дратвы мог, и воду чистую, холодную, выжимать из горячего песка, и кулеш бараний мог сварить без баранины, и паять без олова, и реки глубокие, широкие одолевать без всяких плавсредств.
В конце концов старшина прикинул кое-что про себя и одобрительно хлопнул Мустафу по плечу:
– Так держать!
Мустафа промолчал.
В тылу, в двух километрах от немецких окопов пересекли дорогу, по которой часто ходили машины, скатились в неглубокий, поросший кустарником ложок. Горшков достал из сумки карту, карманный фонарик – немецкий «диамант» с тонким лучом, присел на корточки:
– Старшина, накрой!
Охворостов накинул на него плащ-палатку, примял ладонями длинные полы:
– Готово!
Старший лейтенант включил фонарик, осветил карту. Дорога, по которой бегали грузовые немецкие машины, вела к бывшему военному городку. До городка было километров восемь, скорее всего, там располагался штаб какой-нибудь части, может быть, даже крупной – дивизии, например. Это надо было проверить.
С другой стороны, тащить «языка» из городка далеко – «языка» нужно брать у линии фронта, хотя это было сделать сложнее, чем в тылу, около городка. Горшков решил брать «языка» и там, и этам, а как всё сложится дальше – видно будет. Он выключил фонарик, сбросил с себя плащ-палатку.
– Идём дальше в тыл, к военному городку.
Идти ночью по лесу – штука трудная, переломать себе ноги можно в два счёта, как в два счёта можно и сбиться, отклониться в сторону, поэтому двинулись параллельно просёлку, удаляться от него более чем на полкилометра было нельзя… Первым шёл Горшков, замыкающим – старшина.
Мустафа шагал в середине цепочки и думал о том, что несовершенен всё же человек – не дала ему природа дара видеть в ночи, как, допустим, сове или волку, – не дала и всё, слеп «венец» в темноте, спеленут, а если совершит пару неловких шагов в сторону – как пить дать, покалечится. И силенок человеку природа тоже выделила немного, могла бы дать больше – могла бы, но не дала. Вот и начинает он, чуть что, кхекать и задыхаться.
Хотелось Мустафе услышать пение какой-нибудь ночной птахи, щебетанье птиц, не боящихся прохладной черноты, заполнившей пространство, но тихо было, словно покинули птицы этот край, а вместе с ними исчезли и звери. Только звон возникал иногда, словно бы приносясь издалека, возникал и пропадал.
Через два часа старший лейтенант остановил группу, объявил тихо:
– Привал! Можно поспать. Времени даю – полтора часа. Старшина, выставить пост!
– Есть выставить пост, – едва слышным эхом отозвался Охворостов.
– Смена – каждые полчаса.
Старший лейтенант забрался под высокий густой куст, достал из сумки карту, зашарил по ней узким лезвистым лучом карманного фонарика.
– Та-ак, та-ак, – пробормотал он едва слышно и выключил фонарик: шли они правильно. Подстелил под себя полу плащ-палатки, второй полой крылся, поворочался немного и затих.
Идти вслепую дальше было нельзя. До городка, – судя по тому, что им пришлось форсировать вброд речушку, протекавшую в версте отсюда, оставалось идти примерно километр. Этот километр был опасным – и на патруль можно было нарваться, и на засаду налететь, и вообще угодить на каких-нибудь полоротых запоздалых немчиков, возвращающихся в казарму из полевого борделя: эти после подвигов постельных всегда бывают готовы совершать подвиги боевые.
Впрочем, разведчики Горшкова тоже были ребята не промах: и в борделе готовы побывать, и немцам по морде надавать…
Первым на дежурство старшина поставил Мустафу – усадил его на возвышенное место, под сосну, метрах в тридцати от места отдыха и погрозил пальцем:
– Смотри у меня, Мустафа… Бди!
– Бдю, – спокойно отозвался на это Мустафа, – и буду бдеть.
– Не проворонь немцев. Если придут – знаешь, что с ними делать, – Охворостов ещё раз погрозил Мустафе пальцем и исчез.
Мустафа остался один. Чернота ночи была неприятная, вязкая, похоже было, что ничего в ней нельзя разобрать, но Мустафа по себе знал: в любой лютой ночи можно увидеть то, что надо, нужно только вгрызться в неё, освоиться, слиться с чернильной плотью и всё будет в порядке. Главное, Мустафа знал, как это делается…
Ночной холодок постепенно отступал, выдавливаемый влажным предутренним теплом, в макушках деревьев начали возиться, вскрикивать просыпающиеся птицы, над далёким горизонтом вскоре обозначилась жёлтая узкая полоска – предвестник рассвета, но отсюда, из-за деревьев, её почти не было видно. Мустафа поглубже закутался в плащ-палатку, в распах между полами выставил ствол автомата, замер.
Лес постепенно оживал, в звуках, доносившихся до Мустафы, не было ни одного, что принадлежали бы человеку – ни шорохи в листве и в ветках, ни мягкое щёлканье гнилых сучков, ни скрипы в траве, ни бурчанье проснувшейся на старом дубе вороны – ничто из этих звуков на принадлежало «венцу природы». А раз человек ничем не обозначился, то, значит, и опасности не было.
Мысли Мустафы переключились на другое – на девушек-связисток. Конечно, Мустафа им не приглянулся, это понятно, – внешность не та, но самому Мустафе очень понравилась Инна: серьёзная, чуточку угрюмая, умеющая молчать. Последнее качество – очень ценное для женщин.
В зоне, случалось, тоже попадались красивые женщины, но не такие. А имя какое аристократическое у неё – Инна! Мустафа не выдержал, вздохнул.
В предутренней темноте образовывались серые провалы, в них что-то шевелилось, передвигалось с места на место, но Мустафа смотрел на эти перемещения спокойно: к человеку, к немцам, они не имели никакого отношения – подумаешь, лесовик продрал глаза и решил поиграть с ним, или этот самый… как его? – водяной, выбравшийся из недалёкой речки. Или же леший. Вся эта лихая братва не представляла для Мустафы ни интереса, ни опасности.
Красивая женщина досталась Мустафе в зоне, пожалуй, только один раз. Дело было под Вологдой, в образцовом мужском лагере, поделенном пополам: одна половина в нём значилась «политиками» и сидела по 58-й статье, вторая половина – уголовники. Сидели уголовники по самым разным статьям.
Лагерь считался образцовым, поскольку в него очень часто приезжало начальство: Москва-то рядом, одна ночь в мягком, обитом плюшем и бархатом купе и начальничек уже на месте – его торжественно встречают на вокзале, берут под белые руки, ведут к машине… Из машины – к обильному, с грибочками, ягодами и нежной северной рыбой сёмгой столу.
Но не только лагерь, где сидел Мустафа, – сугубо мужской, – был образцовым, рядом находился другой лагерь, также образцовый, населённый звонкоголосым полом – женским.
Лицезреть женский лагерь можно было только издали – охрана между лагерями стояла такая свирепая, что ни птица не могла пролететь, ни мышь проскользнуть по земле, и тогда зэки-мужики нашли выход – прорыли в женский лагерь подземный ход, через лаз протащили верёвку, на верёвку навесили бадью.
Едва в лагерях давали отбой, как начиналось ночное веселье – в бадью садилась прихорошившаяся женщина и её дружно тащили в мужской лагерь. Ну а что происходило там – сами понимаете…
За один визит «командированная» получала несколько полновесных паек хлеба – самое дорогое, что могло быть у зэков.
За ночь, случалось, человек пятнадцать, а то и больше, перемещались из одного лагеря в другой…
Однажды бадья доставила в мужской лагерь молчаливую девушку лет двадцати с угрюмыми серыми глазами и крепким обветренным лицом. Красивая была девушка. Увидев хихикающих, заросших жёсткой щетиной зэков, она испуганно сжалась.
– Мустафа, твоя очередь, – послышался голос старшего, и Мустафа, внутренне ликуя, взял девушку за локоть.
– Пойдём! Не бойся!
Та вздохнула зажато, произнесла про себя что-то невнятное и неожиданно упёрлась – похоже, только сейчас поняла, что ей предстоит перенести.
– Не бойся, – мягко проговорил Мустафа, – я тебе ничего плохого не сделаю… Не бойся!
Плечи у девушки задрожали, в горле раздался скрип, что-то в ней сломалось, и она, накренившись всем телом вперёд, пошла следом за Мустафой.
Он отдал девушке той всё, что у него имелось, весь хлеб, и не только хлеб – полкило сахара и кулёк с сухарями, который держал как НЗ…
Откуда-то из-за деревьев, раздвинув плотную серую массу, потянул ветерок, сдвинул в сторону горку комаров, сбившуюся около человека, Мустафа полной грудью всосал в себя свежий воздух, выдохнул – он словно бы хотел освободиться от прошлого, от воспоминаний, от тяжести, накопившейся в душе, услышал за спиной слабый хруст раздавленной ветки и стремительно, держа автомат перед собой, развернулся.
К нему шёл Арсюха Коновалов – смена, – катился колобком, разгребая руками рассветную муть. Подкатившись к Мустафе, бросил по сторонам несколько быстрых, скользких, но очень цепких взглядов и поинтересовался шелестящим шёпотом:
– Ну как?
– Всё вроде бы тихо.
– Можешь быть свободен. – Арсюха не удержался, зевнул, так широко зевнул, что чуть не вывернул себе нижнюю челюсть, в скулах у него даже что-то заскрипело, он со стуком сомкнул зубы и махнул рукой. – Давай!
Было время самого сладкого сна – слаще не бывает, да и сон рассветный самый крепкий – разбудить может только стрельба.
В военном городке действительно располагался штаб какой-то крупной части, по улицам разъезжали мотоциклисты с пакетами, ходили патрули с оловянными бляхами на груди, из открытых окон доносился стрекот пишущих машинок.
– Перехватить бы одного мотоциклиста и назад, – озабоченно проговорил Арсюха Коновалов. – Неплохо было бы… А?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.