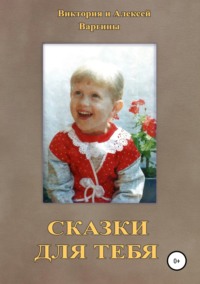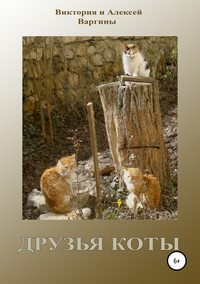полная версия
полная версияСолнечная тропа
– Не очень, – после минутного колебания ответил Лёнька. – Но если бы было можно, то, наверное, пригласили бы…
– Ну а почему нельзя? – Кадило заёрзал по подоконнику. – Значит, воду в Пески возвращать можно, в лес к лешему можно, а на свадьбу – нельзя?
– Я не знаю, – неуверенно проговорил Лёнька. – Но если они не пригласили, что же мы можем сделать?..
– Сами пойдём, – сказал Кадило. – Без всякого их дурацкого приглашения.
– Нет, – Лёнька решительно замотал головой, – я без приглашения не пойду.
Кадило спрыгнул с подоконника и, приблизившись к Лёньке вплотную, заговорил тихо, но отчётливо:
– Ты про ведьму Федосью слышал? Помнишь, как она Пиле грозила? Ты думаешь, она вот так просто отвяжется?
Лёнька почувствовал холодок под ложечкой.
– Что же будет?
Кадило перешёл на шёпот:
– Бабке Федосье сейчас ничего не стоит какую-нибудь пакость устроить. Пока эти гулёны бражку дуют и радуются…
– Что же делать? – испуганно спросил Лёнька. – Надо их предупредить, надо им помочь!..
– Ну а я про что? В Харино нужно идти. У нас-то с тобой головы глупостью не заняты!..
– А если они рассердятся? – спросил Лёнька. – Возьмут и прогонят…
– Ещё чего, прогонят! Мы, во-первых, к ним не пойдём. Мы где-нибудь из уголочка за ними понаблюдаем… И за Федосьей, если что… А во-вторых, ещё спасибо скажут, если мы их от ведьмы убережём.
Эта идея Лёньке понравилась.
– Идём, Кадило, – подхватился он. – Я знаю, как до Харина дойти, я там сегодня уже был!
– Один ты там и был, – фыркнул домовой и снова взобрался на подоконник. – Давай, уходим через окно, а то ещё бабушку твою разбудим…
…Лёнька ужасно торопился, все его мысли были в Харине, рядом с Панамкой, Хлопотушей… даже ворчливым Пилой. Им угрожала опасность! Мальчик шёл так быстро, почти бежал, что вскоре запыхался.
– Неправильно спешишь, – сказал ему Кадило. Сам он дышал ровно и не проявлял никаких признаков усталости.
– Как это неправильно? – удивился Лёнька.
– Да ты же прямо разрываешься! Сам здесь, а ум уже по Харину скачет. А между вами – провал, в него-то время и утекает.
Лёнька замедлил шаг:
– Ну а как правильно?
– Иди и думай о том, как идёшь, смотри, слушай, чувствуй…
Поняв, что Кадило не шутит, Лёнька последовал его совету. И странное дело: пока мальчик оставался мыслями в ночном лесу, он ясно ощущал, как быстро и легко они идут, но едва только его ум сбегал в Харино, как всё вокруг застывало, темнота наваливалась и давила…
– Ты молодец, быстро учишься, – похвалил Лёньку Кадило. – И вообще будь всегда там, где ты есть. Ваш брат, человек, вечно норовит куда-нибудь сбежать – то в прошлое, то в будущее, то на молочную реку с кисельными берегами…
– Слушай, Кадило, – сказал вдруг Лёнька, – а как ты узнал про свадьбу Пилы? Ведь у домовых очень трудно прочитать мысли…
– Трудно, – согласился Кадило. – Но тут кто-то из них дал маху. Наверное, этот дурачок, Панамка.
– Вот и хорошо, – улыбнулся Лёнька. – Теперь мы знаем, где они.
…Деревня Харино в столь поздний час казалась совсем пустой. Лёнька ожидал, что здешние собаки поднимут лай, но все они словно куда-то подевались.
– Кадило, а ты знаешь, куда идти? – спросил мальчик.
– Спокойно, – ответил тот.
Через несколько минут домовой остановился возле дома, показавшегося Лёньке жилым.
– Пришли.
– Тут живут люди?
– Ещё недавно жили, – Кадило, подняв голову, что-то соображал. – Постой здесь, я мигом.
Он исчез, а Лёнька ещё раз оглядел незнакомую избу. Понятно, почему она показалась мальчику обитаемой. Люди совсем недавно покинули этот дом, и в нём ещё витал дух жизни. Было похоже, что хозяева ненадолго уехали и дом ожидает их возвращения…
– Здесь они, на чердаке, – сказал невесть откуда взявшийся Кадило. – Танцуют, голубчики.
– А Федосья?
– Федосьи тут нет, – домовой взял Лёньку за руку и повлёк за собой. – И чтоб тихо!..
Дверь в дом была не заперта и без скрипа отворилась. Кадило с Лёнькой прошмыгнули в коридор и остановились возле лестницы, которая вела на чердак. Лёнька уже занёс ногу над первой ступенькой, но Кадило его остановил.
– Здесь не полезем, заметят, – прошептал он. – Тут рядом кладовая, а в ней запасной лаз на чердак…
Чердак со стороны кладовой был завален старыми вещами, что для Лёньки и Кадила оказалось очень кстати. Они спрятались за горой каких-то пыльных мешков и принялись наблюдать за происходящим.
Очевидно, домовые расчистили место для гулянья, потому что в середине чердака виднелась просторная площадка, в центре которой стоял какой-то короб, играющий роль стола, а на нём – большая деревянная чаша. Вокруг «стола» танцевали домовые.
Лёнька сразу узнал Панамку, потом пригляделся и увидел Хлопотуна. Но тут его внимание переключилось на жениха с невестой, и Лёнька разинул рот от удивления. Молодые сидели за столом и не участвовали в танцах. Пилу было трудно узнать: всем своим видом он излучал глубокое удовлетворение, даже счастье. Но Лёнька лишь вскользь посмотрел на Пилу, он во все глаза глядел на его невесту.
Мальчик впервые видел домованю, но ему хватило и нескольких секунд, чтобы понять, как сильно отличалось это существо от всех знакомых Лёньке домовых. Больше всего Соловушка была похожа на человека. Или, если точнее, на первобытную женщину, как её рисовали в детских книжках, но полностью покрытую шерстью. Шерсть была короткой и дымчатой, как у бабушкиного кота, а на голове домовани красовалась копна тёмных волос.
Движимый каким-то интуитивным чувством, Лёнька повнимательнее присмотрелся к танцующим домовым и безошибочно угадал ещё двух похожих на Соловушку существ.
Танцующих было около двадцати. Сначала их движения показались Лёньке несуразными и лишёнными смысла, но, приглядевшись, он уловил что-то знакомое в медленном вращении домовых, сопровождаемом тихими и тоскливыми завываниями. «Это зима, – неожиданно понял мальчик. – Они показывают, что метёт метель и кружится снег…» Он обернулся к Кадилу.
– Да, это «танец четырёх времен», очень древний, – подтвердил тот, не глядя на мальчика. – Его всегда исполняют на свадьбах домовых. Во время этого танца мы соприкасаемся с живой душой земли…
…Голос у Кадила дрожал от возбуждения и обиды, и Лёнька понял, как хочется доможилу принять участие в древнем священном обычае.
Тем временем «зима» вокруг Пилы и Соловушки кончилась, вьюга утихла, и под снегом зажурчали невидимые ручейки… Деревья проснулись и потянулись к солнцу, весенний ветерок заиграл их ветвями, и вот уже звонко и радостно запели птицы. Всё это Лёнька видел и чувствовал так ясно, словно он находился в весеннем лесу, а не на чердаке брошенного дома.
…Когда шумное, хлопотливое «лето» домовых сменилось тихой и плавной «осенью», в танце появилось что-то новое: домовики и домовани стали по очереди подходить к чаше, окунать в неё лапы и облизывать их. В воздухе пролился запах чего-то пряного и сладкого. Лёнька снова повернулся к Кадилу.
– Это брага домовых, – тихо сказал тот, жадно втягивая ноздрями необычный аромат. – Особый, волшебный напиток…
– Почему волшебный? – одними губами спросил мальчик.
– Домовани собирают для него все травы и листочки с деревьев, которые растут в округе, – объяснял Кадило. – А когда варят брагу, читают специальные заклинания… Если они забудут хоть одну травинку или пропустят одно слово в заклинании, брага не получится.
Лёнька хотел спросить, для чего же предназначен этот волшебный напиток, но тут увидел, что домовые перестали облизывать лапы. Вместо этого они подходили к жениху с невестой и брызгали в них брагой или оглаживали Пилу и Соловушку мокрыми лапами.
– Они попробовали напиток и сочли, что он приготовлен правильно, – комментировал Кадило.
– А сейчас что они делают?
– Единят суженых.
– Как это?
– Когда брага в чашке кончится, Пила и Соловушка станут мужем и женой. Их уже никто и ничто не сможет разлучить до конца жизни…
Единение суженых сопровождалось негромким монотонным пением, в котором нельзя было разобрать слов, подстать песне были движения – тягучие, замедленные, как будто домовые танцевали во сне. Лёнька обратил внимание на их лица, выражение которых у всех было одинаковое – блаженно-отсутствующее, – и вдруг понял, что домовые опьянели от волшебной браги… Даже Кадило, который лишь нюхал её пары, прикрыл глаза и чему-то загадочно улыбался. И в это самое время неподалёку от того места, где они прятались от домовых, Лёнька заметил какое-то шевеление. Сперва над полом показалась чья-то всклокоченная голова, потом плечи, а потом… Лёнька похолодел, когда понял, кто перед ним.
Ведьма Федосья поднялась на чердак по той самой лестнице, которую отверг Кадило, и теперь по-хозяйски осматривалась. Жёлто поблёскивали в темноте её глаза.
Лёнька тронул Кадилу за плечо – тот мутно посмотрел на мальчика и расплылся в бессмысленной улыбке. Лёнька изо всех сил затормошил домового. Кадило прижал палец к губам, сказал Лёньке: «Ш-ш-ш» – и уронил голову себе на грудь.
Мальчик в отчаянии посмотрел на домовых. Они продолжали совершать обряд, загипнотизированные волшебным напитком, и, конечно, не замечали Федосью. А она, оценив обстановку, заковыляла к свадебному столу.
«Если брага сейчас кончится, Пиле и Соловушке уже никто не помешает», – с надеждой подумал Лёнька и даже высунулся из-за мешка, но ведьма заглянула в чашку – и на её губах зазмеилась улыбка. Никем, кроме Лёньки, не видимая, она вытащила из своих лохмотьев какую-то склянку… Лёнька подался вперед. Федосья откупорила склянку. Мальчик поднялся во весь рост. Ведьма занесла руку над свадебной чашей…
– Стой! – закричал Лёнька, вырываясь из своей засады.
Старуха удивлённо повернула голову, рука её дрогнула, и Лёнька, подскочив к Федосье, выхватил у неё колдовское зелье.
– Вот! – крикнул он и со всего размаху грохнул склянку об пол. – Вот, вот, вот!.. – Лёнька давил ногами осколки стекла и отвратительно пахнущую чёрную жидкость…
Откуда-то налетел сильный ветер. Он поднял пыль и мусор на чердаке, и Лёнька закрыл глаза руками. Было слышно, как ветер с шумом расшвыривает старые вещи… Вдруг он утих.
– Лёня, – услышал Лёнька и открыл глаза.
Перед ним стоял Толмач, чуть поодаль – остальные домовые. Ведьму на чердаке мальчик не увидел.
– А где… Федосья? – спросил он, смахивая приставшую к влажной щеке пушинку.
– Ты можешь больше не бояться её, – ответил Толмач и положил свои лапы на плечи Лёньке. – Да и все мы теперь надолго забудем о ведьме, потому что сегодня ты оказался здесь и сделал то, чего мы ожидали.
– Ожидали?!
– Видишь ли, мальчик, во время ритуала с напитком мы становимся беззащитны – перед ведьмой и перед любой злой силой, угрожающей нам. Ты – человек и не можешь охмелеть от нашей браги. Но главное – у тебя смелое и любящее сердце. Мы не сомневались, что ты встанешь на защиту своих друзей.
Лёнька хотел спросить, почему домовые в таком случае не взяли его с собой и не попросили о помощи, но вспомнил встречу с «дядей Гришей» у колодца и всё понял. И тогда он спросил:
– А если бы я не пришёл?
Толмач улыбнулся:
– Мы слишком хорошо знаем Кадилу.
– Так вы подбросили ему «галку»… нарочно?!
Домовые рассмеялись, громче всех веселился Панамка.
– Ну, может, ты всё-таки покажешься? – спросил Толмач, обращаясь к пирамиде из грязных мешков.
Кадило встал и вразвалочку направился к домовым. Он определённо не знал, как держаться. Кадило хотел обвести домовых вокруг пальца, а получилось, что его самого перехитрили, использовали как пешку в чужой игре.
– Ну, спасибо тебе, – сказал Кадилу Толмач.
Что угодно ожидал услышать Кадило, но только не это спасибо.
– За что?! – изумился он.
Толмач сделал вид, что задумался.
– Действительно, за что?.. Ну, будем считать, что за постоянство характера, – и он хлопнул Кадилу по спине.
Это послужило сигналом: домовые, свои и харинские, окружили Лёньку и Кадилу, обнимали их, благодарили, а Панамка тёрся об мальчика, как кошка, разве что не мурлыкал.
– Лёня, а ведь наш обряд не закончен, – сказал Толмач, когда шум немного утих, и подвёл Лёньку к свадебной чаше. В ней ещё оставалось немного волшебной браги. Мальчик неуверенно взглянул на Толмача.
– Ну, смелее, – подбодрил его старый домовой, – ты заслужил это право.
Лёнька уже хотел зачерпнуть из чаши, но вдруг передумал и тихонько вздохнул.
– Кадило, давай лучше ты, – сказал он и отступил от стола.
Кадило с благоговением приблизился к чаше, слегка обмакнул лапу и провел ею по головам Пилы и Соловушки.
– А теперь ты, – сказал он Лёньке, и мальчик завершил единение суженых.
Едва только чаша опустела, как откуда-то сверху, из-под потолка посыпался дождь из тысяч разноцветных цветочных лепестков.
– Вот это да!.. – ахнул Лёнька, он задрал голову и попытался понять, откуда появляются лепестки. Но они как будто рождались в воздухе, а вскоре чудесный дождь кончился.
– Они ниоткуда, – сказал Лёньке Панамка, – это просто волшебство.
– Просто волшебство… – повторил мальчик, разглядывая сердечко вишнёвого лепестка на своей ладони.
– А сейчас будут подарки, – с воодушевлением сообщил Панамка.
– Ой, а мы без подарка пришли, – расстроился Лёнька.
– Да ты не понял. На этой свадьбе подарки получат не жених с невестой, а мы с тобой.
– Мы? Но почему?
– Жениху с невестой и так хорошо, – Панамка кивнул на Пилу и Соловушку, которые сидели обнявшись. – А вот домовят на свадьбе принято одаривать.
Лёнька всё-таки не понимал.
– Да ты же сам спрашивал, почему у нас так мало домовят, – напомнил Панамка. – Взрослые домовые и хотели бы домовёнка завести, да только что его завтра ждёт в пустой деревне? Поэтому хохлик – нынче редкость. Но, с другой стороны, мы – это ведь будущее. Если мы перестанем рождаться – конец нашему роду. Поэтому когда на свадьбах одаривают детей – это значит, надеются на будущее, верят, что тяжёлые времена пройдут…
– Теперь ясно, – сказал Лёнька. – Только при чём здесь я? Я же не домовёнок.
Панамка оглянулся и прошептал Лёньке на ухо:
– Они хотят тебя наградить. Ты же столько всего сделал для нас!.. И потом, ты ведь тоже ребёнок. – Тут он снова воровато оглянулся и зашептал ещё тише: – Ты, главное, на первый подарок не соглашайся. Второй тоже не бери, а вот третий – в самый раз, можно…
– Ну-ка, друзья, идите сюда, – позвал их Пила к коробу, на котором ещё недавно стояла свадебная чаша. – Ну что, Панамка, принимаешь наш подарок?
Соловушка достала из короба новенький самовар и подняла его, чтобы всем было видно.
– Нет, – с важностью ответил Панамка.
Домованя убрала самовар обратно и вместо него вынула куклу с волосами из пакли. Панамка вытянул шею.
– Принимаешь подарок? – опять спросил Пила.
Домовёнок с трудом переборол искушение:
– Нет.
– Ишь ты какой! – и Соловушка вынула из короба огромный домашний пирог – покрытый румяной корочкой и почему-то горячий.
– Принимаю, принимаю!.. – закричал Панамка, даже не дождавшись вопроса. – Ещё как принимаю! У меня такого никогда не было!..
– Ну а теперь ты, Лёнька, – сказал Пила, и в лапах у Соловушки мелькнуло что-то маленькое. Домованя раскрыла ладошку – на ней лежала деревянная свистулька в виде птички.
– Не бери, – прошипел за спиной Панамка, но Лёньке чем-то понравилась немудрёная игрушка.
– Эту свистульку вырезал твой дед, давно, ещё до войны, – проговорил Пила. – Ну так что, принимаешь подарок?
– Принимаю! – радостно воскликнул Лёнька, прижимая птичку к груди. – А как же она у вас оказалась?
Соловушка и Пила переглянулись.
– Про это ты не спрашивай, – посоветовал Панамка. – Я же вот не спрашиваю, почему мой пирог горячий. И вообще короб – это так, для видимости, на самом деле он пустой.
– Пустой? Но как же…
– Сегодня ночь такая, – коротко ответил домовёнок. – А всё равно зря ты меня не послушался. Может, тоже пирог бы получил…
БОЛЬШОЙ ДОЖДЬ
Акимыч в очередной раз вернулся из Раменья с «провизией» и пил чай, приготовленный Антониной Ивановной. Соскучившийся Лёнька примостился рядом.
– Как кум-то твой, Федя? – спросила бабушка Тоня. – Всё на печи прячется?
Акимыч крякнул и вытащил из кармана штанов какую-то газету, сложенную до размеров ладошки.
– Никак нет. Степану теперь прятаться ни к чему, наоборот… Целый день по селу ходит, пресс-конференции устраивает…
– Что-то ты темнишь, – нахмурилась бабушка. – Да что там у тебя, в газете твоей?
Акимыч наконец развернул газету, разложил её на столе и ткнул пальцем в заголовок:
– Читайте!
– Удивительная сила, – прочитал Лёнька. – К 30-летию Великой Победы.
– Ну и что? – спросила Антонина Ивановна, разглядывая статью.
Акимыч снова ткнул пальцем, на этот раз уже в подпись под ней.
– А теперь тут!
– С. Хорохонов, житель с. Раменье, – прочитал Лёнька. – А кто это – С. Хорохонов?
– Батюшки!.. – воскликнула Антонина Ивановна и схватила газету. – Так это что, Степан написал?! Ох, не вижу ничего без очков…
– Он самый, Степан, – подтвердил Акимыч. – Пропечатал человек в «районке» свои фронтовые воспоминания.
– Ой!.. Это когда ж он вспоминал? – спросила бабушка. – Когда на печи сидел?
– Ну чё ты, Тонь, к этой печи привязалась? Прям как Пелагея моя… Ну, сидел, ну, вспоминал про жизнь…
– Да ты не сердись, Федя, – Антонина Ивановна постаралась скрыть улыбку. – Ты давай, читай, интересно ведь.
– Без окуляров, однако, тоже не прочту, – сказал Акимыч и протянул газету Лёньке. – Ну-ка, ты у нас грамотный…
Лёнька поудобнее уселся за столом, откашлялся.
«Война была очень тяжёлым испытанием для нашего народа, – начал он. – Тому, кто её пережил, ясно, о чём идёт речь. Но я хочу обратиться со своим рассказом к молодым. И пишу о войне, чтобы показать, какие недюжинные силы открывала она в человеке.
На войне мы болели редко. Иногда в снегу по нескольку суток лежали, аж вмерзали в грунт – и ничего, никто даже не кашлял. Но однажды в ночном бою напился я из первой попавшейся лужи, и к утру скрутило меня, сильный жар поднялся. Нашёл я фельдшера, он говорит: дизентерия у тебя, ступай скорее в медсанбат. Приплёлся туда, а там и без меня яблоку некуда упасть. И на полу лежат, и в проходах, а санитары всё раненых подтаскивают. Куда, думаю, мне тут со свои животом, пойду в какую-нибудь избу (а было это в деревне), может, отосплюсь. Так я и сделал, влез на печку и забылся.
Очнулся от того, что стало мне как-то тревожно. Хочу поднять голову и не могу, от слабости еле глаза открыл. Приподнялся из последних сил, гляжу – рядом со мной лежит солдат. Похоже, что раненый, без сознания. А меня будто кто подзуживает: встань, выйди из избы… Скатился я с печки, ползком на крыльцо вылез, глянул по сторонам да и вскочил на ноги: в одном конце деревни наши отступают, а в другой уже немцы входят. Сперва я за нашими было кинулся, а после спохватился: ведь солдат в доме на печке лежит! Я в избу, начал его трясти. Трясу, а он только стонет. Сдёрнул я затвор автомата, дал очередь ему над ухом. Не помогло, лежит парень как убитый. И так мне стало жалко его, молодого, беззащитного, что подхватил я его под мышки и поволок из избы. Тащу и понимаю, что не успеть мне уже с парадного крыльца. Я со своей ношей через двор да на огороды, а оттуда – в поле. В поле этом попалась на наше счастье скирда соломы. Там и укрылись до ночи. Сижу я в копне, поглядываю, как немцы в деревне хозяйничают. Вдруг вижу, трое из них прямиком к нашей скирде направляются. Я – автомат наготове, замер, думаю: лишь бы мой бедолага не застонал. Но ничего, пронесло немцев мимо, и до самого вечера было тихо кругом. А когда стемнело, взвалил я раненого на плечи и потащился своих искать. Повезло, что они отошли ещё недалече…
– Ты почему, Хорохонов, не на койке? – спрашивает меня фельдшер.
– А чего я на ней забыл?
– Так ведь дизентерия у тебя!
– Да когда это было, – отвечаю ему.
– Ты мне зубы не заговаривай, – рассердился фельдшер, – а ну, бери градусник!
Поставил я градусник, только что он мог показать, если сам я чувствовал, что здоров. Фельдшер сначала не поверил: шутка ли, утром человек почти умирал, а к вечеру живёхонек. А когда узнал всю правду, даже посмеялся.
– Повезло тебе, – говорит, – что не остался давеча в медсанбате. Ещё неизвестно, до чего бы ты там долежался. А тут – и сам здоров, и человека спас! Только как же ты допёр его, братец, ведь он тебя вдвое тяжелее будет?
Правду сказал доктор, ни за что бы мне не дотащить того солдата, если б смерть не заглянула в глаза…
Так я узнал эту удивительную силу, которая помогала нам выжить под пулями, в мёрзлых окопах, в ледяной воде. Раненого моего в медсанбате выходили, и до самой Победы провоевали мы с ним в одном полку. А после войны потерял я из виду дорогого моего товарища. В первое время не до писем было, а после написал ему, но вернулось моё письмо обратно. Не проживает по прежнему адресу Николай Малыгин. Так вот и не знаю ничего о человеке».
Лёнька кончил читать и поднял голову.
– Хорошо как написал, – растроганно сказала бабушка. – Прямо как писатель.
– Степан говорит, исправили много, – заметил Акимыч.
– Ну, всё равно, хорошо исправили. Так по-простому, по-человечески получилось… Федя, – бабушка вдруг строго взглянула на Акимыча, – а почему б тебе самому про войну не написать? У тебя таких историй целый мешок.
– Их у каждого фронтовика целый мешок, – отмахнулся дед Фёдор. – Про всё писать – бумаги не хватит.
– А я думаю, не прав ты. Пройдёт ещё тридцать лет, и много ли таких фронтовиков останется? Откуда же тогда им, – бабушка кивнула на Лёньку, – узнать, как всё было?
– В книжках, поди, написано.
Бабушка осуждающе посмотрела на Акимыча и шепнула Лёньке:
– Не любит войну вспоминать…
Попив чаю, дед Фёдор засобирался домой. Лёнька вился вокруг него вьюном.
– Гляди, опять в гости к тебе намыливается, – усмехнулась бабушка Тоня.
– Пойдём, пойдём, – сказал Акимыч. – Я и так перед тобой виноват, никак в лес не выберусь…
– Дедушка, а ты знал про эту удивительную силу? – спросил Лёнька по дороге к дедову дому.
– Да такое с каждым человеком хоть раз в жизни случается, – ответил Акимыч. – После кажется, что чудо произошло, а это и не чудо вовсе, сам ты как-то сумел…
– Дедушка, расскажи, – попросил Лёнька, заглядывая Акимычу в глаза.
– Ах ты хитрец, – рассмеялся дед Фёдор, – вишь как ловко удочку забрасывает!.. Ладно, расскажу тебе про одно такое «чудо»…
…Случилось это в начале войны. Мы тогда отступали и вот раз попали под страшную бомбёжку. Как налетели фашисты, как начали нас жухать, а у нас опыта ещё никакого – мечемся, чуть не в небо заглядываем: не летит ли на тебя бомба оттуда. А бомбу, её, Лёнька, слушать надо: как засвистит – ложись и к земле прижимайся. И подальше от техники нужно быть в это время, её-то в первую очередь бомбят.
А мы с товарищем по неопытности, наоборот, на машине из этого пекла хотели убежать. Он шофёр, а я с ним, в кабине. И вот чешем, только оглядываемся. Вдруг я вижу, как бы со стороны, что машина наша поравнялась с кустами, и тут раз – прямо в неё бомба!.. Машина – в клочья!.. А в действительности до тех кустов ещё метров тридцать. Я как заору: «Прыгай!» – и сам вон из кабины!.. Упал на землю, краем глаза увидел: товарищ мой тоже успел сигануть. А машина наша, Лёнька, поравнялась с ивняком – тут её и накрыло.
– Это ты в будущее заглянул, – уверенно сказал мальчик.
– В будущее, да. Второй раз такое со мной уже после войны случилось. Мы тогда плотницкой бригадой ремонтировали ферму в Воронино. Я – за бригадира. Вот работаем, вдруг я оборачиваюсь и вижу: из-за леса «газик» председательский выныривает и прямо к нам пылит. Я мужикам говорю: вона председатель проверять нас катит. Они меня спрашивают: где? Я снова к лесу поворачиваюсь – а машины-то и нету!.. А место чистое, скрыться некуда, разве только развернуться да назад… Но это ж ерунда какая-то, тем более заметил я, председатель ещё рукой в нашу сторону указал, видно, шофёру что-то объяснял. Стою я как истукан, глазами хлопаю, а тут аккурат председательский «газик» появляется из-за лесочка, и председатель рукой на нас показывает… Мужики смеются: как же ты его, родимого, учуял?.. Да уж как-то так и учуял…
– А ещё было такое? – спросил у деда Лёнька.
– Врать не буду, больше не было, – ответил тот.
– А на войне тебе не было страшно? – без всякого перехода спросил мальчик.
– Как не было? Было, – сказал Акимыч. – Там ведь всё время под смертью ходишь да удивляешься, как это ты ещё жив. Просто поменьше надо о смерти думать, иначе беда: и от неё, безносой, не убережёшься, и воевать не сможешь. У нас в отделении солдат один так боялся пули, что из блиндажа выйти не мог. Лучше, говорит, здесь расстреливайте, а не пойду – смерть моя там бродит. В конце концов командир на него плюнул: сиди, дрожи!.. Так солдат ночью по нужде вышел – тут его шальная пуля и нашла…