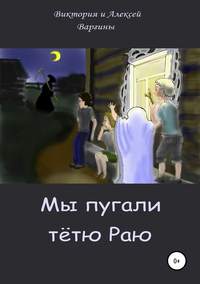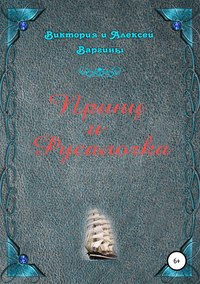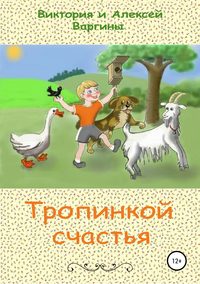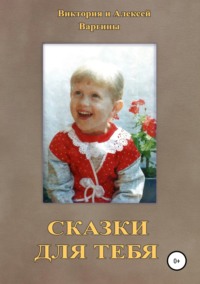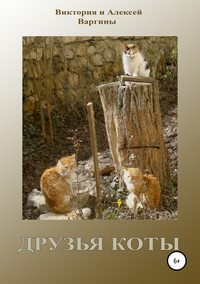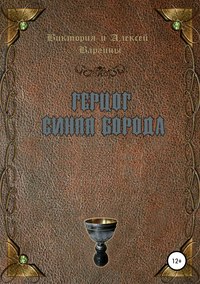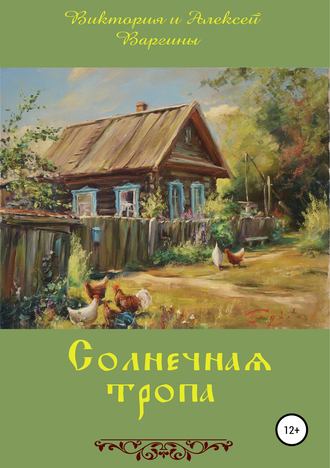 полная версия
полная версияСолнечная тропа
Дед Фёдор повернул голову и засмотрелся куда-то вдаль. Лёнька проследил его взгляд, но ничего интересного в пустом небе не увидел.
– Чувствуешь? – спросил Акимыч.
– Нет, – ответил мальчик и тут уловил в воздухе какое-то напряжение.
– Не иначе гроза будет, – сказал старик.
– И дождь?
– Хорошо бы, – Акимыч поставил свой велосипед под навес. – Ну, пошли, перед бабкой моей отчитаемся…
…У Пелагеи разболелась поясница, она кряхтя рассовала привезённые продукты и пошла прилечь.
– Сами тут хозяйничайте, – сказала она, – вон щи в чугунке…
– Значит, точно гроза будет, – сделал вывод Акимыч.
Уже через полчаса небо закрыла огромная чёрная туча, а воздух был натянут как струна.
– Ну, сейчас вдарит!.. – с каким-то мальчишеским азартом воскликнул дед и схватил Лёньку за руку. – Айда в мастерскую! Там интереснее!..
Во дворе их встретил сильный ветер, а первые капли дождя уже стрекотали по листьям и расписывались бархатными кляксами в пыли. Стало темно, почти как ночью, – и вдруг темноту разорвала ослепительно яркая молния и почти сразу же загрохотал гром. Когда Лёнька с дедом влетели в мастерскую, хлынул настоящий ливень.
Акимыч осторожно открыл окно, выходящее на пруд, и мастерская наполнилась шумом дождя. Ветер не задувал в их сторону, и можно было сколько угодно наблюдать за разыгравшейся стихией. Лёнька нагнулся и посмотрел вниз: поверхность пруда прямо кипела под струями дождя…
– Вот тебе и пруд наберётся!.. – крикнул Лёнька Акимычу.
Тот кивнул, не отрывая глаз от мокрых деревьев, которые ветер трепал так, словно хотел оборвать до последнего листочка. Порою вспыхивала молния, и в этот короткий миг дед и мальчик старались увидеть её всю – она казалась огненной трещиной, прорезающей небо…
Но вот гроза стала утихать, ветер ослабил свой натиск, и гул дождя постепенно превратился в монотонный шелест.
– Кончается? – спросил Лёнька.
– Может, кончается, а может, ещё долго так прошлёпает, – ответил дед. – Так-то оно даже лучше.
– Акимыч, ты не любишь про войну вспоминать? – снова без всяких предисловий спросил мальчик, но старик, похоже, не удивился.
– Кто ж её, проклятую, вспоминать любит?.. А и забыть тоже никак не получается… Тебе, поди, интересно?
– Интересно.
Акимыч пожевал губами.
– А может, и права твоя бабушка… Может, и впрямь нужно вам это, – вслух рассуждал он. – Ну, чего рассказать-то?
– Чего-нибудь необычное, – Лёнька не сомневался, что и рассказы о войне у Акимыча какие-то особенные.
– Гм, необычное… – дед почесал свою бородку. – А есть!.. Есть, Лёнька, и я тому живой свидетель!.. Одна фашистская пулемётная точка не давала нам развернуть атаку. Прямо косила сверху, не подступишься… И артиллерией никак не могли её взять. Одна возможность – подползти и забросать гранатами, и уже несколько смельчаков нашлось, да все там и полегли. Тут прибывает в подразделение связной, узнал про это и говорит командиру:
– А давайте-ка я попробую!
Командир его осаждает:
– Полно тебе, уже пробовали. Шестерых положили зазря…
– Ничего, – отвечает связной, – седьмой-то, может, и пройдёт как раз.
И вообще, заявляет, меня пули не берут. Ну, стал готовиться, гранаты нацепил… Потом говорит: отойдите. Встал на колени, глаза закрыл – должно, молился, хотя крестов не клал. Потом встал и побежал. Бежит пригнувшись, не ползёт даже!.. Немецкий пулемёт аж захлёбывается, а ему хоть бы что! Командир наш в бинокль смотрит и глазам своим не верит:
– Ох, мать моя!.. Пули-то вокруг него веером ложатся, словно он коконом непробиваемым обёрнут!..
Так и погасил пулемётную точку тот связной, и жив остался. Вишь, в самом деле не брали его пули…
– Это тоже удивительная сила? – спросил Лёнька.
– Она самая, – Акимыч придвинул к окну свой любимый табурет и сел на него. Мальчик взобрался на подоконник.
– Она, Лёнька, по-разному проявляется, эта сила, – продолжал дед Фёдор. – Вот хоть возьми наших баб. Провожали нас на фронт. Кругом крики, вой, бабы за своих мужиков цепляются, только что под вагоны не кидаются!.. А моя Пелагея стоит – и хоть бы слезинку уронила. Ты, говорю, хоча для виду слезу выдави, перед людьми неудобно. Неужто совсем меня не любишь? А она мне говорит: не могу, Федя. Понимаю, что, может, в последний раз видимся, а не могу, не взыщи.
Потом на фронте разговорился об этом с одним бойцом, он и спрашивает:
– А много тогда в деревне баб плакало?
– Да почитай все, – отвечаю.
– Ну, тогда считай, что ты в рубашке родился. Вернёшься домой живым, а тех, по ком выли, убьют. Это уж точно, бабы – они это верно чуют. Вспомнишь ещё мои слова.
Любопытно мне стало.
– А твоя-то жёнка как? – спрашиваю.
Он махнул рукой и говорит:
– Моя по мне как по готовому мертвяку причитала, дура!.. Знать, не суждено мне домой вернуться…
Через месяц его и убили. Я тогда, правда, про наш разговор не вспомнил, а под конец войны пришлось. Была у нас тогда в подразделении молоденькая санитарка, так перед каждым боем забьётся, бывало, в самый дальний угол и глаз не кажет. А знаешь, почему? Легко определяла, кто погибнет в бою: если увидит бойца – и в слёзы, всё, считай, его нет. Мы тоже старались ей на глаза не попадаться, кому охота знать, что последние минуты дышишь… Так что правду тот бедолага говорил про бабье чутьё.
– Значит, моя бабушка тоже по дедушке плакала, – сказал Лёнька.
Акимыч потупился, словно видел свою вину в том, что, не оплаканный женой, едва ли не единственным из земляков вернулся с войны.
– Расскажи ещё, – негромко попросил мальчик.
– Я тебе расскажу про родительское благословение, – начал Акимыч. – Некоторым солдатам матери или жёны вешали на шею крестики, ну, или образки – благословляли. Считалось, от смерти защищает… Вот у одного нашего парнишки заметили такой образок и давай над ним подтрунивать. Ему бы промолчать, а он оправдываться стал: мол, мать, старуха тёмная, повесила, а мне эта иконка ни к чему, я в бога не верю. А раз не веришь, говорят солдаты, так сними её и брось под ноги. А потом поднимешь и в карман положишь – на память о матери. Парень сначала ни в какую, но те ж зудят и зудят.
– Командир, – говорят взводному, – вот тут у нас Чижова икона от смерти спасает, так пускай он и тянет связь под артобстрелом!..
В общем, допекли Чижова, он сдуру и психани.
– Да плевать мне на неё! – и сорвал образок.
И ведь тихо было, как будто и война кончилась, откуда только пуля прилетела. И прямо Чижову в голову. Так он с образком в руке замертво и свалился.
– А у тебя образка не было? – предположил Лёнька.
– То-то и оно, что был. И слава Богу, что никто его не увидел, а то бы и я мог, как Чижов… Тоже ума палата была… Зато после этого случая я, Лёнька, можно сказать, и уверовал. Молиться потихоньку начал. Молитв, конечно, не знал, а так, своими словами: не дай, мол, пропасть, сохрани от смерти, хочется ещё на земле пожить…
– Вот он тебя и сохранил, – улыбнулся Лёнька.
– А что ты думаешь?! Посылают меня однажды ещё с одним солдатом связь проверить: оборвалась где-то. Мы снарядились и бегом, да только чуток отбежали – кричат мне: Кормишин, тебя к комбату вызывают. Так и побежал вместо меня другой солдат, а я к батальонному начальству направился. Иду обратно и думаю: вызывали-то за безделицей, ровно комбату в голову блажь пришла. Гоняют человека за просто так!..
Пришёл в отделение, а наши с задания ещё не вернулись, и, главное, связь не восстановлена. Я ещё одного бойца взял – и вслед первой группе. И что ты думаешь? Находим мы в лесу винтовочки наших ребят, аккурат в том месте, где провод обрезан. Значит, немцы «языка» брали. Вот те раз, думаю, я на комбата обиды строил, а это ж меня Господь спасал…
Или раз зимой с товарищем попросились в одну землянку погреться, а нас не пустили. Неслыханное это дело на войне, чтоб солдат к своему же брату так отнёсся… Ну, не пустили, что делать, мы в сторонку отошли, от ветра спрятались, закурили даже… А тут шальной снаряд летит – и прямым попаданием в эту землянку. Одна воронка от неё осталась. Скажешь, случайность?
– Нет, – ответил Лёнька.
– Вот и я говорю, нет, слишком много случайностей-то будет… Я ведь, Лёнька, и после Победы два раза чуть не погиб. Наши-то до Берлина дошли, Победу справили, а в тылу много ещё недобитых немцев осталось. Один из таких полков и окружи ночью наш батальон. И как стали долбить с трёх сторон!.. Что делать? Началась паника, каждый спасается, как может… Я смотрю, командир роты бежит. Он человек образованный, знает, что делает. Я за ним. Бегу, стараюсь не отставать. Замечаю, он к лесу повернул, и тут у меня как будто ноги спутали – не бегут в ту сторону и баста. Остановился, оглянулся, вижу: полуторка наша летит по дороге. Скорость бешеная – тоже из окружения вырывается. Но впереди крутой поворот, в этом месте шофёру хошь не хошь, а сбавить газ придётся. Я и рванул к этому повороту. Так бежал, Лёнька, наверное, птица бы не догнала!.. Из последних сил прыгнул и ухватился руками за задний борт. А больше уже не мог ничего – ни подтянуться, ни ногам опоры поискать, – кончился. Так и болтался, держась одними пальцами, и даже сознание пару раз потерял… Мне потом, когда с машины снимали, пальцы штыком ребята разгибали. Задеревенели пальцы, поэтому и не сорвался с борта. А батальон наш почти весь немцы вырезали, и ротный в ту ночь погиб…
– Везучий ты, – сказал Лёнька, удивляясь, какая длинная череда необъяснимых событий привела к тому, что Акимыч остался жив и сейчас беседовал с ним.
– А знаешь, мне один человек уже после войны рассказывал, как они брали немецкий город Кенигсберг, – снова заговорил дед Фёдор. – Нынче он Калининград называется, не бывал? Ну так вот, никак не могли наши взять этот Кенигсберг, большие потери несли. И вдруг приезжают на фронт священники. Среди солдат смешки пошли: сейчас нам попы город от немцев очистят, вот только перекрестятся!..
Но командование построило весь личный состав, приказало: шапки долой! И попросило серьёзно отнестись к происходящему и быть готовыми к атаке. А священники помолились, взяли икону Казанской Божьей Матери и пошли к городу. Они идут, а с немецкой стороны ни единого выстрела! Тут даётся команда к бою, наши начинают наступление – и берут Кенигсберг!..
А потом пленные немцы рассказывали, что увидели в небе огромный огненный образ Божьей Матери, по-ихнему Мадонны. Многие на колени попадали, а у тех, кто хотел стрелять, разом заклинило всё оружие. Этот человек говорил, что Казанскую икону всю войну возили на самые горячие участки, и везде она помогала…
– А, вот вы где! Дождь-то кончился, выходите!.. – на пороге мастерской стояла Пелагея Кузьминична, обутая в заляпанные грязью резиновые боты.
– Ну как, отпустило маленько? – спросил у жены Акимыч.
– Чуток полегчало… Я уж самовар приготовила, пора почайпить.
– Что? – переспросил Лёнька и тут же засмеялся, поняв значение странного слова.
– Каков дождик, а? – говорил Акимыч, закрывая окошко. – Не было, не было, а потом ка-ак!..
– Большой дождь, – согласилась Пелагея. – Несколько грядок аж разворотило.
– Ничего, Пелагеюшка, всё поднимется, всё оживёт.
На улице запахи дождя были так сильны, что у Лёньки защекотало в лёгких. Пруд наполнился водой почти доверху, и, хотя дождь кончился, вода с бережков всё ещё стекала в него. «Вот лягушки-то обрадуются, – подумал Лёнька. – Будет сегодня у Акимыча праздничный концерт». Он постоял немного, вглядываясь в мутную воду, и поспешил в дом деда Фёдора «почайпить».
ВЫЖИТЕНЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
– Федь, – сказала Пелагея Кузьминична, порозовевшая и подобревшая от горячего чая, – может, нам нашего домового обратно позвать, а?
Акимыч поперхнулся и пролил чай на стол.
– Чего?!
– Ну дак если от него польза… Пускай возвращается.
– Конечно, пускай! – с восторгом крикнул Лёнька. – Давно пора!
– Шутишь ты или правду говоришь? – спросил Акимыч у жены очень тихо и строго.
– Какие шутки!.. Я разве не знаю, кто тебя от болезни за одну ночь выходил? – Пелагея хлюпнула носом. – Мне Тоня всё рассказала…
– А если тебе кто-нибудь опять скажет, что они вредные?.. Какая-нибудь Чувякина или Долетова? Что, снова выгонять станешь?
– Да что у меня, своей головы нету? – обиделась Пелагея. – И Долетова мне не указ…
– Ну, гляди, – сказал Акимыч. – Это тебе не кутёнок: захотел – в избу взял, захотел – во двор выкинул. Это всё одно что человек. И отношение к нему должно быть человеческое.
– А я и говорю, сходи в тот сарай да позови… Или не придёт? – вдруг испугалась Пелагея.
– А вот не знаю, – безжалостно отвечал Акимыч. – Может, привык он к этому сараю, может, ему одному лучше.
– Дак ты попроси!.. Попроси хорошенько, он и…
Лёнька понимал, что Акимыч просто испытывает Пелагею, но нетерпение его было слишком велико.
– Ничего ему там не лучше, сам говорил! – сказал он деду. – Попросим – и вернётся. Давай, идём.
– Рано ещё, пущай стемнеет, – согласился наконец Акимыч. – А ты бы, хозяюшка, пирогов, что ли, напекла по такому случаю…
– И пирожков, и блинцов напеку, а вы уж его там уговорите!..
Лёнька не мог надивиться на Пелагею Кузьминичну, да и Акимыч, похоже, сейчас любовался женой. Она же вдруг отчего-то смутилась и спросила с робостью:
– Федь, а я его увижу?
– Захочешь, так и увидишь.
– А не испугаюсь?
Лёнька вскочил из-за стола:
– Да что вы! Они хорошенькие! Лохматые!..
– Лохматые?.. – Пелагея Кузьминична поёжилась. – Лёня, может, ты бабушку свою позовешь, вместе-то веселее…
– Позову. И Хлопотуна нашего позову. И вообще… давайте всех деревенских домовых пригласим! И Пилу с Соловушкой из Харина. Будет ещё веселее!..
Пелагея смотрела на него с суеверным ужасом.
– Ты, Лёнька, того… не торопись, – сказал Акимыч. – Столько народу нам сразу не потянуть… А бабушку твою, это само собой, зови.
– И Хлопотуна, – мальчик решил не сдаваться. – Это же наш домовой! Значит, вашего пригласим, а нашего нет?!
– Гм, а Лёнька-то прав, – Акимыч поскрёб бороду. – Ну как, Пелагеюшка, осилим ещё одного гостя?
Пелагея Кузьминична героически согласилась.
…Через несколько часов Лёнька с дедом Фёдором уже месили грязь, направляясь к краю деревни, где, продуваемый всеми ветрами, стоял покосившийся сарай Выжитня. По странной прихоти судьбы, этот сарай когда-то принадлежал Лидке Чувякиной, той самой, чей злой гений помог Пелагее выгнать домового из избы. Впрочем, Выжитень мог поселиться в её сарае намеренно – подчёркивая тем самым, что именно Лидку считает истинной виновницей своего несчастья.
Доброжил оказался «дома» и открыл гостям обшарпанную дверь, не успели те даже постучать.
– Знаешь уже, зачем пришли? – спросил Акимыч.
Выжитень молча наклонил голову.
– Пойдёшь?
Домовой не отвечал.
– Да ты что, Выжитень! – не вытерпел Лёнька. – Обратно в свой дом не хочешь?!
– Знаю, о чём ты думаешь, – сказал Акимыч, – только она уже не такая. И теперь её с панталыку шиш собьёшь, спроси вон у Лёньки.
– Правда, Выжитень!.. – горячо подхватил мальчик. – Возвращайся!.. Пелагея сама тебя просит! Ну, в конце концов, сарай твой никуда не денется!..
Домовой поднял глаза, и Лёнька понял: во второй раз вернуться в сарай Выжитень не сможет. Он просто растает, как когда-то растаяли Панамкины родители. Понял это и Акимыч.
– Не бойся, – мягко сказал он. – Никто тебя больше не обидит, слово даю.
И тут Лёнька в первый раз увидел, как улыбается Выжитень: словно солнышко появились в угрюмом и холодном затученном небе.
– А бабка моя пирогов наготовила, ватрушек!.. – подмигнул домовому Акимыч. – Во как наедимся. Ты давай, Хлопотуна с собой бери и приходи.
– Обязательно приходите! – сказал Лёнька.
– Только вы вот чего, – замялся Акимыч, – вы сразу-то не показывайтесь, мало ли что… Как-нибудь постепенно нужно, полегоньку…
– А может, вообще не нужно показываться? – спросил Выжитень. – Я тихо уходил, тихо и вернусь.
– Как это не нужно? Нужно! – упрямо сказал Лёнька, которому хотелось праздника. – Моя бабушка тоже хочет вас увидеть.
– Давай так, мы сядем за стол, приготовим вам по прибору и позовём, – предложил Акимыч. – Тогда и вы… Только аккуратно.
– Понятно, – ответил Выжитень, – постараемся не испугать.
– Акимыч, они придут? – поминутно спрашивал Лёнька, идя обратной дорогой.
– Придут, – всякий раз отвечал тот, усмехаясь в темноту.
…Пелагея Кузьминична и бабушка Лёньки сидели как на иголках. Они уже накрыли стол и теперь ожидали необыкновенных гостей – одновременно с нетерпением, любопытством и страхом. Пелагея беспрестанно вздыхала, принималась то креститься, то всхлипывать, и бабушке Тоне приходилось её успокаивать.
– Ну чего ты мокроту разводишь? Съедят они тебя, что ли? Весь век с ними живём – и ничего!..
– Ага, тебе хорошо, – прогудела Пелагея, – а я чертей с детства боюсь…
– Ну какие они тебе черти? – прикрикнула на неё Антонина Ивановна. – Духи они домашние, добрые…
В это время стукнула входная дверь. Пелагея громко охнула и вцепилась в руку Лёнькиной бабушке.
– Никак дрожите? – спросил Акимыч, увидев лица обеих женщин. – Ложная тревога.
– Не захотел вернуться? – спросила Антонина Ивановна.
– Захотел. А ну давайте, готовьте два прибора. Да не бойтесь вы!..
Пелагея, бормоча что-то невнятное, достала тарелки и ложки.
– По местам, – скомандовал Акимыч.
Все расселись за столом. Лёнька выбрал место между своей бабушкой и пустым табуретом, предназначенным для Хлопотуна.
– Дорогие гостюшки! – громко сказал дед Фёдор. – Просим вас на нашу хлеб-соль! Мы пекли, волновались, угодить вам старались. А вы попейте, поедите, после нас похвалите!..
– Благодарствуйте, – раздалось совсем рядом.
– Ой!.. – вскрикнула Пелагея, и вся краска разом сошла с её толстых щёк.
– Не пугайся, хозяюшка, – сказал голос. – Если хочешь, мы уйдём.
– Не уходите, она привыкнет, – Акимыч обнял жену за плечи. – Привыкнешь, Пелагеюшка?
Та боязливо закивала.
– Ты кто же будешь? – спросила бабушка Тоня, повернув голову на голос. – Уж не наш ли Хлопотун?
– Я Выжитень.
– А я Хлопотун, – прозвучал другой голос. – Здравствуй, хозяюшка.
– Здравствуй. За сладкие сны – спасибо тебе, за помощь – того пуще, а за заботу о внучке моём – низкий поклон, – Антонина Ивановна встала и поклонилась невидимому Хлопотуну.
Лёньку распирала гордость: его бабушка не только не испугалась, она не посчитала зазорным для себя поблагодарить домового, признать его заслуги.
Видя, что ничего страшного не происходит, Пелагея тоже осмелела:
– А наш-то где, отзовись!..
– Я здесь, хозяюшка.
– Ты на меня не серчай, прости. Не со зла я тебя прогнала, а сдуру.
– Давно простил, хозяюшка.
Пелагея расцвела:
– Так, может, ты имя сменишь? Какой ты теперь Выжитень?
– С радостью сменю, – ответил доможил.
– Я тебя Мохнатиком стану звать, – решила Пелагея. – Или лучше Пушистиком?
– Да что у тебя все имена какие-то кошачьи!.. – одёрнул ее Акимыч.
– Какие же это кошачьи? – защищалась Пелагея. – Кошачьи – это Васька, Мурзик… Да ты сам скажи, касатик, как нам тебя звать?
– Меня до сарая Подкидным звали, – признался домовой. – За то, что в подкидного дурака любил играть. Так если вы не против, я снова это имя себе возьму.
– Мы не против, – великодушно ответил Лёнька, а Пелагея оживилась:
– В подкидного-то и я люблю!.. Вот и будет нам зимой забава.
Все как-то разом замолчали, молчание становилось неловким. Акимыч, Лёнька и его бабушка с ожиданием смотрели на Пелагею.
– Ну, покажитесь уже, что ли, – протянула та, и оба домовых «пролились» в горницу.
– Батюшки!.. – Пелагея схватилась за столешницу.
Антонина Ивановна тоже казалась потрясённой.
Хлопотун и бывший Выжитень сидели не двигаясь, потупив свои кошачьи глаза.
– Ой, я же говорила, чисто мохнатики!.. – воскликнула Пелагея Кузьминична, и Лёнька с дедом рассмеялись, а домовые «оттаяли».
– Что же мы не едим-то? Давайте, угощайтесь, – спохватилась Пелагея и повернулась к Выжитню. – Тебе чего положить, милок?
– Как это получилось, что вы столько добра людям делаете, а они вас боятся? – спрашивала бабушка Тоня у Хлопотуна за чаем.
– В этом есть и ваша, и наша вина, – отвечал тот. – Но не это важно, хозяюшка. Нам бы вместе деревню спасти…
А Пелагея Кузьминична в это время жаловалась своему доможилу:
– Деду моему ты помог, а я-то совсем хворая. Давление у меня так и скачет, и поясница жить не даёт, вражина!.. Может, и мне какую травку приготовишь?
– Я тебе поясницу на ночь поглажу – и всё пройдёт, – успокаивал её Выжитень. – А волосы расчешу – давление успокоится.
До поздней ночи не гасли окна в доме Кормишиных. Тихая-тихая лежала под небом земля – с лесами и туманными полями, со Светлым озером и речкой Голубинкой, с безымянным созвездием из разбросанных по округе деревень… Но вот созвездие стало меркнуть и погасло, и только в заброшенной деревне Пески светился окнами дом с деревянным петушком на крыше. В доме текла долгая, неторопливая беседа.
НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛА
Ленька ждал её уже давно – с того часа, как благодаря старому диафильму он узнал про историю, случившуюся в ночь накануне Ивана Купала. Акимыч объяснил, когда будет эта ночь, и Лёнька зачастил к бабушкиному отрывному календарю, по нескольку раз на дню пересчитывая листочки, оставшиеся до седьмого июля.
Акимыч загодя приготовил всё необходимое для похода в лес, и сейчас они с Лёнькой, переговариваясь, шагали по мягкой тропинке между сосен.
– Мой дед Матвей когда-то тоже клады искал, – говорил Акимыч, – и тоже ночью за цветком папоротника бегал…
– Дед Матвей? Это который к водяному ходил?
– Он самый. Но то в молодости было – к водяному, а клады он позже искал. Бывает, Лёнька, в жизни у мужика такое время, когда он становится сам на себя не похож… Один гулять начинает, как двадцатилетний, другой, чего доброго, пить примется, третий песни вздумает сочинять… А дед мой помешался на кладах.
Попала ему в руки книжка про кладоискателей, и понял из неё Матвей одно: клады есть повсюду, надо только уметь их достать. Стал он приглядываться к старым домам в Песках. Высмотрел один такой дом, купил бутыль водки да к хозяину и подкатил. Вот, говорит, у тебя дом, а у меня ум. Найду здесь клад – деньги пополам. Хозяин Матвея-то вытурил, а сам давай клад искать. Всё перерыл, перекопал – нету клада.
А Матвей в это время уже к какому-то воронинскому мужику пристал, и так и этак его уговаривал, – не уговорил. Зато слава про деда пошла: мол, заделался Матвей Кормишин кладоискателем. Одни смеялись над ним, другие советы давали, а кто-то возьми и расскажи про цветок папоротника: дескать, открывает он человеку глаза, и человек видит под землёй все клады…
Вот только заполучить этот цветок нелегко: всего один раз в год расцветает папоротник, как есть в самую бесовскую ночь – на Ивана Купала. Отыскал мой дед заранее, где папоротник в лесу растёт, заприметил к нему дорогу и даже шагами её отмерил, а ночью не то чтобы цветка – самого папоротника на том месте не нашёл. Зря только ноги изломал.
Стал Матвей поджидать следующее лето, а пока сошёлся с одним колдуном из Глинищ – Емельяном Кривым. Тот Емельян много чего знал, он и подсказал деду, как быть. Ты, говорит, правильно сделал, что ещё днём папоротник отыскал, а вот дальше надо было не дорогу примечать, а сорвать с него веточку и с приговором себе в обувку положить. Веточка-то ночью и приведёт к «родному дому».
– Приговор этот я знаю, – говорит Емельян, – а только не советую тебе судьбу испытывать. Шибко страшно будет.
– Что-то я прошлогод ничего страшного не заметил…
– Не заметил потому, что не туда шёл, никому не мешал. А нынче понесут тебя ноги куда следует.
– А я не побоюсь!.. – бахвалится Матвей.
– Ой ли!.. Забыл ты, как к Чёртову озеру ходил?
Матвей желваками заиграл:
– Молод я тогда был и глуп.
– Глуп ты и сейчас, умные-то клады не ищут, – говорит колдун. – Ты запомни, ежели Бог захочет, он и в окошко подаст. Но ты меня всё одно не послушаешь, а потому так и быть, подскажу кое-что. Как пойдёшь в лес, возьми хлеба каравай да флягу водки. Почуешь неладное – садись, выпивай, закусывай… и тому, кто следом идёт, тоже оставляй. Уходи быстро, не оглядываясь. Да сам-то много не пей, а то забудешь, за чем и шёл…
Матвей всё так и сделал: веточку от папоротника с наговором в лапоть положил, взял водки и хлеба, все, какие были, кружки и стаканы прихватил и пошёл.
Пробирается он по лесу, и мерещится ему, что кто-то идёт следом: то веткой хрустнет, то вздохнёт. Матвей остановится, затаит дыхание – и тот, за ним, притихнет… Дед прибавит шагу – и сзади припустят. Перетрусил Матвей, вспомнил Емельянов совет. Налил себе полстакана водки и выпил, а закусить не закусил – в глотку не лезло. Потом налил ещё, поставил стакан с водкой на землю, ломтем хлеба прикрыл, а сам бегом вперёд.