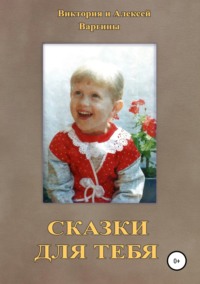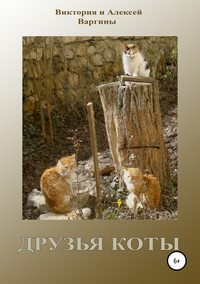полная версия
полная версияСолнечная тропа
– Хороший, его друзья хвалят всё время.
– Хвалят, говоришь? – пряча улыбку, сказала бабушка. – Ну, хорошо, Лёня, это хорошо, что он нашёл свою дорожку в жизни. А то ведь не трудно и заблудиться. Тоже сколько угодно бывает… В городе ещё проще, чем в деревне.
Эта житейская мысль окончательно вернула бабушку к действительности:
– А ведь поздно уже, заболтались мы с тобой, говорун.
– Бабушка, подожди, – попросил Лёнька, – а почему такие сны бывают?
– А вещие-то? Да кто ж их знает? Спокон веков они людям снятся, а почему?.. Может, ученые и знают, ну а мы тёмный народ, верим – и вся недолга.
– И Акимыч не знает?
– А Акимыч из другого народа, что ли?
– Нет… Просто он много всяких секретов знает.
– Знает, – уважительно сказала бабушка. – Хотя тоже грамоте мало учён. Твой Акимыч сам до всего дошёл, светлая голова у него и руки золотые. Ты же в гостях у них был, видал, какие он чудеса с деревом вытворяет. Я, старая, и то приду, бывает, и гляжу, рот разинув. Фёдор во всём такой, не может ничего плохо делать, у него всё на совесть, всё на век. А ему и того мало, уж он должен так смастерить, чтобы другой такой вещи и не было на свете.
– А за что его бабка Пелагея не любит?
– Не любит? – искренне удивилась бабушка Тоня. – Да она без Фёдора и дня не проживёт, что ты! Ругает его, ворчит, да, но это характер такой, любовь тут ни при чём.
И видя, что Лёнька не может уразуметь её слов, добавила:
– Ты думаешь, любовь – это когда голубками друг с дружкой воркуют? И я так считала, когда в девках бегала. А как полюбила твоего деда, замуж за него пошла, так и узнала, что в любви, как в жизни, всё бывает – и обиды, и слёзы… А Пелагея не плохая, Лёнюшка. Вон Фёдор-то когда на фронт ушёл, Пелагея с его стариками осталась. А они больные, беспомощные, свекровь с печки сама не слезет. Пелагея за день наломается на работе так, что еле домой приползёт, а дома свёкор со свекровью, словно дети малые, их обихаживать надо. Вот она и варит, и стирает, и штопает до глубокой ночи. Свалится спать как убитая, а тут и утро, на работу пора. Легко ли ей было так всю войну? А ведь ходила за стариками как за отцом с матерью, последний кусок им отдавала, ни разу не попрекнула. Вот и думай, какой она человек… Пелагее, Лёня, с детства тяжёлая судьба досталась. Осиротела рано, у чужих почти людей росла. За Федю только вышла, тут война началась. А после вернулся Фёдор живой, новый дом поставил. На дюжину детей, Пелагея смеялась… А вышло так, что ни одного родить не смогла, надорвалась на работе. И как облепили её разные болячки, всё оттуда же, с войны. На всю жизнь наследство. Видишь, как Пелагеина-то жизнь сложилась, а ты думаешь, что она такая-сякая, злая.
– Я не думаю, – смущённо ответил Лёнька, всё же чувствуя вину перед бабкой Пелагеей.
– И Акимыч твой её любит, – уверенно сказала бабушка, – любит и прощает всё.
– Любит?.. – в замешательстве переспросил Лёнька. – А разве…
Он умолк на полуслове, чувствуя, что продолжать не нужно. Бабушка Тоня поднялась с лавки.
– Что-то беседа у нас вышла больно серьёзная, а всё ты меня разговорил. Давай-ка мыться и спать, вон поздно-то как.
«Поздно, – подумал Лёнька, поглядев в окно, к которому вплотную подступила летняя ночь. – Значит, скоро придёт Хлопотун».
ВЕДЬМА ИЗ ХАРИНА
В эту ночь, придя в дом Егора, Хлопотун с Лёнькой не застали Панамки. Все прочие домовые сидели, как и вчера: Толмач – опершись о стол, Кадило у раскрытого окна, а Выжитень и Пила на лавках вдоль стен.
– Что, никак понравилось тебе у нас? – встретил Лёньку вопросом хозяин.
– Я пришёл про Егора дослушать. Можно?
– Можно, можно, – ответил за Толмача Хлопотун. – Он для тебя и рассказывал, мы-то Егора все помним, кроме Панамки.
– А где Панамка? – ещё раз огляделся мальчик.
– А кто его знает! Он где хочет, там и болтается, поди догадайся, – проскрипел Пила, недовольно зыркая из своего угла. Сегодня он показался Лёньке особенно мрачным.
Кадило хохотнул:
– Больно трудно догадаться! Наверняка у писателя отирается, где же ещё?
– Ты знаешь про писателя? – спросил Лёнька.
– Про него уже вся округа знает. Сперва своим тарантасом навонял, а потом до ночи консервными банками гремел.
– А мы с Акимычем к нему в гости ходили… – начал было Лёнька, но Кадило вдруг приник к окну.
– Ага, вот и наш бродяга идёт.
Действительно, через несколько секунд скрипнула входная дверь, затем отворился притвор в избу, и Панамка появился на пороге в своём знаменитом головном уборе.
– Долгой ночи, добрых дел! – с ходу выпалил домовёнок.
– Спасибочки, – поблагодарил его Кадило, – и вам того же. Вы у нас нынче без обновки или разжились чем-нибудь у писателя?
Панамка испуганно застыл на пороге.
– Ты что, подсматривал за мной? – спросил он прерывающимся голосом.
– Ага, замочные скважины я ещё не нюхал, – сухо ответил Кадило, оглядывая Панамку сверху вниз. – Ну, говори, чего стянул.
– Ничего не стянул, – жалобно пискнул домовёнок.
– Так мы тебе и поверили! – напустился на него Пила. – Говорили тебе, что воровать нельзя!
– Я не воровал… – всхлипнул Панамка и закрылся лапой. – Да они мне и велики-и-и…
– Кто, кто велики? – наседал Пила.
– Штаны!.. – и домовёнок горестно заскулил.
– Эх ты, – сказал Хлопотун, отворачиваясь от него, – а мы-то тебе в прошлый раз поверили!
Панамка вздрогнул.
– Я не хотел их брать! – в отчаянье выкрикнул он. – Я только хотел посмотреть, зачем так много карманов! Я хотел только примерить!..
– А ты чего вообще у писателя делал? – спросил Кадило.
– Ничего не делал, – ответил Панамка с самым чистосердечным видом.
– Как так ничего?
– Совсем ничего. Я смотрел, что он делает.
– А что он делал?
– Сначала обедал долго.
– А что ел-то? – облизнулся Пила.
– А я не понял. Он всё из банок, из коробочек ел, а пил из бутылок. Всё такое красивое, с картинками.
– А после обеда?
– После обеда он разделся и спать лёг.
– Тут ты и спёр штаны, – ухмыльнулся Пила.
– Нет, я стал ждать, когда он проснётся. Мне было интересно, что он будет делать.
– Ну, и чего ты дождался?
– Вечером он проснулся, – покорно отвечал Панамка, – и стал ужинать.
– Опять из баночек?
– Из баночек. И из коробочек…
– А потом спать лёг? – ядовито спросил Пила.
– Потом спать лёг… – пролепетал Панамка.
– Ну а ты, дурень, опять стал ждать?
– А вот и нет! – радостно ответил домовёнок. – Я стал штаны мерить!
Вслед за этим грянул такой хохот, что маленький домик Егора задрожал. Панамка понял, что его простили окончательно, и засмеялся громче всех.
– А ты, Лёнька, значит, тоже у писателя побывал? – отсмеявшись, вспомнил Кадило.
– Угу, он нас сам пригласил.
– Тебе-то хоть больше Панамкиного повезло? В смысле баночек.
– Конечно, больше. Он нас накормил по-царски, – похвастался Лёнька.
Кадило подмигнул Панамке:
– Ну, понял ты, что в гости лучше по приглашению ходить?
– Когда это я от него приглашения дождусь? – скуксился тот.
– Ну ладно, а Акимыч-то что у писателя забыл? – в голосе Кадила Лёньке послышалось недоумение.
– Так, ничего. Акимыч спросил, можно ли ему книжку про Пески напечатать, а писатель сказал, что нельзя.
Панамка навострил уши:
– Про наши Пески? А что про них печатать?
– Ну, какие они раньше были, как люди жили… А писатель сказал, что у Акимыча нет образования, и ещё это… надо записаться в какой-то Союз…
– А сам-то он уже записался? – резонно спросил Панамка.
– Конечно, записался. Он в Пески приехал, чтоб сказки сочинять.
– Хе! Знаем мы уже, как он сочиняет, – скривился Пила. – Ему, видать, в городе не спалось, так он приехал дрыхнуть в Пески.
Панамке такой расклад дела тоже не понравился:
– Значит, ему можно сказки сочинять, а Акимычу нельзя?
– Сочинять можно, – объяснил Лёнька, – только никто не напечатает.
– А зачем печатать непременно? – вдруг прозвучал особый, сильный голос Выжитня, и все невольно повернулись к нему. Он же продолжил не спеша и сосредоточенно, словно беседовал с собою:
– Акимычу бы не думать, напечатают его книжку или нет, а взять да написать её, как сумеет, и пускай лежит до времени. Если есть книжка, её всё одно когда-нибудь прочитают, а то и напечатают. Такой труд в бездну не упадёт, – заключил Выжитень.
Наступило молчание. Никто не спешил высказаться, и все поглядывали на Толмача. Старый домовик повернул к Выжитню свою крупную, поседевшую голову:
– Вот и скажи Акимычу про это при случае.
– Я говорил, а он соглашался, но, видать, умом, а не сердцем.
Кадило, с величайшем интересом слушавший Выжитня, решил и его поддеть на свой крючок:
– Недюжинный ум просыпается в домовом, когда он свободен от домашних хлопот. А всего-то нужно поменять место жительства. Хлопотун, а мы чего с горшками да ухватами возимся? Айда в сарай, станем философами!
Вялая шутка Кадила предназначалась, конечно, Выжитню, но он меньше всех обратил на неё внимание. Зато Хлопотун от предложения отказался:
– Я в философы не рвусь, не всем же по сараям умничать. Мне и с горшками хорошо.
– Ну-ну, – ответил Кадило, – тебе-то хорошо… А вот у некоторых, – он сделал упор на этом слове и демонстративно уставился на Пилу, – у некоторых дела явно не в порядке, и это очень бросается в глаза…
– Что у тебя за дурацкая манера говорить «некоторые»? – окрысился Пила. – Мы что, загадки твои пришли разгадывать?
Кадило удовлетворённо потёр лапы. Подтрунивать над Пилой ему было намного приятнее, чем над Выжитнем или Хлопотуном, и Кадило принялся расставлять сети:
– Да ты ведь уже всё разгадал, и правильно разгадал, Пила!..
Вопреки Лёнькиным ожиданиям Пила ничего не ответил, он лишь съёжился, и плечи его вздрогнули.
– Эй, да что с тобой в самом деле? – озадачился Кадило.
– Пила, скажи нам, что стряслось? – подключился Хлопотун. – Ну, Запечный?..
– Может, тебя харинские обидели? Или ты с невестой поссорился? – допытывался Кадило.
– Не поссорился. И не харинские, – сдавленным голосом ответил Пила. – Ведьма меня изводит.
– Так! – воскликнул Кадило, обводя взглядом всё собрание. – Бабка Федосья опять за старое принялась!
– Я слыхал, она угомонилась с тех пор, как Николка Жохов осиновым колом её огрел, – сказал Толмач.
Пила передёрнул плечами:
– Людям она теперь будто бы зла не делает, так взялась за домовых. Я про неё сперва только слышал от харинских, но сам не видел. Позапрошлой ночью иду к Соловушке, а у околицы какая-то бабка. Встала у меня на пути и говорит:
– Ты чего сюда зачастил, лошадиный загривок? Небось жить тут намыливаешься?
Я и понял, что это Федосья Кальнова. Страшная, как кикимора, и глаза светятся. Говорит мне:
– Ты и не думай в Харине селиться. Мало тут вас на мою голову! Ковыляй в свои Пески, и чтобы духу твоего здесь не было. А не угомонишься – такой свадебный подарочек приготовлю!.. И тебе, и твоей Соловушке.
– Вот змея! – выругался Панамка.
Хлопотун тоже был невесел:
– Что же дальше, Пила?
– Не послушался я её, – удручённо продолжал тот. – Вчера после посиделок иду в Харино той же дорогой, а она опять стоит, ещё и обрадовалась:
– Что, неймётся тебе? Ну, беги, беги к своей суженой, как бы тебе не опоздать!
Я – к Соловушке, а она лежит на чердаке, как мёртвая. И чем её только эта проклятая окурила-опоила? Еле-еле отходил бедную и говорю: брось этот дом, идём в Пески. Хоть в курятнике будем жить, зато без страха. А Соловушка отвечает: я за дом не держусь, пошла бы и в курятник с тобой, но не могу хозяев оставить, очень они у меня хорошие.
– Ну а ты? – спросил Кадило.
– Я сказал, что покудова ходить не буду, пока не решу, что делать. Как придумаю – в ту же ночь приду. А ей велел от Федосьи подальше держаться.
– Это верно, – в раздумье проговорил Хлопотун. – Но одному тебе с ведьмой ничего не сделать. А что же харинские её терпят, нравится им такая соседка?
Пила поник головой:
– Харинские сами её боятся. Нынешней весной, как отелились коровы и повадилась их Федосья по ночам доить, харинские решили её поймать да прочитать над ней какой положено заговор… Собрались шестеро в хлеву, где дойная корова, и притаились, ждут. Ночью приходит Федосья с кувшином, как к себе домой, и давай доить. Корова и ухом не повела, так к ней уже привыкла. Ну, харинские выскочили, схватили было Федосью, а она раз – и сорокой скинулась. Выпорхнула из лап, одни перья им оставила. И напоследок крикнула человечьим голосом:
– Чтоб вам тут всю ночь простоять, косматые отродья!
Те и остались стоять столбами и до первых петухов не могли с места сдвинуться. С этого часа закаялись Федосью трогать, как бы чего похуже с ними не сделала.
– Ну и зря! – с сердцем сказал Хлопотун. – Николка вот не побоялся да и проучил подлую. Надолго отбил охоту на людей порчу насылать. Ты, Пила, как надумаешь идти в Харино, возьми и меня.
– И я пойду, – внезапно сказал Выжитень.
Кадило обрадовался:
– Да чего уже, пойдём все! А то бабулька Кальнова, чай, соскучилась по приключениям. Пойдём, Толмач?
– Да, зови нас, Пила, как соберёшься, – решил старый домовой.
Такая единодушная поддержка ободрила Пилу, и он расправил плечи.
– Одного я не пойму, – благодушно изрёк Кадило, – что это Соловушка в тебе нашла, что даже в курятник за тобой идти готова.
– Я и сам не пойму, – ответил Пила и неожиданно для Лёньки засмеялся.
– Ну-у-у, – протянул Кадило, – у меня вопросов больше нету. Толмач, пора тебе рассказывать про Егора.
– Ну, так слушайте дальше, – Толмач прикрыл глаза, чтобы прошедшее виделось ему яснее, и принялся рассказывать.
ВОЕННЫЙ ЛЕКАРЬ ЕГОР СЕНИЧЕВ
…Как сказала Егору мать, так и случилось: вскоре началась война и забрали Егора Сеничева на фронт. Отец, провожая его, сильно плакал и слёз не стыдился.
– Ты у меня один, сынок, – говорил Егору. – Если с тобой что худое случится, мне не пережить.
Егор, помня материны слова, его утешал:
– Я, батя, обязательно вернусь, не горюй обо мне!
Но старшему Сеничеву, видать, сердце о другом говорило…
Как бы то ни было, стал Егор артиллеристом на фронте. Месяц-другой так-то отвоевал, а потом пришёл в медсанбат и говорит врачу:
– Возьмите меня сюда работать. Убивать я всё одно не научусь, так лучше помогу вам лечить.
Врач, Сергей Петрович, удивился:
– Если ты медик, почему в артиллеристы попал?
– Я не медик, – отвечает Егор. – Научился врачевать от матери, а она знахарка была.
– Ну, сравнил! Твоя мать что лечила-то? Килу, подтынницу? А у нас раны, ампутации, контузии…
– Это ничего, – не отступает Егор. – Вы меня возьмите, а я лишним тут не буду.
– Ну и настырный ты! – удивился доктор. – Ладно, я тебя возьму санитаром, а там поглядим. Только смотри, чтобы ты обратно не запросился: санитары-то у нас под огнём работают, такое, брат, им достаётся, что не приведи господь…
– Спасибо вам, доктор, – просиял Егор, – я не запрошусь.
Перевели Сеничева в медсанбат, и начал он удивлять врача своим искусством. Без ножа, безо всякого инструмента помогал раненым – останавливал кровь, раны заживлял и просто снимал боль. Всякую свободную минуту собирал травы и готовил целебные снадобья. Врач Сергей Петрович не мог на него надивиться:
– Слушай, Егор, я ничего подобного в жизни не видел! А я, брат, в людях уже двадцать лет ковыряюсь. В столичных клиниках работал, с профессорами, с академиками. Но чтобы так лечили, вижу в первый раз. Откуда у тебя такое… такое умение?
– От Бога, – отвечает Егор.
А доктору неймётся:
– Я тебя серьёзно спрашиваю, бирюк ты владимирский! Я хочу понять, почему я с образованием, со своей практикой не могу того, что ты просто так делаешь! Отчего когда я к раненому подхожу, он сжимается весь, а ты подходишь – он аж светится от радости? Завидую я тебе, понимаешь ты это? Завидую белой завистью. Всю жизнь мою ты перевернул! Я же с детства о медицине мечтал, первым студентом на курсе был, о моей работе в газетах писали. А теперь кем мне себя считать? Да что ты всё молчишь и молчишь, заноза этакая?
– Сергей Петрович, – отвечает Егор, – у меня секретов никаких нет. Могу вам всё рассказать, показать. Только как же вы по-моему делать станете, если вы в Бога не верите? Хотите иметь силу, а сами от этой силы закрываетесь.
– Да, брат, не верю, – вздыхает Сергей Петрович. – Так уж воспитали. Мой отец известный учёный был, атеист. Книг в доме было море, идеи разные, можно сказать, в воздухе носились. А вот для Бога места не нашлось. Но когда я на тебя смотрю, Сеничев, то начинаю подозревать, что и в атеизме не всё так гладко. Вот погоди, поработаем ещё с тобой, я и в Бога, и в чёрта поверю.
Интерес к Егору у того доктора был нешутейный. Вот и заводил он с Егором, как сам говорил, душеспасительные беседы при любом удобном случае. Обычно по ночам, когда раненые уже спали, а новые в медсанбат не поступали, позовёт, бывало, Егора доктор:
– Эй, народная медицина, иди-ка сюда, если спать не хочешь. Поговорим с тобой о проблемах бытия.
Егор эти разговоры не больно любил:
– Я ведь не проповедник, Сергей Петрович.
– А я от тебя не проповеди жду. Я хочу понять, на чём твоя вера зиждется. Когда я, Егор, смотрю вокруг, мне кажется чудовищной мысль, что над этим миром есть Бог. Уж если кто и правит здесь, так это дьявол. Как мне обрести веру, когда я каждый день вижу смерть, страдания и поругание своей земли?
– Сергей Петрович, – отвечает Егор, – не нужно вам искать доказательств. Когда-нибудь вы своей душой его почувствуете, тогда раз и навсегда всё поймёте. Будете видеть его повсюду, и никаких доказательств не надобно будет.
– Ты думаешь, почувствую? – не верит доктор.
– Так вы же ищете его, значит, когда-нибудь найдёте.
…Так шло время, наступило второе военное лето. Матушка земля опять явила свою силу, одела леса густой зеленью, сама укрылась буйными травами. Травы в силу вошли, их собирать пора, а Егору некогда: с боями наступают наши войска, и раненых день ото дня всё больше. Никак Егору со сбором не поспеть. Схожу-ка ночью в лес, думает он, ночи светлые, хоть что-то запасу.
Лес этот был могучим бором, вроде наших лесов, и заныло у Егора сердце по родной стороне: «Господи, до чего же тихо, до чего вольно здесь, и пахнет всё так же…» В этот момент кто-то прыгнул Егору на плечи и ударил по голове…
А очнувшись, понял Егор, что попал к немцам. Лежал он в незнакомой деревенской избе, а немцы рядом галдели между собой и на него поглядывали. Вот заметил один, что Егор в себя пришёл, велел встать и повёл среди ночи в другую избу. Там сидели немецкие офицеры, водку пили и харчи русские ели, а как увидели Егора – переглянулись. Один из них, видно, старший здесь, сказал что-то по-своему, а другой спросил у Егора по-русски:
– Ты есть русский народный лекарь, который лечит всякие болезни?
– Должно быть, я и есть, – ответил Егор и потрогал свою голову.
Старший немец опять что-то сказал.
– Господин офицер просит прощения, что пришлось применить силу. Сколько тебе лет?
– Двадцать пять.
Немцы снова переглянулись, и старший, как ворон, прокаркал что-то.
– Господин офицер хочет убедиться в твоих способностях и желает знать, чем болен этот человек, – тут переводчик показал на одного из немцев – молодого, со впалыми щеками.
Егор пристально на него поглядел и ответил:
– У этого человека больные лёгкие. Скорее всего, он застудился ещё зимой и кашляет кровью. Можно вылечить.
– Вот ты и будешь лечить. Господин офицер хочет, чтобы ты стал нашим лекарем. А если ты откажешься, тебя расстреляют.
Егор усмехнулся:
– Смерти я не боюсь, потому что смерти в мире нету. А больному вашему помогу.
И стал Егор работать у немцев. Первого его больного звали Куртом. Был он почти ровесник Егору и служил в какой-то младшей должности при штабе. На фашиста и не походил вовсе этот Курт – такой добродушный был парень. Егора он во всём слушался и даже научил немного по-немецки говорить, пока тот его выхаживал.
– Мы за тобой давно охотились, – рассказывал Курт. – Узнали, что у русских есть необыкновенный доктор, вот Блюмер и приказал добыть тебя любой ценой, потому что сам в таком враче нуждается. Если я у тебя поправлюсь, Блюмер заставит себя лечить, так и знай. Мы сначала хотели ваш медсанбат отбить, но ты нас опередил…
Егор его слова разбирал и думал: а ладно ли я сделал, что остался? Может, лучше было мне пулю свою получить? Но жалость к Курту удерживала Егора. Подумал он, как нежданно нашёл себе товарища среди немцев, и решил: ладно, этого подниму, но больше из них ни один не дождётся. «А разве правильно это – людей на дурных и хороших разделять, когда сам Бог всех одинаково любит?» – тут же громко и требовательно спросило сердце Егора. Просветлело у молодого знахаря на душе, как будто серый туман рассеялся, и не стало для него ни плена, ни врагов, ни одиночества.
Дальше оказалось всё так, как ему Курт обещал: едва тот поправился – повели Егора к Блюмеру.
– Ты и в самом деле умеешь лечить, – сказал Блюмер. – Но теперь перед тобой особенная задача, теперь я тебе доверяю свое здоровье. Если ты мне поможешь, награжу как положено. Если нет – расстреляю.
– Вот уж никогда не слыхал, чтобы так помощи просили, – только и ответил Егор.
А с Блюмером было вот что. Месяца три тому довелось ему убить одного крестьянина, старика, который будто бы с нашими партизанами связь имел. Как его ни пытали, как ни ломали – всё молчал старик. Блюмер понял, что толку не будет, взял пистолет и собственноручно с досады старика пристрелил. Тело его солдаты выбросили, а деревенские в тот же день схоронили. Но ночью явился к Блюмеру убитый старик и, подошедши к самой постели, стал показывать свои раны и громко стонать. От ужаса Блюмер лишился языка и мало не окочурился. Но вот старик замолчал, посмотрел на него с несказанной мукой и пропал. Тогда уже Блюмер заорал во всю глотку. Вбежали часовые, однако они и знать не знали ни о каком старике – никто в избу не входил, и стонов ничьих они тоже не слыхали.
Наутро велел Блюмер показать ему могилу старика. «Может, он живой остался? А эти скоты деревенские его укрыли и сделали вид, что похоронили? Надо раскопать могилу». Но при мысли снова увидеть старика такая оторопь взяла Блюмера, что он чуть не бегом бросился с погоста.
«Пропади ты совсем, – бормотал он, – не хочу ничего о тебе знать! Живой ты или мёртвый, не смей приходить ко мне!» И вечером выставил у себя двойной караул.
Однако ночью увидел Блюмер старика во сне, проснулся от его стонов и до утра лежал, цепенея от страха. То же случилось в следующую ночь, и ещё, и ещё… А потом уже и днём начал мерещиться несчастный старик в каждом убитом русском. Страшно было Блюмеру засыпать и страшно просыпаться. Хотелось ему убежать, скрыться ото всех, забиться в какую-нибудь нору и не вылезать из неё никогда. От отчаяния Блюмер готов был пустить себе пулю в лоб.
Никто не знал, что творится с Блюмером, и сам он ничего не понимал. «Я погибаю, – думал он, – хотя я здоров и у меня ничего не болит. Скоро я не смогу ориентироваться в происходящем и отдавать приказы. Почему этот проклятый старик не оставит меня? Почему я должен так расплачиваться за его паршивую жизнь? Раньше я боялся и ненавидел его, а сейчас я ненавижу себя. Я душевнобольной и трус, но трус не должен командовать солдатами, и душевнобольному не место в немецкой армии. Я сам одной пулей расставлю всё по своим местам!»
Так говорил себе Блюмер всё чаще и чаще, но почему-то медлил, как будто чего-то ждал. В это самое время разведка и донесла о необыкновенном русском знахаре, который одинаково чудесно лечил и тело, и душу. «Вот оно! – подумал Блюмер. – Я чувствовал, что моя жизнь так скоро не кончится». И отдал приказ доставить ему Егора во что бы то ни стало.
А теперь, глядя на него тяжёлым взглядом, рассказывал Блюмер о своём странном недуге, а особо доверенный офицер переводил Егору его слова.
– Надеюсь, что ты мне поможешь, – закончил устало Блюмер, – а я тебе рассказал всё как есть.
– К сожалению, я не в силах помочь вам, – ответил Егор.
– Я вижу, ты в самом деле жизнью не дорожишь, – выдавил Блюмер, но не гнев, а смертная тоска была в его словах.
– Господин Блюмер, – тихо сказал Егор, – вам не поможет ни один лекарь. Вас мучает не болезнь, а ваша же совесть.
– Увести его, – приказал Блюмер, а что дальше с Егором делать, не сказал.
Прошла неделя, другая, никто Егора не трогал, и Блюмер словно позабыл о нём. Жил Егор в этом странном плену, стараясь о будущем не думать. Курт же, наоборот, всё гадал так и эдак: «Неспроста Блюмер молчит – придумывает что-то, хитрит. Вот придумает, с какой стороны к тебе подойти, тогда держись».