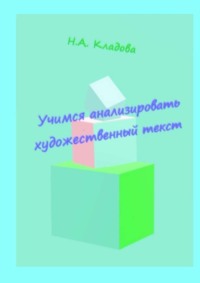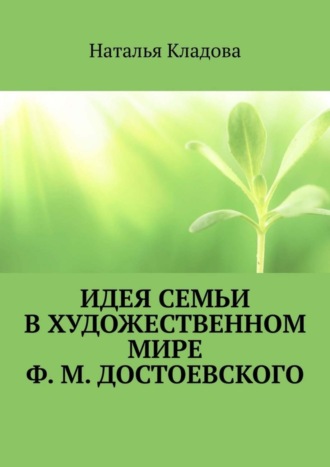
Полная версия
Идея семьи в художественном мире Ф. М. Достоевского. Монография
Вернемся к тому эпизоду, когда герой первый раз направлялся к Разумихину. После размышлений о бесполезности этого действия Родион переходит мост, засыпает на Островах, и ему снится сон о лошади, дарящий ощущение того, что в нем, Раскольникове, есть нечто большее, нежели его убеждения, «справедливые как арифметика». В этом и разрешение «главного пункта». Далее – снова мост, стоя на котором герой испытывает минутное чувство духовной свободы. Но именно минутное, так как в следующем эпизоде наступает проверка подлинности освобождения от дьявольских чар – через случайно услышанную информацию о том, что Лизаветы завтра в семь часов не будет дома. Подлинно свободный человек не воспримет эту информацию как руководство к действию. Но Раскольников «вошел к себе, как приговоренный к смерти. Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать; но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли и что всё вдруг решено окончательно» [6, 52].
Следующий сюжетный эпизод (после посещения Разумихина) – ситуация зеркального отражения на самом Раскольникове его действий по отношению к другим. Через несколько мгновений после того, как его хлестнул кнутом по спине кучер, пожилая купчиха подала ему двугривенный. Одинакова даже денежная мера помощи – двадцать копеек (те же двадцать отдал Раскольников на помощь пьяной девочке). Одинакова причина – отзывчивость на беду (на бедность Мармеладовых и несчастье пьяной девочки со стороны Раскольникова, на удар кнутом со стороны прохожей купчихи). Подаяние Раскольников получает со словами: «Прими, батюшка, ради Христа» [6, 89]. он и не способен принять, то есть не способен согласиться с основным христианским законом, на котором держится мир. Он выстраивает субординацию между собой и миром: он – вершитель справедливости, дающий, но не принимающий (действительно, не Наполеону же копейки брать). Дает-то он из искреннего чувства сострадания, но почему-то не позволяет такое же искреннее сострадание проявлять по отношению к себе. Это «ради Христа» показывает и разницу в подаянии Раскольникова и Раскольникову. Серафим Саровский писал о том, что (искренне ради Христа) ведет к стяжанию Духа Божия: «Добро, ради Него сделанное, не только в жизни будущего века венец правды ходатайствует, но и в здешней жизни преисполняет человека благодатью Духа Святого». Раскольников подает; кроме того, даже полагает, что делает нелепость (ведь «самому надо»). Ради Христа добро ради Христа не ради Христа 124
Родион второй раз отвергает помощь, бросая двугривенный в воду (символически он лишает себя возможности истинной жизни, и эта идея смерти ярче предстанет в эпизоде с утопленницей, тоже бросающейся в воду и тоже с моста; но при этом ее спасают, а значит, есть надежда на спасение и у Раскольникова). Кроме двух основных причин этого действия, прямо противоположных (чувство наполеоновского ранга и недостойности принять после ), существует еще одна. Раскольников озлоблен на мир и не может простить миру существующее в нем добро: ведь такое простое бескорыстное добро, милосердие даже от незнакомых людей (не только от приятеля) разрушает его убедительную логику о ненормальности миропорядка, не укладывается в рамки его теории о «материале», с которым поступают по своему произволу избранные личности. 125 того
На этом же мосту происходит еще одно событие, частично уже упоминавшееся нами. «Случалось ему, может быть раз сто, останавливаться именно на этом же самом месте, пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому своему впечатлению. Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина… Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его, не доверяя себе, в будущее. Теперь вдруг резко вспомнил он про эти прежние свои вопросы и недоумения, и показалось ему, что он вспомнил теперь про них. Уж одно то показалось ему дико и чудно, что он на том же самом месте остановился, как прежде, как будто и действительно вообразил, что может о том же самом мыслить теперь, как и прежде, и такими же прежними темами и картинами интересоваться, какими интересовался… еще так недавно» (курсив мой. – Н.К.) [6, 90]. Повторим, это – подтекстовый спор Достоевского с теорией «тепловой смерти» Вселенной: отвергая милосердие, не впуская его в жизнь, мы действительно ведем Вселенную к смерти. Ведь Раскольников буквально убил ту, которая ему «рубаху чинила» [6, 105], – именно эту информацию использует Настасья в качестве «кода узнавания» Лизаветы, дополняя разговор Разумихина и Зосимова об убийстве старухи и поясняя Раскольникову, о ком она говорит. Реплика Настасьи обнажает метафизический смысл раскольниковского злодеяния, которое – больше, чем лишение жизни, так как посягает на главный закон человеческого мира. Слышит слова Настасьи герой в тот момент, когда приходит в себя после беспамятства, то есть когда начинается для него процесс осознания своего места и роли в мире после черты. Возможны два исхода – смерть окончательная или восстановление в жизни. Второй символически выражен в эпизоде покупки Разумихиным для Раскольникова нового белья (логично, что это делает Разумихин). С этой покупки будет «сорок пять копеек сдачи, медными пятаками» [6, 102]. Пятаки впоследствии Раскольников потратит не на себя (все сорок пять копеек, то есть девять – Достоевский особенно настаивает на этом слове: один пятак – уличной певице, три – женщине, просящей на выпивку, четыре (20 коп.) – в качестве чаевых оставит в трактире, один подаст нищей на Сенной). Все остальные деньги, оставшиеся от тридцати пяти рублей, присланных матерью, он отдаст Мармеладовым. И во всех этих случаях уже не будет одергивать себя вопросом «зачем помогать?» и не будет любоваться мыслью «на бобах останутся без моих денег». не нечаянно переступания пятаков 126 127
Деньги в художественном мире романа являются не принадлежностью финансовой сферы, не экономической мерой жизни, но мерой в человеческом обществе. К Соне Мармеладов идет не потому, что она дала, а потому, что из сострадания («Ничего не сказала, только молча на меня посмотрела… Так не на земле, а там… о людях тоскуют, плачут, а не укоряют, не укоряют!» [6, 20]). Этот эпизод сопрягается с эпизодом прихода Раскольникова к Соне, ибо он тоже идет к ней потому, что «некуда больше идти», и потому, что . Только здесь проблема нищеты материальной перерастает в проблему нищеты духовной. Сам Раскольников и не знает, что идет из безнадежности за духовной помощью. На непонимание Родиона: если безнадежно, «для чего же ходить» [6, 14] – Мармеладов поясняет: «ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели!» [6, 15]. Пожалеть – значит проявить небезразличие к человеку, стать со-участником его судьбы. Раскольников не может допустить со-уия другого в своей судьбе, потому что не чувствует себя единого человечества, он – над «тварями дрожащими» (по крайней мере, очень хочется ему быть ). Ведь, ощущая себя человечества, невозможно убить. Именно поэтому за преступление Раскольникова страдание на себя берет другой – Миколка. Разговор о нем также происходит у постели пришедшего в сознание Родиона, который, как евангельский Лазарь, – четвертый день едва ест и пьет [6, 93] и для которого с этого момента началось время воскресения, то есть искупительного пути. Дальнейший путь Миколки (путь страдания, причем усиленного многократно, так как преступления не совершал) – единственно возможный путь возрождения для Раскольникова. Кроме того, история Миколки показывает главному герою всю пагубность нежелания искупать грех: тот хотел повеситься от думы, «што засудят». Не-признание и не-искупление греха для Раскольникова – также преступление, так как это чуть было не привело к самоубийству человека. Услышанное о Миколке наглядно обнаруживает, как бы того ни хотел Раскольников, его связанность с каждым членом человеческого общества. человечности не безнадежно — не безнадежно част частью над частью четыре дни во гробе
Нужно отметить, что сюжетная линия Миколки содержит важный эпизод посещения им распивочной; этот эпизод есть смысловая параллель к эпизоду посещения Раскольниковым распивочной в начале романа. И тот, и другой рубль, покупая пиво (Раскольников у Мармеладовых достает из кармана деньги, «доставшиеся ему с в распивочной » [6, 25], Миколай получив билетик () за найденные серьги, «его тотчас » (курсив мой. – Н.К.) [6, 106]). Полагаем, здесь мы имеем дело с аллюзией на народное поверье о неразменном рубле. В этом поверье – глубокий нравственный смысл, прекрасно раскрытый, например, в рассказе Н. С. Лескова «Неразменный рубль» (1883 г.), главный герой которого во сне потерял неразменный рубль, потому что потратил его на бесполезное, удовлетворяя свое самолюбие; проснувшись, он понял, что все свои деньги потратит теперь не на себя; это состояние осмысливается им как . Созданный народной мудростью сюжет о неразменном рубле – универсальный закон человеческого существования, ибо отдавая другим, приобретаешь сам, более того, тебе возвращается в многократном количестве. Для Раскольникова рубль не стал еще неразменным, потому что часть его потрачена на пиво, вернувшего героя к бесчеловечной идее; часть, правда, на добрые дела (помощь Мармеладовым первый раз, поруганной девочке), однако Родион не готов еще принимать возвращающееся к нему добро, увеличенное, кстати, в несколько раз (помощь Разумихина, подаяние купчихи – это в количественном измерении намного больше, нежели подал Раскольников). Миколка, по всей видимости, весь рубль потратил на себя (на выпивку). Не зная того, он тратил дьявольский, преступный рубль. Бесполезную трату длжно искупить вдвойне – он и искупает, беря на себя чужую вину в тот момент, когда вынужден признаться настоящий преступник. Рубль Миколки становится неразменным с точки зрения духовной. Таким образом, поверье о неразменном рубле в романной структуре репрезентирует глубокий философский смысл: пока добро возвращается добром, а зло искупается, не может умереть мир. В этом – идея романа и вообще идея Достоевского… в эпоху тотального увлечения экономическими правдами материального мира. разменивают разменянного рубля рубль разменял полное счастие о 128
После разговора Разумихина и Зосимова о Миколке в каморку Раскольникова входит Лужин. Это тоже не случайно. Ведь смысл истории о неразменном рубле явно противостоит лужинской теории о «целом кафтане». Согласно этой теории, поделившись с ближним кафтаном, останешься голым, так как половину кафтана носить невозможно. А вот если «возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует, и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твердых оснований и тем более устраивается в нем и общее дело» [6, 116]. Кафтан, в отличие от добра («частных, единичных щедрот»), не имеет свойства возвращаться, умножаясь, когда его отдаешь. Теория «о кафтане» терпит поражение и в следующем эпизоде (упоминавшейся нами реплике Настасьи). Лизавета чинит «кафтан» (то есть рубаху) Раскольникова, не получая плату за это (в черновиках к роману данная мысль звучит отчетливее), то есть она, забирая , возвращает . «Кафтан» становится благодаря бескорыстному добру – безапелляционное опровержение лужинской теории. не целый целый целее 129
Вернемся к событийной линии. Раскольников «выгоняет» из своей каморки всех посетителей, желая остаться один. Основных причин две. Во-первых, нужно осмыслить свое положение и дальнейшие действия (очень уж много намеков о сущности своего преступления он сразу услышал). Во-вторых, он злится от ощущения того, что его преступные действия сблизились с лужинской теорией, нравственно ущербной, в его представлении (особенно, по отношению к Дуне). У него самого срывается с языка: «А доведите до последствий, что Вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать…» [6, 118].
Раскольников выходит на улицу с мыслью «нужно все кончить», но: как кончить? [6, 120—121]. Вторая кризисная ситуация, неразрешимая для него. При этом своими действиями он сам с легкостью отвечает на вопрос, но разум упорно не хочет с этим согласиться. Так, Раскольников постоянно дает деньги: уличной певице, женщине, просящей на выпивку, человеку в трактире в качестве чаевых. Все эти три случая подаяния совершены героем не из острого чувства сострадания (как было в эпизодах с Мармеладовыми и пьяной девочкой). Данные проявления доброты совсем необязательны Раскольникова, но они обязательны, остро необходимы, Раскольникова, потому что дают почувствовать ему то, что он еще живет, что еще не умер для этого мира, даруют ему чувство связанности с миром людей. Подаяния вырывают его из небытия, в которое погружает его собственная теория. А Раскольников хочет жить. Не случайно, когда он вышел на улицу, «его почему-то тянуло со всеми заговаривать» [6, 122]. А после того, как он дал три пятака женщине, вспомнил, что где-то читал, «как один приговоренный к смерти, за час до смерти, говорит или думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, чтобы только две ноги можно было поставить, – а кругом будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение и вечная буря, – и оставаться так, стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность, – то лучше так жить, чем сейчас умирать! со стороны для
Только бы жить, жить и жить! Как бы ни жить – только жить!..» [6, 123].
На деньги, полученные преступным путем, он хотел спасти мир от бедности, сейчас же, давая «чистые» деньги другим, он движим совсем не этим желанием; таким образом он помогает себе, ища способы заглушить боль духовной мки. у
Почувствовавший в себе жажду жизни Раскольников оказался у «Хрустального дворца». Это также далеко не случайно, ибо здесь он делает еще один шаг к , правда не расценивая это именно так. Он признается Заметову в убийстве – как бы в шутку, во-первых, с целью подразнить; во-вторых, от злости на то, что, возможно, Заметов за ним следит; наконец, существует более серьезная причина: это «ненастоящее» признание есть стремление его души сбыть невыносимую мку. Ведь он «признается», подробно указывая, куда дел деньги, анализируя свои внутренние движения («обокрасть не сумел, не выдержал») – только не от своего лица. Ему нужно выговориться, и в этот момент умом он себя не контролирует: только когда проговорил «я убил» – . жизни у опомнился
Таким образом, все действия Раскольникова после того, как он вышел на улицу с намерением «все кончить», (подаяния, признание) направлены на то, чтобы восстановить порванные духовные связи с миром. Это выбор его сердца, разум же против такого выбора активно протестует, воспринимая ситуацию как воссоединение с «тварями дрожащими»; герой все еще не оставляет надежду утвердиться в ранге «право имеющего». Разумихину, с которым он столкнулся при выходе из трактира, Раскольников говорит: «– Слушай, Разумихин, – начал тихо и по-видимому совершенно спокойно Раскольников, – неужель ты не видишь, что я не хочу твоих благодеяний? И что за охота благодетельствовать тем, которые… плюют на это? Тем, наконец, которым это серьезно тяжело выносить? Ну для чего ты отыскал меня в начале болезни? Я, может быть, очень был бы рад умереть? Ну, неужели я недостаточно выказал тебе сегодня, что ты меня мучаешь, что ты мне… надоел! Охота же в самом деле мучить людей! Уверяю же тебя, что всё это мешает моему выздоровлению серьезно, потому что беспрерывно раздражает меня. как бы эго
Ведь ушел же давеча Зосимов, чтобы не раздражать меня! Отстань же, ради Бога, и ты! И какое право, наконец, имеешь ты удерживать меня силой? Да неужель ты не видишь, что я совершенно в полном уме теперь говорю? Чем, чем, научи, умолить мне тебя, наконец, чтобы ты не приставал ко мне и не благодетельствовал? Пусть я неблагодарен, пусть я низок, только отстаньте вы все, ради бога, отстаньте! Отстаньте! Отстаньте!» [6, 129—130]. Примечательно авторское пояснение тона этой «проповеди»: «Он начал спокойно, заранее радуясь всему яду, который готовился вылить, а кончил в исступлении и задыхаясь, как давеча с Лужиным» [6, 130]. Сердцу больно, оно страдает от разума, а разум злится, потому что движения сердца не укладываются в его ясную логику.
В следующем эпизоде, на мосту, в глазах Раскольникова «завертелись какие-то красные круги» [6, 131], предупреждая именно о том, что в разладе ума с сердцем жизнь заканчивается. И тут же это предупреждение превращается в реальный факт – попытку самоубийства женщины. Не случайно эпизод сюжетно стоит за разговором Раскольникова с Разумихиным при выходе из трактира, то есть после «проповеди» обозленного разума, ибо сцена самоубийства – проповедь, «доведенная до последствий». Другими словами, «дух немой и глухой», смущавший Раскольникова во время предыдущего пребывания на мосту, материализовался как логический итог его теории применительно к нему самому. При этом «сердце его было пусто и глухо. Мыслить он не хотел» [6, 132]. Такой исход – самоубийство – есть духовная пустота сердца. Разум же отказывается рассматривать этот вариант, означающий признание своей «обыкновенности». Примечательно, что именно сейчас вопрос, который стоял перед выходившим из своей каморки Раскольниковым, «как кончить?» оказался замененным другим: «скажу я им иль не скажу?». Но Раскольников пока за вариантом «скажу» видит лишь «аршин пространства». И даже в конце романа он не понимает слов Порфирия Петровича, объясняющего, почему Раскольников должен сделать явку с повинной: «– Эй, жизнью не брезгайте! <…> много ее впереди еще будет» [6, 351].
Дальнейшая событийная цепь такова. Идя обходом в контору, Раскольников оказывается у дома. Разговор работников в квартире старухи глубоко символичен. На пояснение старшего о том, что такое журнал, младший восклицает: того
«– И чего-чего в ефтом Питере нет! – с увлечением крикнул младший, – окромя отца-матери, всё есть!
– Окромя ефтова, братец ты мой, всё находится, – наставительно порешил старший» [6, 133]. 130
Петербург беден не материально; в нем не хватает того, что нужнее и ценнее сокровищ земных, – чувства родственности душ, духовной опоры, которая надежнее всего, когда исходит от родного человека. Причем люди сами часто провоцируют «разобщение» с другими – и это напрямую относится к герою Достоевского. А ведь в Петербурге у Раскольникова есть мать, есть и сестра, и очень близкий друг Разумихин, однако он сам пытается порвать с ними духовные связи. Выдуманная Раскольниковым легенда о необходимости нанять квартиру, чтобы (а легенда эта не на пустом месте родилась – а на желании героя отъединиться), обнажает подтекст диалога работников: человек по собственной воле теряет «отца-матерь», и это одна из главных проблем человека Достоевского – проблема духовного одиночества. Раскольников четко обозначает причину своего прихода в квартиру старухи. «Надоели они мне очень вчера, – обратился вдруг Раскольников к Порфирию с нахально-вызывающею усмешкой, – я и убежал от них квартиру нанять, чтоб они меня не сыскали, и денег кучу с собой захватил» [6, 194—195]. уйти от родных, которые надоели сам 131
Поэтому и разговор работников Раскольников слышит именно тогда, когда идет в контору: в нем – указание на истинный смысл признания, которое герой должен сделать: вернуть чувство связанности с душами других (родных и, шире, всех остальных, которые станут ). Через несколько страниц текста у Раскольникова метафорически появится и отец (настоящий, родной, уже умер). Герой узнает в раздавленном лошадьми человеке Мармеладова: «Раскольников назвал и себя, дал свой адрес и всеми силами, как будто дело шло о , уговаривал перенести поскорее бесчувственного Мармеладова в его квартиру» (курсив мой. – Н.К.) [6, 138]. Безотчетным душевным движением он совершает то, что должен совершать, то, в чем он сам остро нуждается, не вынося внутреннего ощущения отъединенности от «отца-матери». Этот эпизод снова выводит читателя к главной идее Достоевского: мир и человечность в нем не умрет только в том случае, если для каждого другой человек будет как родной. Идея родственной связи всех в мире в следующем эпизоде выльется в более широкое обобщение. Но прежде вернемся немного назад. По сути, для Раскольникова Мармеладов оказывается и духовным отцом, ибо в начале романа в его исповеди раскольниковской теоретической справедливости противопоставляется справедливость Божия, справедливость-милосердие. «И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смирных… И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: «Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!» И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: «Свиньи вы! образа звериного и печати его; но приидите и вы!» И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: «Господи! почто сих приемлеши?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего…» И прострет к нам руце свои, и мы припадем… и заплачем… и всё поймем! Тогда всё поймем!.. и все поймут… и Катерина Ивановна… и она поймет… Господи, да приидет царствие твое!» [6, 21]. После сцены с раздавленным Мармеладовым это относится и к Раскольникову. Поленька обещает ему всю свою будущую жизнь о нем молиться [6, 147]. Характерно, что сам Раскольников об этом попросил: «– Полечка, меня зовут Родион; помолитесь когда-нибудь и обо мне: «и раба Родиона» – больше ничего» [6, 147]. А перед этим: «А меня любить будете?» [6, 146] (после признания Поленьки в том, что она больше всех сестрицу Соню любит). Любовь Поленьки имплицитно отражает любовь Бога, которая одинакова и для праведников (Соня), и для грешников (Родион). Здесь – идея соборного единения человеческих душ в любви-прощении, возможной только по Божьему милосердию. Раскольникову очень хочется примкнуть к людскому целому, пусть и «на правах» грешника. Однако «новое, необъятное ощущение вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни» [6, 146] разум Раскольникова понимает по-своему: «Царство рассудка и света теперь и… и воли, и силы… и посмотрим теперь! Померяемся теперь!» [6, 147]. как родные родном отце
В каморке Родиона, куда он возвращается вместе с Разумихиным, его ждут мать и сестра. Именно сейчас герою, как никогда, нужна духовная опора родной души. Но в его реакции на приезд матери и сестры мы снова видим: сам Раскольников отзывчивость на беду другого человека как родного способен проявить, но не способен принять эту же отзывчивость родных (действительно родных!) по отношению к себе. Да и признать то, что оказался в беде, также не может.
Идея родства в романе по ходу сюжета получит свое развитие. У Раскольникова в Петербурге не только мать и сестра. Разумихин в конце романа действительно станет ему родным, так как женится на его сестре Дуне. А значит, станет родным и Порфирий Петрович, так как он дальний родственник Разумихина (сам Разумихин несколько раз пытается говорить с Порфирием о подозрениях на Раскольникова -). Впрочем, беречь сестру Родион доверяет Разумихину почти сразу после приезда ее. А Пульхерия Александровна говорит Разумихину: «Я вас как за родного считаю…» [6, 170]. Когда Раскольников ушел от матери и сестры, автор поясняет: «Не стану теперь описывать, что было в тот вечер у Пульхерии Александровны, как воротился к ним Разумихин, как их успокаивал, как клялся, что надо дать отдохнуть Роде в болезни, клялся, что Родя придет непременно, будет ходить каждый день, что он очень, очень расстроен, что не надо раздражать его; как он, Разумихин, будет следить за ним, достанет ему доктора хорошего, лучшего, целый консилиум… Одним словом, с этого вечера Разумихин стал у них » (курсив мой. – Н.К.) [6, 240]. Разумихин стал , потому что в нем увидели поддержку и заботу, духовную опору. Раскольников, с одной стороны, таким образом становится братом Разумихина; и это родство готов принять Разумихин, но не готов Раскольников, поэтому, с другой стороны, получается, что Разумихин замещает Раскольникова в семье. Символично, что первая встреча Раскольникова с семьей происходит тогда, когда он в каморку возвращается с Разумихиным. И именно при встрече с семьей Раскольников остро почувствовал свою вырванность из прочного семейного круга. Он увидел, что не одинок, но увидел также, что внутренне не может преодолеть одиночество. В итоге Родион в прямом смысле выгоняет мать, сестру и Разумихина. «по родственному» сыном и братом сыном и братом мать и сестра
На следующий день все четверо снова собираются в раскольниковской каморке. И именно сейчас главный герой вспоминает о своей влюбленности в больную девочку: «Право, не знаю, за что я к ней тогда привязался, кажется за то, что всегда больная… Будь она еще хромая аль горбатая, я бы, кажется, еще больше ее полюбил… (Он задумчиво улыбнулся.) Так… какой-то бред весенний был…» [6, 177]. Не случайно об этих воспоминаниях говорится за несколько мгновений до прихода в каморку Сони и не случайно так «не в тон» Раскольников обрывает свои воспоминания («бред весенний»). Ведь он сам оказывается «в роли» больной девочки, и чем больше уходит в свой теоретический мир, тем больше для возвращения в мир реальный ему нужно любви и сожаления, любви-жалости, которую в полной мере даст ему Соня. Но Раскольников не понимает этого своего положения «больного», и не понимает того, что его искренние чувства к больной девочке – единственно возможные в стремлении сделать мир счастливее. Поэтому закономерна его реакция на реплику Дуни.