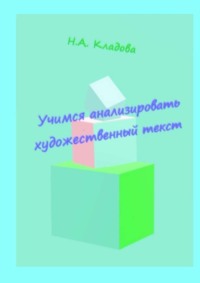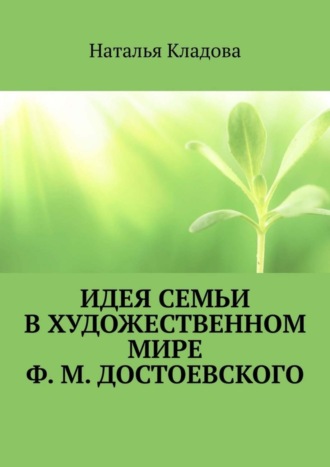
Полная версия
Идея семьи в художественном мире Ф. М. Достоевского. Монография
«– Нет, тут не один бред весенний, – с одушевлением сказала Дунечка.
Он внимательно и с напряжением посмотрел на сестру, но не расслышал или даже не понял ее слов» [6, 177].
Через некоторое время в каморку Раскольникова вошла Соня – та, которой выпала участь восстанавливать связи Раскольникова с «отцом-матерью». Характерно, что после этого Раскольников с Разумихиным идут к Порфирию . Аналогичная последовательность будет и далее: за эпизодом разговора Раскольникова с Соней у нее в комнате следует эпизод второго посещения им Порфирия (уже в конторе, а не в домашней обстановке, однако Порфирий замечает: «Я Вас, батюшка, пригласил теперь , совершенно этак по-дружески!» (курсив мой. – Н.К.) [6, 269]). Смысл такой дважды повторяющейся последовательности эпизодов довольно прозрачен: Порфирию – это первый шаг на том пути искупления и воссоединения с родными, на который подвигает его Соня. Этот смысл усилен и такой деталью, подтекстово продолжающей реализовывать народную легенду о неразменном рубле. По дороге к Порфирию Раскольников объясняет Разумихину: «Впрочем, я ведь не выкупить теперь вещи иду, – подхватил он с какою-то торопливою и особенною заботой о вещах, – ведь у меня опять всего только … из-за этого вчерашнего проклятого бреду!..» (курсив мой. – Н.К.) [6, 188—189]. В начале романа у него также был один рубль, с него он начинает совершать добрые дела, именно поэтому после того, как он отдал (и то, что появилось после первого рубля), – у него остался тот же рубль. Это в тексте не раз подчеркивается. Слова Раскольникова: «Я вчера деньги, которые вы мне прислали, отдал… его жене… на похороны» [6, 174]. Потом это повторяет Соня, увидев каморку Раскольникова: «Вы нам вчера отдали!» [6, 183]. Разумихин эмоционально расценивает этот поступок Раскольникова: « деньги на похороны вдове отдал! Ну, захотел помочь – дай пятнадцать, дай двадцать, ну да хоть три целковых себе оставь, а то двадцать пять так и отвалил!» [6, 195] (курсив во всех трех цитатах мой. – Н.К.). Заметим, из присланных тридцати пяти рублей только 9, 55 ушли на новую одежду (при этом их тратил Разумихин, а не Раскольников), остальные Раскольников действительно потратил не на себя. Именно поэтому рубль оказался . С этим неразменным рублем он идет к Порфирию, т.е. туда, где должно произойти признание, которое даст возможность со-единения с миром, где рубль должен стать неразменным в духовном смысле. И только в случае, если признание состоится, рубль останется неразменным. Символично размышление Раскольникова: «Лизавета! Соня! Бедные, кроткие, с глазами кроткими… Милые!.. Зачем они не плачут? Зачем они не стонут?.. Они отдают… глядят кротко и тихо… Соня, Соня! Тихая Соня!..» (курсив мой. – Н.К.) [6, 212]. Местоимение () по отношению к Родиону замещало существительное ; по отношению к Соне и Лизавете семантическое поле этого местоимения намного шире, так как охватывает и сферу духовную (и в большей мере, нежели финансовую). Вот это и нужно обрести Раскольникову, чтобы отдавать, не теряя… но приумножая добро в мире. И после преступления (подчеркнем еще раз) он подает другим не ради них, но ради себя: таким способом он помогает себе, пытаясь вернуть себя в жизнь. Символично то, что за свою статью о делении людей на «избранных» и «материал» Раскольников , так как не знал вообще о публикации статьи (метафорически выражаясь, рубль не вернулся к нему за неправедный поступок). домой по-домашнему к рубль серебром всё всё все всё Последние все неразменным всё всё все деньги всё не получил денег
Темой единения человеческих душ обусловлено со-положение и таких эпизодов. Для того чтобы проводить Раскольникова домой (где его ждут мать и сестра), Разумихин ушел с собрания, на котором говорили о социализме, то есть ушел из общества, где ратовали за механическое единение [6, 197], – и оказывается в обществе самых родных друг другу людей. Далее, когда они (Разумихин и семья Раскольниковых) второй раз собрались у Раскольникова, а затем вошла Соня, объединило всех раскольниковское проявление добра. После того, как у Сони вырвалось при виде убогой обстановки каморки, что Раскольников отдал им всё, «глаза Дунечки как-то прояснели, а Пульхерия Александровна даже приветливо посмотрела на Соню» [6, 184]. Изначальный замысел (в Подготовительных материалах третьей редакции) противостояния Сони, с одной стороны, и Дуни, Пульхерии Александровны, Разумихина – с другой, в окончательном тексте снимается; уже при первой их встрече происходит единение добром. И с этого же момента (с первой встречи) начинается деятельная, праведная, помощь Разумихина семье Раскольниковых, «частная благотворительность», которую отвергают социалисты и которая оказалась спасительной для Дуни и Пульхерии Александровны. Разумихин духовно вовлекается в эту семью, становится . Какой-то невероятный восторг ощутил герой, когда был изгнан Лужин, ведь «теперь он имеет право отдать им всю свою жизнь, служить им…» [6, 236]. Он задумал «отличное предприятие» – выход, противоположный раскольниковскому, что подчеркнуто в одном примечательном прилагательном в реплике Разумихина: «Зачем, зачем же нам свое упускать, когда у нас одно из главнейших средств очутилось – деньги?» (курсив мой. – Н.К.) [6, 238] ( – от Марфы Петровны по завещанию и от дяди Разумихина, но не от убитой старушонки). Раскольников уходит. Ему страшно открыть преступную тайну и мучительно быть одному. Поэтому символично безмолвное признание Раскольникова Разумихину в темном коридоре возле лампы – признание души, которое гордость не дает выговорить. После этой сцены в коридоре у лампы Разумихин вернулся в Раскольниковых, как сын и брат, Раскольников пошел к Соне, все еще надеясь осуществить иное «предприятие» по спасению мира, взяв в «компаньоны» ту, которая тоже посмела переступить. Он думает, что к ней сможет примкнуть и избавиться от тоски одиночества. Но уйдя из семьи, и , у Сони он понимает, что она – в таком же крепком семейном кругу. Допытываясь, как же теперь (после смерти Мармеладова) будет жить Катерина Ивановна с детьми при единственном варианте надеяться на Соню, он получает ответ: «Ах, нет, не говорите так!.. Мы , живем» (курсив мой. – Н.К.) [6, 244]. Тот же смысл был в словах Разумихина: «И зачем, зачем вам уезжать! <…> и что вы будете делать в городишке? А главное, вы здесь , уж как , – поймите меня!» (курсив мой. – Н.К.) [6, 237]. Раскольников и сам оказывается вовлеченным в семью Мармеладовых. Соня сообщает ему: Катерина Ивановна «на Вас <…> всё надеется: говорит, что вы теперь ей помощник и что она где-нибудь немного денег займет и поедет в свой город, со мною, и пансион для благородных девиц заведет, а меня возьмет надзирательницей, и начнется у нас совсем новая, прекрасная жизнь, и целует меня, обнимает, утешает, и ведь так верит!» [6, 244]. Пусть это «фантазия» в отличие от реально осуществимого «предприятия» Разумихина, но Раскольникову здесь отводится важная роль, заменяющая роль «полезного» для общества убийцы. Герой же упорно не хочет такой вариант рассматривать. В разговоре с Соней он настойчиво, мы бы сказали, методично, провоцирует ее на отказ от Бога. 132 сыном и братом собственные собственные семью бросив родных всё разорвав одно заодно все вместе и один другому нужны нужны
«Ведь справедливее, тысячу раз справедливее и разумнее было бы прямо головой в воду и разом покончить!
– А с ними-то что будет? – слабо спросила Соня, страдальчески взглянув на него, но вместе с тем как бы вовсе и не удивившись его предложению» [6, 247]. Раскольников снова сталкивается с идеей связанности каждого с каждым в этом мире и идеей жалости как основой этой связанности. Наступает момент в их диалоге о Катерине Ивановне и маленьких детях, когда Соня не в состоянии уже терпеть холодного, циничного тона Раскольникова: «А Вам разве не жалко? Не жалко?» [6, 244]. Ему не жалко, в том смысле, что он не может пожалеть, то есть проявить соуие, мысля себя ью человеческого целого. част част
А ведь логическую цепочку родства Раскольникова с другими персонажами романа можно продолжить. Мармеладов – «как родной отец» и даже, как мы отмечали, духовный отец, ибо при первой их встрече духовно наставляет Раскольникова своей вдохновенной проповедью о Царствии Божием, следовательно, Соня – и… духовная сестра (не случайно она отдаст ему свой крест). В конце романа Пульхерия Александровна скажет: «…и Софья Семеновна, пожалуй, пусть с нами едет, если надо; видишь, я охотно ее даже возьму» (курсив мой. – Н.К.) [6, 397]. Так как Соня поменялась крестами / образками с Лизаветой, для Раскольникова Лизавета тоже сестра, и сестра – Алена Ивановна, родная сестра Лизаветы. Не случайно у Алены Ивановны на шейном снурке оказываются все кресты/ образки, которые есть у Сони и Лизаветы вместе взятых. «На снурке были два креста, кипарисный и медный, и, кроме того, финифтяный образок» [6, 64]. Не случайна и реплика Раскольникова о том, что на шее у Алены Ивановны он образок видел, как у Сони. «Кипарисный, то есть простонародный; медный – это Лизаветин, себе берешь, – покажи-ка? Так на ней он был… в ту минуту? Я знаю тоже подобных два креста, серебряный и образок. Я их сбросил тогда старушонке на грудь» [6, 403]. (Правда, относительно креста Раскольников немного перепутал, что символизирует, полагаем, путаницу для него в истинном жизненном пути. Кроме того, если бы Раскольников мыслил логически, он не мог бы сказать фразу о том, что медный крест на Лизавете был «в ту минуту», так как от Сони он знает, что Лизавета отдала ей этот крест, но ведь понятно, что отдала до момента убийства. Эта фраза («Так на ней он был… в ту минуту?») вырывается из уст Раскольникова благодаря подсознательному чувству связанности, родственности со своими жертвами.) Метафорически Раскольников убивает двух своих сестер. Так раскольниковской теории наносится самый сильный удар: родным (генетически) матери и сестре невозможно принять такую жертву. В целом его замысел оборачивается своей противоположностью: он хотел спасти родных, но в реальности родные будут спасать его. как родная сестра вместо дочери подобный 133
Не соглашаясь на «сделку» с Свидригайловым, цель которой – сокрыть преступление Раскольникова, Дуня символично оказывает духовную помощь брату. Раскольников просит мать молиться за него, потому что сам не в состоянии: как объясняет Дуне, «сейчас вместе с матерью, обнявшись, плакали; я не верую, а ее просил за себя молиться» [6, 399]. И это есть духовная помощь со стороны матери. И «сестринскую», и «материнскую» помощь оказывает Раскольникову Соня.
Идея родства отождествляется в романе с идеей отзывчивости, со-участия, связанности всех в мире, к несчастному (буквально: «не являющемуся »), но не осуждения его. жалости частью
Вернемся к эпизоду первого посещения Раскольниковым и Разумихиным Порфирия. После него на перекрестке Родион слышит о себе: «Убивец!». Он идет в свою каморку и забывается: ему вспоминается детство. Затем следуют рассуждения Раскольникова о своем -величии. Это метафорически отображает последующий сон, в котором тот же мещанин приводит героя в квартиру процентщицы. В передней также [6, 213], как и тогда, когда делал пробу; в комнате – также свет, правда, лунный (как атрибут царства мертвых); тогда был солнечный. Но далее два важных несоответствия: во-первых, старушонка смеется – над тем, что ее невозможно убить, а это значит, что преступление провалилось; во-вторых, преступление тут же стало явным: «Он бросился бежать, но вся прихожая уже полна людей, двери на лестнице отворены настежь, и на площадке, на лестнице и туда вниз – всё люди, голова с головой, все смотрят, – но все притаились и ждут, молчат» [6, 213]. То есть для Раскольникова совершенное преступление не принесло ожидаемого им результата: не дало ощущения наполеоновского величия. Это – с одной стороны. С другой – сон является означением того, что тайна преступления для него уже слишком тяжела; он ведь не раз уже признавался Заметову и собирается признаться Соне. Этот мещанин и этот сон – указание Раскольникову на то, что не за тем он ходил к Порфирию, за чем нужно. Далее мы увидим, что за тем, за чем нужно, Порфирий придет к Раскольникову сам, пытаясь утвердить в нем мысль о спасительности признания. не темно как бы
Итак, после таких Раскольникова событий (реплика мещанина, сон о старушонке) к нему входит Свидригайлов и предлагает разговор о привидениях. Явление Марфы Петровны Свидригайлову, безусловно, понятным образом характеризует его, но в структуру романа привидения «вставлены» не только для характеристики образа. После этого разговора Раскольникову приходит в голову мысль о том, что мещанин, произнесший роковое «Убивец!», – привидение, призрак. пугающих 134
«– Вот вы все говорите, – продолжал Раскольников, скривив рот в улыбку, – что я помешанный; мне и показалось теперь, что, может быть, я в самом деле помешанный и только призрак видел!
– Да что ты это?
– А ведь кто знает! Может, я и впрямь помешанный, и всё, что во все эти дни было, всё, может быть, так только, в воображении…» [6, 225] (диалог с Разумихиным).
Для Раскольникова этот мещанин, действительно, призрак, привидение, потому что не входит на правах в сочиненную им картину мира. В ней не предусмотрены такие реплики. Мещанин – из мира подлинного, действительного, незримо осененного Божией благодатью (мещанин – это совесть, как и призраки Свидригайлова). Именно с точки зрения этого, подлинного, мира Раскольников видит свое преступление во сне о старушонке. Но герой не хочет замечать то, что действительная реальность отличается от выдуманной им. Не случайно он говорит Свидригайлову о том, что не верит в будущую жизнь [6, 221], тогда как только что у Порфирия Петровича утверждал обратное [6, 201]. Рассуждения Свидригайлова о сущности привидений имеет свой подтекст. «Привидения – это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а стало быть, должен жить одною здешнею жизнью, для полноты и для порядка. Ну а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше, так что когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир» [6, 221]. По свидригайловской логике (берем только и переносим ее на случай с мещанином), если мещанин – призрак, то он клочок и отрывок другого мира, дающий возможность соприкосновения с этим миром, существующим в сознании человека только при вере в будущую жизнь. Соответственно, для того чтобы для Раскольникова была эта будущая жизнь (естественно, не в формате бани с пауками, как представляется Свидригайлову), нужно сказать, прежде всего, самому себе это страшное слово «Убивец!» и принять искупительную ную мку (призрак-мещанин ведет к переку). Но так как Раскольников живет в реальности, из разговора о привидениях он делает иной вывод: мещанина не существует, а значит, и преступления не было. И еще долго, даже в момент самых тяжелых духовных мучений, он будет убежден в том, что не было. В следующих эпизодах конфликт двух реальностей только усиливается – через тему сумасшествия. Раскольников считает Свидригайлова помешанным, причем второй раз – когда Свидригайлов предложил Дуне деньги [6, 223]. Но когда Раскольников оказывается у Сони, она его считает помешанным – после его слов о власти «над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!..» [6, 253]. Раскольников же саможертвенность, бескорыстие Сони расценивает как помешательство [6, 248]. Противостояние двух реальностей – бытия Божия и мира по теории Раскольникова – достигает своей кульминационной точки. Одно исключает другое, одно с точки зрения другого – ненормальность, помешательство, отклонение от нормы. Раскольников относит емещанина на счет собственного помешательства, то есть отклонения от нормы мира в его представлении, не понимая, что такое отклонение – великое благо (к этой мысли настойчиво и терпеливо будет вести его «тихая Соня»). могущего существовать
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Степанян К. А. «Сознать и сказать»: «Реализм в высшем смысле» как творческий метод Ф. М. Достоевского. М., 2005; Касаткина Т. А. О творящей природе слова. Онтологичность слова в творчестве Ф. М. Достоевского как основа «реализма в высшем смысле». М., 2004; Белопольский В. Н. Достоевский и философская мысль его эпохи. Концепция человека. Ростов-на-Дону, 1987; Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. М., 1994; Тихомиров Б. Н. К осмыслению глубинной перспективы романа «Преступление и наказание» // Достоевский в конце ХХ века: Сб. статей. М., 1996; Хоц А. Н. Типология «странного» в художественной системе «Преступления и наказания» //Достоевский. Материалы и исследования. Т. 10. СПб., 1992; Афанасьев Э. С. «Я… реалист в высшем смысле» (О художественности романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание») // Русская словесность. 2005. №4; Бяньгэ Ч. Проблема духовного возрождения человека в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»: диссертация… кандидата филологических наук. М., 2006; Викторович В. А. Роман познания и веры // Роман Ф. М. Достоевского «Подросток»: возможности прочтения. Коломна, 2003; Галкин А. Б. Образ Христа и концепция человека в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» // Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения. М., 2001; Тюрина О. П. Проблематика романа «Бесы» в контексте религиозного мировоззрения Ф. М. Достоевского // Аркадий Гайдар и круг детского и юношеского чтения. Арзамас, 2009.
2
Власкин А. П. Стихия вопрошания в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» // Проблемы истории, филологии, культуры. М.; Магнитогорск; Новосибирск, 2006. Вып. 16/2; Власкин А. П. Судьбы героев под вопросом // Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»: современное состояние изучения. М., 2007.
3
Конюхов А. Ф. Стихия вопрошания в романе Ф. М. Достоевского «Подросток»: диссертация… кандидата филологических наук. Магнитогорск, 2007.
4
Назиров Р. Г. Творческие принципы Ф. М. Достоевского. Саратов, 1982. С. 97.
5
Назиров Р. Г. Специфика художественного мифотворчества Ф. М. Достоевского (Сравнительно-исторический подход) // Литературный текст: Проблемы и методы исследования. Аспекты теоретической поэтики. М.; Тверь, 2000. Вып. 6. С. 53—59.
6
Криницын А. Б. Сюжетология романов Ф. М. Достоевского. М., 2017. С. 20.
7
Степанян К. А. «Сознать и сказать»: «Реализм в высшем смысле» как творческий метод Ф. М. Достоевского. М., 2005. С. 107.
8
Там же. С. 102.
9
Ермилова Г. Г. Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: поэтика, контекст: дис… д. филол. н. Иваново, 1999. С. 7.
10
Шаулов С. «Братья Карамазовы» как роман-универс// II Международный симпозиум «Русская словесность в мировом культурном контексте». М., 2008. С. 168.
11
Померанц Г. С. Открытость бездне. Встречи с Достоевским // . http://www.litmir.net/br/
12
Levitsky S. The Hierarchical Principle of Dostoevsky’s novels // F.M. Dostoevsky. 1821—1881. – New York, 1971.
13
Курляндская Г. Б. К вопросу о романе Достоевского как системном единстве // Достоевский и современность: тезисы выступлений на «Старорусских чтениях». Ч. 2. Новгород, 1991; Иванов Вяч. Достоевский и роман-трагедия // О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли 1881—1931 гг. М., 1990; Померанц Г. С. Открытость бездне. Встречи с Достоевским // ; Жирар Р. Достоевский: от двойственности к единству. М., 2013; Меликян М. М. Художественная структура бытия в метаромане Ф. М. Достоевского («Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы»): дис… к. филол. н. Иваново, 2006; Ермилова Г. Г. Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: поэтика, контекст: дис… д. филол. н. Иваново, 1999; Arseniev N. The Central Inspiration of Dostoevsky // F.M. Dostoevsky. 1821—1881. New York, 1971; Никулина Н. А. Принципы воплощения евангельского сюжета в «Легенде и Великом инквизиторе» Ф. М. Достоевского // Православие и русская культура, прошлое и современность. Тобольск, 2010. С. 141. http://www.litmir.net/br/
14
Касаткина Т. А. О творящей природе слова. Онтологичность слова в творчестве Ф. М. Достоевского как основа «реализма в высшем смысле». М., 2004. С. 46.
15
О роли пространственно-временных точек читаем в работе М. М. Бахтина: «У Достоевского, <…>, порог и смежные с ним хронотопы лестницы, передней и коридора, а также и продолжающие их хронотопы улицы и площади являются главными местами действия в его произведениях, местами, где совершаются события кризисов, падений, воскресений, обновлений, прозрений, решений, определяющих всю жизнь человека» (). На особое качество пространства – его соотнесенность с внутреннем процессом героя указывает А. Н. Хоц (). Интересные наблюдения о художественном пространстве и времени произведений писателя содержатся в книге Н. К. Савченко: . Особенности времени в художественном мире Достоевского интересно осмыслены О. А. Ковалевым (). Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 397 Хоц А. Н. Структурные особенности в прозе Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 11. СПб., 1994. С. 52 Савченко Н. К. Сюжетосложение романов Ф. М. Достоевского. М., 1982. С. 48, 50 Ковалев О. А. Время и нарратив в творчестве Ф. М. Достоевского // Известия Алтайского гос. ун-та. Серия «Педагогика и психология. Право. Филология и искусствоведение. Философия, социология и культурология. Экономика». – Барнаул, 2010
16
Ашимбаева Н. Т. Поэтика двусмысленности и недосказанности у Достоевского (Явное и прикровенное родство героев) // Sub specie tolerantiae. Памяти В. А. Туниманова. СПб., 2008; Бертнес Ю. «Христос-отец»: к проблеме противопоставления отца кровного и отца законного в «Подростке» Достоевского // Евангельский текст в русской литературе XVIII – XX веков. Вып. 2. Петрозаводск, 1998; Борисова В. В. «Братья и сестры» в романе «Преступление и наказание». Поэтика образов // Достоевский и мировая культура: Альманах, №27. СПб., 2010; Гачева А. Г. Ф.М. Достоевский и Н. Ф. Федоров: линии духовного родства // Текст, контекст, интертекст. Т. 3. М., 2012; Долбина И. А. Художественный концепт и его языковая репрезентация в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»: диссертация… кандидата филологических наук. Томск, 2004; Ларкович Д. В. Символика дома в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» // Пути обновления педагогического образования: Труды СурГПИ. Вып. 1. Сургут, 2003; Никулина Н. А., Тунгусова М. Н. Детское братство в романах Ф. М. Достоевского как прообраз Царства Божиего на земле // Православие и русская культура, прошлое и современность. Тобольск, 2010; Соколовская А. И. Проблема «случайного семейства» в творчестве Достоевского 70-х годов (роман «Подросток») // Лингвострановедение: методы анализа, техника обучения. В 2 ч. Ч. 2. Концепт «семья» в аспекте лингвострановедения. М., 2004; Щенников Г. К. Проблема «человек и семья» в размышлениях Ф. М. Достоевского // Человек. Семья. Государство. СПб., 2008; Строганов М. В. Из предыстории «случайного семейства» // «Мысль семейная» в русской литературе. Тверь, 2008; Печерская Т. И. Мотив блудного сына в рассказах и повестях Ф. М. Достоевского // «Вечные» сюжеты русской литературы: («блудный сын» и другие). Новосибирск, 1996; Живолупова Н. В. Семантическая ось «отец-сын» и замысел «Отцы и дети» в контексте творчества Достоевского (от «Униженных и оскорбленных» к «Подростку») // Вестник Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. Серия «Филология». Вып. 1 (6). Нижний Новгород, 2005; Габдуллина В. И. Мифологема дома в произведениях Ф. М. Достоевского // Культура и текст. Славянский мир: прошлое и современность. СПб.-Самара-Барнаул, 2001; Габдуллина В. И. Мотив блудного сына в произведениях Ф. М. Достоевского и И. С. Тургенева. Барнаул, 2006. брат