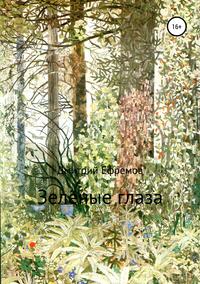полная версия
полная версияПолёт японского журавля. Я русский
Он пробыл в Сеуле до начала марта. К этому времени американские войска уже вплотную подошли к границам города, война, словно маятник, раскачивала обе стороны, и теперь её волна снова двигалась на север. Михаил не знал, оставят его в Сеуле в случае, если американцам удастся его вновь захватить, или нет. Для него уже было ясно, что удержать город китайским добровольцам будет сложно. В городе было относительно спокойно, так как небо было полностью под контролем советских МиГов. У всех истребителей на борту стояли опознавательные знаки войск народной армии Кореи, но всем, даже американцам, было ясно, какие пилоты управляют этим сверхсовременными машинами. Ими были советские лётчики, благодаря которым и было установлено равновесие между двумя противоборствующими системами. Михаил не задавал себе вопроса, какая из систем правильней; в ходе войны он понял одно: платить за победу в любом случае приходится жизнями простых людей. Всё это было большой игрой, и в ней он ясно различал свою первоочередную роль – быть преданным делу, и быть честным перед самим собой.
Несмотря на поддержку с воздуха, к середине марта Сеул пришлось оставить. Вместе с китайскими частями отступал и Михаил. Для него было много работы. После зимнего бегства восьмой американской армии осталось много заминированных полей. На минах гибли не только солдаты, но и беженцы. Войска коалиции, подгоняемые китайской армией, отступали хаотично, без всякого порядка, из-за чего солдаты гибли целыми ротами, оказавшись посреди этих полей. Минируя пути отступления, никто из интервентов и не думал о заполнении формуляров, о постановке в известность своих союзников, каждое соединение, относящееся к отдельному государству, и входящее в коалицию, уже не имело общего плана действия, а просто спасалось бегством, тем самым выживая под натиском китайских добровольцев.
По распоряжению Центра в течение всей весны и начала лета Михаил командовал ротой корейских сапёров, обезвреживая путь, по которому отступали войска, минируя полосу обороны и обучая бойцов этому сложному искусству. Там, где обнаруживались минные поля, оставленные неприятелем, они выставляли особые знаки, по которым ориентировалась тяжёлая гусеничная техника, приспособленная для уничтожения заминированной территории. Одновременно минировались участки, по которым могли пройти войска коалиции, включая дороги и мосты. Всё это уже не оказывало решающего значения на основной ход боевых действий, но способствовало торможению наступления противника.
Во время очередной передышки Михаил сидел в кабинете у товарища Кима. Андрей долго пересматривал его отчёт, что-то выписывал на отдельный листок, подолгу смотрел на Михаила, словно не веря в то, о чём докладывал этот молодой человек.
– О вас можно роман писать, Миша. Я искренне завидую вам. На фоне моей рутины… Но работа есть работа, и на этот раз обойдёмся без романов и пафоса. Буду ходатайствовать перед начальством о присвоении вам очередного воинского звания и награды. Вы это заслужили. Честно скажу, без колебаний приколол бы к твоей груди звезду героя, но боюсь, меня не поймут в Москве.
– Я всё понимаю, товарищ Ким. Не надо мне никаких наград.
– Всё переживаешь о Вень Яне? Ничего не поделаешь, Миша. Война есть война. В общем, так. Даю тебе на сборы два дня.
– Домой? – воскликнул Михаил, подскакивая со стула.
– Пора. Наследил ты здесь основательно. Так что, домой. Если ты не против, то приглашаю вечером ко мне, отметим твои подвиги. Может не совсем корректно с моей стороны, но хочется поговорить просто, по душам. Когда ещё свидимся.
Михаил удовлетворённо кивнул. Он почувствовал, что все эти годы именно этого, простого человеческого общения ему и не хватало, особенно после расставания с Ли Веем.
Товарищу Киму на вид было лет сорок. Он жил в охраняемой зоне, в передвижном вагончике, прямо на территории аэродрома, где было много русских лётчиков. Исходя из сложившейся ситуации, жизнь его, в прямом смысле, проходила на колёсах. С виду полноватый, в очках, в домашних условиях он выглядел немного скованным и стеснительным. На маленьком низком столике, традиционном среди корейцев, стоял радиоприёмник с настроенной советской волной, рядом лежало несколько консервов, плошка варёного риса, булка чёрного хлеба и нераспечатанная бутылка водки. Запах хлеба вызвал бурю воспоминаний, связанных с годами, прожитыми в России. Немного пригубив из гранённого стакана, Михаил сразу почувствовал неприятную горечь, его передёрнуло. Андрей улыбнулся и вздохнул, догадавшись, что водку придётся или оставить, или пить в одиночку.
О войне не говорили ни слова. Неожиданно Михаил спросил, как товарищ Ким оказался в Советском Союзе. Он и предположить не мог, что Андрей просто родился там. Но в его судьбе тоже была своя драма.
– Брось Миша драматизировать, – немного захмелев, успокаивал товарищ Ким. – У нас говорят, чему быть, того не миновать. Да, корейцам не сладко было, но когда им было сладко? Ты посмотри вокруг, что здесь творится. Мои предки не от хорошей жизни бежали в Россию, ещё до революции. Их и китайцы не жаловали, и от японцев досталось… И что теперь плакать по этому поводу. Ты же не знаешь, кем был мой отец в гражданскую. В карательном отряде, против белых воевал. В юности мне казалось, что мой отец герой, и боролся с врагами революции, но сейчас я понимаю, что это были живые люди. Понимаешь о чём я? Люди. Просто они защищали своё, а мы… да кто такие мы, они… Посмотри вокруг. Разве не тоже самое происходит в Корее? Признаться, мне бы следовало помалкивать об этом. Отца потом репрессировали, в тридцать восьмом. Ты не поверишь, наша семья в Ленинграде жила, почти в столице. Я тогда в морской академии учился, в отличниках числился. Ну и как обычно в таких случаях, – сын врага народа. Турнули из академии. Потом война, всё на свои места расставила…
– Что же тут хорошего? – удивлялся Михаил, помалкивая всё это время, и понимая, что собеседнику надо просто выговориться. Он вспомнил деда Тимофея, как тот говорил в подобных случаях – излить душу.
– Хорошего мало, ты прав, но могло быть и хуже. Весь наш курс потом практику военную проходил на подводной лодке, осваивали новую субмарину. Хорошие ребята были… – Андрей налил в оба стакана, и не чокаясь, выпил почти до дна. Михаил понял, что выпить непременно надо, того требовало обстоятельство. На его удивление водка прошла легко, словно это была вода. Товарищ Ким занюхал кусочком хлеба и передал его Михаилу. Тот долго втягивал запах, закусывать не стал. Андрей одобрительно кивнул.
– Они погибли? – спросил Михаил, как будто слова сами слетели с языка.
– Весь экипаж, и все тридцать пять человек моего курса. Если бы не этот донос на отца, то меня здесь не было бы. Так что, чему быть, того не миновать. Никогда не надо грешить на прошлое, судьбу, надо жить, и всегда оставаться человеком. Ну, за твоё возвращение домой Миша.
Он ехал домой. Впервые за долгие годы Михаил даже не задумывался где его настоящий дом, он просто возвращался туда, откуда приехал. В свою коммунальную квартиру с множеством соседей, где за входной дверью стояла гнутая вешалка, на которой висел его плащ. Где пылился его одёжный шкаф, пусть не очень новый, но полученный в день новоселья в подарок, и теперь в нём на плечиках висел и ждал его новый выходной костюм. Он столько времени мечтал выйти в этом костюме и прогуляться по набережной Амурского залива. Этот момент вот-вот должен был настать. Там, в пустой комнате оставалось зеркало, висящее на гвозде между окон, светлых и широких, куда проникал свет вечернего солнца. Он полюбил эти большие окна и это солнце. Вечером оно было особенно красным, напоминая о национальном флаге его далёкой родины. Конечно, в его жизни было ещё много неясного, много того, к чему ещё предстояло привыкнуть и сделать своим, но Михаил знал точно, что это была его жизнь, и всё ещё только начиналось.
После возвращения ему дали целый месяц отпуска. Не надо было никаких наград, не надо было званий, это было ничем в сравнении с тем, что предвещал целый месяц отпуска, а в придачу огромная сумма денег. Но на что ему всё это, если не будет главного – свободы. Глаза его разбегались при виде молодых девушек, больших легковых машин, проезжавших мимо него, всюду звучала музыка, в морской синеве пестрели, словно крылья чаек, белоснежные паруса яхт и прогулочных катеров. Он уже забыл, что жизнь может быть такой, без колючей проволоки, без снарядов и самолётов, пикирующих над головой. Его окружала обычная мирская суета. К его большому сожалению в городе не оказалось Изаму, и теперь он не знал, что делать одному со всем этим богатством. Проснувшись однажды среди ночи, он сел на кровать и открыл окно. Апрельские ночи были на удивление тёплыми, и хотя ещё не успели проклюнуться почки на деревьях, ночной воздух был наполнен той свежестью, которая сохранилась в его воспоминаниях о Японии. Сидя на кровати, и глядя в окно, где в тёмном пространстве Амурского залива проплывали огоньками корабли, он вдруг ясно ощутил жуткую тоску и одиночество. Ещё днём он, словно одержимый, носился по городу, не в состоянии скрыть от людей своего счастья, но пришла ночь, и его захлестнула нестерпимая тоска. Он не знал, почему проснулся, как будто что-то ворвалось в открытую форточку, и проникло в его сон. Быть может, это был запах тех весенних цветов, что снились ему по ночам, или это были отголоски незнакомых песен, что пели в тишине молодые девушки, гулявшие по пустым улицам, взявшись за руки. Он не знал, что его разбудило, но понимал, что просто так избавиться от нахлынувшего чувства тоски по родине он не сможет. Там, в Корее, где всё ещё шла война, он думал лишь о том, как выжить, и как победить врага, страх, самого себя. Но оказавшись под ночным мирным небом, где звучали всё ещё чужие для него песни и голоса, он ясно ощутил своё бесконечное одиночество и жгучую потребность впустить в свой мир хоть одну родственную душу. Такой душой был Ли Вей, но старик навсегда остался в корейской земле. Такой душой был и Изаму, но где, в каких далёких землях мог находится его лучший друг Михаил не знал. Неожиданно он словно увидел перед собой тёплый взгляд седого старика. Это было странным, но вместе с тем настолько ясным ощущением, что Михаил вскочил.
«Тимофей. Ты живой. Ну конечно… Как я мог забыть тебя». Михаил на ощупь открыл ящик письменного стола и достал свой крестик. Он прикоснулся к нему губами, а затем надел на шею. Какое-то время он чувствовал лёгкое раздражение на теле, его кожа привыкала, но потом всё внутри наполнилось спокойствием и теплом. Он лёг и закрыл глаза, перед ним шумело зелёное море.
Тимофей.
– Старик сидел на крылечке, опустив руки на колени, и подняв голову, скорее всего, наблюдая за облаками. Он не сразу услышал приветствие, но потом резко оглянулся, правда, в другую сторону, наконец, повернулся и увидел гостя.
– Мишка!
Тимофей произнёс это настолько воодушевлённо и открыто, что Михаил растерялся. Он улыбнулся во весь рот и прошёл через калитку навстречу деду. Старик долго не отпускал гостя, тихонько поглаживая его по плечам.
– Живой, – тихо произнёс он после долгого всматривания в глаза гостю. – Слава богу.
… – Рассказывай, как добрался? Что в жизни нового? – спросил дед Тимофей, наблюдая, как гость доедает вторую порцию добавки.
– Что рассказывать? – пожимая плечами, так же спросил Михаил, отодвигая миску с остатками ухи. – Хороша уха, правда, вкусно очень.
Дед отвернулся к окну, словно выискивая за ним что-то важное.
… – Комната у меня в городе, можно сказать, в центре. Каждый день на море смотрю, – начал Михаил, поняв, что старик не случайно отвернулся. – Красивый город.
– Владивосток-то? Ничего. Только уж больно шумный.
– С непривычки шумно кажется, а потом ничего, – подтвердил гость.
Они сидели дотемна, разговаривали, пили чай из блюдечек, вприкуску заедая сушёными дикими грушами. Забавно было смотреть, как дед Тимофей дул сквозь густые усы на уже остывший чай, и, прихлёбывая, тянул синеватыми губами; старость деда Тимофея была всё больше очевидна. Михаил вспомнил Ли Вея и ощутил насколько дороги ему эти два человека. Он поведал старику о своих планах, которых, в общем-то, и не было, просто он очень хотел побывать в родных местах. Тимофей вопросительно посмотрел на него, и утвердительно, даже важно покачал головой. – Родные места забывать не следует. Но рано или поздно человек вырастает из них.
– А потом? – спросил Михаил, точно зная, что старик не всё сказал.
– Потом? Потом он по жизни идёт.
– Но жизнь можно прожить и, не уезжая никуда.
– Правильно. Можно. Но вот ты же уехал.
– Меня насильно увезли, – разве ты не знаешь?
Дед Тимофей неслышно посмеялся. – Ты всё ещё ребёнок. Тебя жизнь захватила, как пух, и унесла туда, где ты был нужнее. А родное место отпустило, ему так надо было.
– Ты говоришь точно так же как и Ли Вей.
– Ванька-то… Этот криво не скажет.
– Нет больше Ли Вея, – с грустью произнёс Михаил.
– Кто знает… Этот всю жизнь где-то умирает, сколько его не знаю, а потом снова оживает. Могилки ты его нигде не видел. А почему такая уверенность? – Тимофей внимательно глянул Михаилу в глаза и, словно догадавшись о тайне, кивнул. – Все там будем, горевать не стоит. Помнить надо, но не печалиться. Они бы, мёртвые, не одобрили нашего горевания.
– А мертвым не всё ли равно?
– А вот тебе сейчас как? Положим, ты мертв, а по тебе рыдают и убиваются. А?
– Но я ведь живой сейчас.
– А ты, всё равно, представь.
– Я так не могу, Тимофей. Нет, правда, ты, наверное, смеёшься.
– Представь, говорю тебе. Я не шучу. Если ты сможешь это сделать, то поймёшь, каково скажем, за глаза другого порочить, или над тем же мертвецом глумиться. Будь бы он жив, понравилось бы ему?
– Но он же мёртв!
– Эко ты паря заладил. Мёртв да мёртв. Сказал, представь. Напряги воображение. Или нет его у тебя? Ладно, будет, – старик махнул рукой и полез на печку.
– Завтра разбужу рано, о планах ты ничего не сказал, значит, будешь под моим командованием. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, – пробурчал Михаил, всё же пытаясь представить себя в роли покойника. Ночью ему снился сон, будто он видит, как сам же копает яму, но не для могилы. Рядом лежат саженцы, и он хочет их посадить. Вокруг прозрачное небо, жёлтая листва перед глазами и три тонких саженца.
Проснувшись рано и не забыв ещё содержания сна, он сразу спросил у Тимофея, что это могло означать.
– Саженцы это наши дети, – не задумываясь, ответил старик, укладывая короб.
– Мы пойдём так далеко? – спросил Михаил, заглядывая в глубину большого липового короба.
– Нет так, чтобы далеко, но и не близко, – многозначительно ответил старик, улыбаясь глазами. Тёплый взгляд старика был настолько трогательным, что Михаил всякий раз чувствовал, что внутри что-то тает, словно снег. – Собирайся. Перекусим, как следует, и в дорогу. Зимовьё будем строить в тайге. Хорошо бы управиться зараз.
Новость и ошеломила и обрадовала. Михаил, словно маленький ребёнок, бегал вокруг старика, помогая укладывать инструменты. На самом деле, он только мешал, но Тимофей это сносил и лишь улыбался.
– Эх, Белочки нет с нами. А как бы весело с ней было.
– Прости Тимофей, я как-то не обратил внимания. Что с ней стало? – спросил Михаил, наконец-то обратив внимание на пустую будку.
– Пропала. Съели нашу Белку. Китайцы съели.
– Кто? – будто не понял Михаил, открывая от удивления рот.
– А то ты не слышал. Всё, в путь. Придём на место, расскажу.
Он взвалил на гостя набитый доверху короб, сам закинул себе за плечо дробовик и котомку, впереди была знакомая, едва заметная глазу тропа. Пройдя по ней сотню метров, Михаил понял, что последний год старик мало ходил в лес, и скорее всего не охотился.
– Время берёт своё, – словно угадывая мысли попутчика, говорил Тимофей, забегая взглядом далеко вперёд. Охота не главное, что зовет человека в лес. – Старик намеренно молчал, выжидая, когда его спросят, почему так, а не иначе.
– А что должно тянуть в тайгу?
Дед Тимофей удовлетворённо кивнул. Ему явно хотелось поделиться своими мыслями, и, наверное, всё то время, пока Михаила не было, он ждал этого момента. – Человек живёт не едой. Конечно, без неё не прожить, но не она главное.
– Путешествие, – нашёлся Михаил, вспоминая разговоры с Ли Веем.
– Молодец. Одобряю. Но это не то слово. Путешествие, это праздное занятие. В этом есть часть здорового любопытства. Но человек постигает путь, совершая всякий раз подвиги.
– Быть героем?
– Герой тут не причём. Герой это ярость, истовость. Человек же свет несёт, и идёт он по жизни к нему, к свету. Причём тут геройство? Нет, паря, героем быть не трудно, тем более что его создают другие. А ты сам? Куда идёшь, для чего? Задавал такой вопрос себе?
– Мы идём строить зимовьё.
– Это верно. А ну-ка, погодь.
Они уже успели прошагать около часа, держась некрутого косогора, и поднявшись на его вершину, старик остановился. Он пригнул своё высокое тело, словно хотел спрятаться. – Скажи, видишь чего, али мне показалось. Впереди, вон у той берёзины.
– Что-то есть. Не пойму.
– Вот и я не пойму. Зрение совсем никчёмное стало.
Они прошли старую деляну и оказались перед огромным пнём, лежащим посреди неглубокой утоптанной тропы. Дальше начинался распадок, уходящий в высокие кручи, было очень свежо, и хоть светило майское солнце, в набитой зверем тропе ещё лежал старый крупнозернистый снег.
…– Так-то паря, не зевай.
Подойдя ближе, они увидели, что на пне брюхом книзу, лежал нанизанный на сук дикий кабан. От мёртвого животного уже тянуло спёртым духом, вокруг летало и ползало множество насекомых.
– Ход у них в этом месте, видишь тропу ихню. Здесь они переходят в тот ряж, а колоду лень обходить, они её и перепрыгивали. Она от лесорубов ещё осталась, видать не осилили, да и в какую пилораму она влезет. Кедр-то не гниёт долго. И вишь, что удумали? У кого-то голова сообразила в ствол рогатину врезать. Кабан бежит и по привычке сигает через кедрину, а лезвия не видит. Так себе брюхо и распорол. Может, и не первый.
– Кто же это смог такое сделать, – дед Тимофей?
– Кто, кто? Пихто. Китайцы.
– И ничего нельзя сделать? Наказать.
– Не пойман не вор. Хотя, в лесу ничего не скроешь. Ладно, пошли отсюда. Пусть жрут свою тухлятину. Они с душком любят.
– Ты, наверное, шутишь?
– Какие тут шутки. Да шучу, конечно. У них этих тычек по тайге полно. Поставили и забыли. А от кабана им струя нужна, шкура на обувь, ну и желчь, да и копыта сгодятся. Мяса-то им хватает. Медведя они шибко любят, особливо лапы.
Они искали место для привала, солнце уже светило вовсю силу, растапливая крутые и глубокие распадки, всюду журчала талая вода, шумели на слияниях мощные потоки таёжных речек. Тайга открывалась Михаилу своим новым незнакомым лицом. Весна будоражила его, пробуждая спящую до этого дня силу созидания и любви ко всему живому. Он с восторгом смотрел вперёд, провожая уходящие в бесконечное пространство изумрудные сопки. Тайга шумела и дарила ему незнакомое, но желанное чувство свободы и радости. Всюду цвёл багульник, от него голова шла кругом. Увидав розовые склоны сопок, Михаил вспомнил сакуру. Первые минуты он даже не мог идти, настолько сильно захлестнуло его чувство щемящей грусти.
– Хорошо, – подтвердил старик, обходя заросли, задирая высоко ноги оттого, что они глубоко проваливались в мягкий мох, среди которого рос багульник. – Ты паря долго не стой рядом с этим растением. Оно хоть и красиво, да ядовито. Дурман это.
Вскоре они окончательно остановились. Когда Михаил скинул с плеч короб, ему на мгновение показалось, что он оторвался от земли, но это было обманчивое чувство. Земля по-прежнему держала его, но, несмотря на пройденные километры, ему хотелось бегать, словно он был маленьким ребёнком.
– А ты разбегись и оттолкнись, – предложил, улыбаясь, старик, бросая на землю свою котомку. Он также находился в состоянии лёгкости, и пробовал на упругость ноги. – Прыгни с камней тех, – предложил дед Тимофей.
– Я всё не пойму, где ты шутишь, а где говоришь серьёзно, – обиделся Михаил, уже возвращая себе привычную тяжесть.
– Это не шутка, это и не серьёзно. Всё в твоей башке. Как решишь, так и будет.
– Но я упаду.
– Может, и упадёшь, – спокойно рассуждал старик, осматривая местность хозяйским взглядом. – А, может, и полетишь. Тебя сейчас твой страх держит, и привычка, и не потому, что летать страшно, а потому, что не пришьёшь его ни к чему. Это как кобыле крылья. Ладно, давай делом займёмся. Ты разбирай инструмент, а я пробегусь, травки зелёной надёргаю, видел внизу у ручья лук дикий, в похлёбку самое оно.
Место, выбранное дедом Тимофеем, было скрыто от ветров склоном сопки, но с хорошим видом на утреннее солнце. Невдалеке в низине среди камней журчал ручей, где рос лук, за которым направился старик. Он сказал, что вода в этом ручье обладает силой, и сколько бы её не выпить даже ледяной; никогда не заболит горло. На вопрос, почему, он ответил, что с дуру, конечно, можно и захлебнуться, но что касается причины силы воды, то вся она в высоте, а точнее глубине. Забрались они действительно высоко, а, по словам Тимофея, все ручьи, выходящие из вершин, выдавливает из большой многокилометровой глубины, откуда они и набираются этой силы. Его познания природы всякий раз удивляли Михаила. Живя среди леса, старик вовсе не выглядел дремучим и угрюмым, ум его был подвижным, а знания самыми разносторонними. На вопрос, откуда они у него, дед Тимофей махнул рукой, сказав, что от всех понемногу. Это, разумеется, было лукавством. И речь, и осанка, и подход к любому делу выдавали в нём человека образованного, что в настоящей жизни приходилось тщательно скрывать.
Поужинав привычной лёгкой похлёбкой, они устроились у костра, заложив огонь кедровыми пнями, оставшимися после рубки; всюду, по-прежнему, были заметны следы старых делян. Теперь вокруг поднялся молодой лес, но, по словам старика, такое обновление происходило всегда. Лес вырастал, потом исчезал, и так повторялось тысячи лет и, наверное, больше. Колоды медленно разгорались, на поляне становилось всё теплей и теплей. Наконец, старик сбросил с себя одежду, и при свете костра Михаил снова увидел на его спине длинные рубцы.
– Это всё в прошлом, Миша, – непринуждённо произнёс Тимофей, поймав на себе взгляд. – В тот раз я тебе ничего не сказал, а теперь расскажу, потому что ты изменился. Теперь можно. Самураи это постарались. Один офицер японский приложил руку. Видать, неплохой рубака был, что так точно провёл. Мог же и кости задеть. А не задел. Но шрамы долго заживали, больше года. Что молчишь?
– А что говорить? Ты же сам сказал, всё в прошлом.
Старик нехотя кивнул:
– Так-то оно так. И сделано, и пережито, а в памяти всё равно хранится. А носить это, знаешь, в себе каково, как пощёчину, что на людях получил. Когда жалость к себе гложет и разъедает. Нужно время, или разговор душевный, иначе так и завязнет в глубине души боль.
Старик долго рассказывал о своей молодости, и о том, как перебрался с женой в Порт Артур, куда потом пришли японцы.
– Долго я держал в сердце ненависть, и не за эти шрамы, не за себя, но со временем и рубцы зарастают, и душа успокаивается.
– Вспоминаешь?
– Анну-то? А как же. Каждый день вижу её молодой.
– Прости меня, дед Тимофей.
– Это за что же? Ты брось на себя всю вину тянуть. Этак ещё один спаситель по земле пойдёт, а пока рано. Что было, то было. Прощать тебя не за что. Это тебе спасибо, что слушаешь меня, выговориться даёшь. А от молчания камень только родится. Оно хоть и тяжело, но не смертельно.
Без прелюдий старик улёгся на прогретое место, которое до этого отгрёб от углей, с таким расчётом, что искры летели от него, и укрывшись шинелкой, вскоре засопел.
Михаил ещё долго видел перед собой образ красивой русской женщины. Не зная, как она выглядела на самом деле, но почему-то ясно видел её черты. Спокойная стройная женщина с гладкой кожей лица, с выступающими линиями скул, яркими длинными бровями, почему-то тёмными. Потом он понял, что видел перед собой лицо Ядвиги, любовь к которой по-прежнему хранилась в глубине его сердца. Он понял, что ничего не уходит из человека, если хоть раз соприкоснулось с его душой. Оно лишь прячется в глубину, но продолжает греть и освещать. «Спасибо тебе, Ядвига. И тебе, дед Тимофей». Глаза медленно закрывались, открывая ему бесконечную вселенную, в которой он ясно видел яркую точку их костра и себя вместе с дедом.
Они поднялись рано, было свежо, костёр давно погас, но среди обгорелых смоляных чураков ещё прятался жар. Напившись воды, они первым делом поставили на огонь котелок. Ещё вечером деду Тимофею удалось стянуть с куста петлёй двух рябчиков. Старик назвал их каменными за то, что они не боялись и сидели до последнего, пока им на голову не накинули петлю. – Святая птица, божий подарок тому, кто в тайге потерялся. Бери её только в крайнем случае, – учил Тимофей.– Мы свою норму уже выбрали.