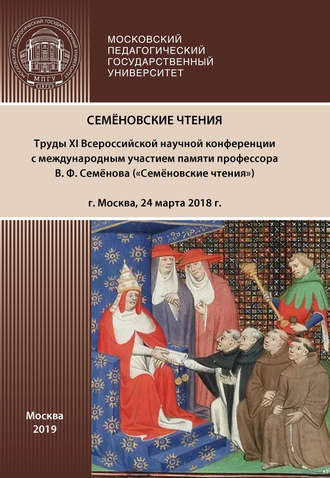 полная версия
полная версияСемёновские чтения
Annotation: The economic crisis in Norway in the second half of the 13th -first half of the 14th centuries was a procreationt of not only internal but also external factors, the main of which were the relationship of the Norwegian authorities with the Hanseatic cities. The policy of the official Norwegian authorities in the international inside the country towards foreign merchants led to a "closure" of the country's domestic market, transformation of Norway into a raw material appendage of the Hanseatic League and a reduction of trade links within the country, that significantly reduced the production capacity of agriculture that became dependent on German merchants.
Key words: Norway, England, Hansa, Middle Ages, trade, economic crisis of XIV century.
Одной из ключевых проблем истории Норвегии т. н. периода «высокого Средневековья» (høymiddelalder) является изучение факторов, которые привели к формированию экономического кризиса во второй половине XIII – первой половине XIV столетий. Если в историографии вплоть до начала 80-х гг. XX в. господствующей была точка зрения, что данный кризис был следствием эпидемии чумы середины XIV в., то дальнейшие исследования показали, что снижение темпов экономического роста, сокращение численности населения, забрасывание хозяйств, снижение объемов производства являются взаимосвязанными, самостоятельными явлениями общественной и экономической жизни средневекового норвежского общества [9, s. 216– 217, 273–275, 347–350, 410–414].
Главной причиной кризиса явились последствия развития производительных сил, эволюция форм собственности на землю и специфические рентные отношения. Кризис сформировался, прежде всего, в аграрном секторе, являвшемся основой хозяйства. Его последствия были серьезно отягощены эпидемией «черной смерти», пришедшей в Норвегию летом 1349 г. Освещение этой проблемы в сравнительном аспекте позволяет приблизиться к пониманию специфики ведения хозяйства в регионе и характеристике общественного уклада норвежского средневекового социума.
Отдельного рассмотрения заслуживают внешние факторы складывания экономического кризиса в условиях втягивания Норвегии в систему балтийской и североморской торговли, в которой важнейшую роль в изучаемый период начинает играть Вендская Ганза. В центре внимания, помимо сугубо экономических предпосылок, способствовавших развитию кризисных явлений, оказываются действия официальных норвежских властей на международной арене и внутри страны в отношении иностранных негоциантов, приведшие к «замыканию» внутреннего рынка страны, преданию норвежской экономике сугубо экспортного характера при сворачивании всегда характерной для нее активной внутрирегиональной торговли, попавшей в зависимость от иностранных купцов и, прежде всего, Ганзы.
Нарастающее присутствие немцев и постепенное вытеснение ими прочих иностранных негоциантов из Норвегии отмечается уже с 30-х гг. XIII в. Главный нарративный памятник по истории Норвегии первой половины XIII в. – «Сага о Хаконе Старом» сообщает, что норвежские купцы подвергались нападениям со стороны датчан и любекцев, и в 1247 г. лишь заступничеством находившегося тогда в Норвегии папского легата кардинала-епископа Сабины Вильгельма Моденского (1244–1251 гг.) все арестованные норвежским королем Хаконом IV (1217–1263 гг.) купцы из Дании, Страны вендов и Германии были освобождены, а их имущество им возвращено [3, s. 144]. В 1250 г. король даровал купцам из Любека первые привилегии, что положило начало официальным отношениям Норвегии с этим городом [12, s. 92– 94; 4, s. 197]. Договор был заключен на паритетных началах: он оговаривал обоюдную защиту товаров согласно береговому праву и предоставлял норвежским и любекским купцам свободу торговли на территориях друг друга [3, s. 154–155].
В это же время росла зависимость Норвегии от поставок зерна из заэльбских земель в условиях сокращения ввоза хлеба из Англии [11, bd. II, s. 112–113]. Сами норвежцы недолго оставались полноправными партнерами: к началу XIV в. немецкие купцы полностью вытесняют скандинавов, держа их на вторых, а то и на третьих, ролях [15, с. 164–167]. Немцы быстро взяли в свои руки товарные потоки, шедшие в Норвежское королевство из Англии, которая до середины XIII в. оставалась главным внешнеторговым партнером скандинавов.
В общих чертах ганзейскую торговлю в Норвегии можно охарактеризовать следующим образом. Поначалу она носила сезонный характер и происходила преимущественно летом. Но уже во второй половине XIII в. немецкие купцы стали регулярно зимовать в норвежских городах, что делало их присутствие там постоянным, а торговые связи более прочными. Кроме того, при покупке и аренде немцами недвижимости в норвежских городах возникала правовая коллизия. De-jure немцы оставались в юрисдикции властей своих родных городов. А в качестве норвежских домовладельцев (husfastemænn) они, согласно «Городскому закону» (Bylov), были обязаны уплачивать общегосударственный налог (leiðangr) [11, bd. II, s. 202–203], участвовать в городской страже и дозорах [11, bd. II, s. 201–202], а также нести общественную повинность, которая заключалась в том, что жители городов должны были вытаскивать на берег корабли (skipadrott) для их дальнейшего хранения на берегу [11, bd. II, s. 250–252]. Фактически ганзейцы становились подданными норвежской короны, чему они были вовсе не рады, стремясь освободиться от обязанностей, вытекающих из этого обстоятельства, что, разумеется, шло вразрез с интересами местных властей [5, s. 336– 349]. Таким образом, объем ганзейских привилегий и подсудность немцев норвежским должностным лицам стали главным камнем преткновения во взаимоотношениях между Норвегией и Ганзой. Это и отразилось в решениях, касающихся купцов из конкретного ганзейского города.
Рост претензий ганзейцев и усиление их торговой экспансии, которая распространялась не только на городские, но также и на внутренние норвежские рынки, при отказе от подчинения местным официалам и от законных выплат в пользу казны, требовали реакции королевской власти. В целом отношение короны к такому поведению ганзейцев было весьма негибким и непоследовательным. В ответ на требования расширить торговые привилегии немцев и законодательно закрепить их присутствие на локальных рынках королевская власть попросту изгоняла их из страны. А возвращая иноземных негоциантов назад, корона давала ганзейцам такие привилегии, которые более походили на капитуляцию перед зарвавшимися дельцами. Так, роль цехов в Норвегии выполняли конторы и представительства немецких и английских купцов. Горожане-иностранцы, отказавшиеся перейти в подданство норвежского государя, освобождались от общественных повинностей (1278 г.) [1, bd. V, s. 10–12], что обособляло их внутри норвежского города, приводило к столкновениям с местным населением, роптавшим на растущие привилегии иностранцев.
Одновременно это порождало коррупцию среди местных органов власти. Они закрывали глаза на поведение ганзейцев в их регионе, что приводило к возникновению неконтролируемого «черного рынка», когда сделки заключались напрямую в обход всяких торговых регламентов, что было выгодно и немцам, и норвежским бондам, не уплачивавшим ни вступного сбора за право торговать на регулярном торгу, ни прочих пошлин (например, постоянно возраставшей минимальной ставки капитала, которая позволяла отправляться в торговую поездку [11, bd. II, s. 163–164]), полагавшихся казне. Корона также путем наказаний и конфискаций пыталась бороться с подобной ситуацией, но результатом таких акций становилось объявление Ганзой регулярных торговых бойкотов Норвегии (1283–1285, 1292–1294 гг.).
Снятие этих бойкотов оформлялось очередными привилегиями ганзейцам, которые корона стремилась купировать в процессе переговоров, чтобы гарантировать часть рынка местным уроженцам. Так, немцам не раз запрещалось заключать сделки с бондами на стихийных торжищах за пределами городов. Но та частота, с которой повторялся этот запрет, показывает, что фактически он не действовал. Неуклюжая политика временщиков в отношении Ганзы в годы царствования безвольного короля Эйрика II (1280–1299 гг.) привела к законодательному запрету на создание в норвежских городах ремесленных цехов и торговых корпораций, что совершалось наряду с дарованием новых привилегий в пользу ганзейцев (1294 г.). Мотивом для этого служило то, что ремесленники были в основном иноземцами и их организации рассматривались в качестве агентов иностранного влияния. Подобные меры мешали корпоративному сплочению норвежского купечества и ремесленников, замедляли их профессиональную специализацию, а также развитие товарного производства в городах и в сельской местности.
В подобных условиях главными торговыми контрагентами иностранцев внутри Норвегии оставались королевская власть, церковь и аристократия: напрямую или же в лице своих уполномоченных. Они действовали исключительно в собственных узких интересах, что только усугубляло кризис норвежской торговли. Аккумулируя в своих руках большие денежные средства, а также дорогостоящие экспортные товары, они завышали цены на них, снижая при этом продажную стоимость импортных товаров. Кроме того, корона пользовалась исключительной привилегией предпочтительной покупки любого товара, ввезенного в Норвегию [11, bd. II, s. 155, 252], которой лишь изредка делилась с двумя другими участниками рынка.
Ганзейцы умело использовали сложившийся дисбаланс, постоянно отслеживая колебание цен, ситуацию на рынке и объем поставляемого импорта [2; 6; 7, s. 245–265; 8, s. 7–34; 13, s. 203–228]. Норвегия была наводнена ганзейскими агентами, скупавшими дорогостоящие и скоропортящиеся товары, перепродавая их, а взамен пуская на внутренний рынок импорты, распродавая их небольшими партиями по завышенным ценам, широко используя нелегальные формы торговли. Например, благодаря хорошей организации сбыта ганзейцы смогли регулировать поставки соленой рыбы – главной статьи норвежской внешней торговли – перекупая товар прямо в море на кораблях и направляя его в нужные пункты [11, bd. II, s. 250]. Корона законодательно требовала оформления торговых сделок [11, bd. II, s. 157], чтобы иметь возможность собирать полагавшиеся ей налоги, обладая документальным подтверждением самого факта заключения контракта. Но судя по весьма малому числу сохранившихся актов, их оформлявших, нелегальные формы торговли цвели пышным цветом.
Тем самым центральная власть утрачивала возможность формировать товарные потоки и контролировать доходы от торговли главными норвежскими экспортными товарами, привыкнув сначала сосредотачивать их на стационарных базах и складах, и лишь затем начинать торговлю ими. Мобильная ганзейская тактика, напротив, позволяла не только присвоить эти огромные ценности, снизить издержки, но также использовать норвежское купечество в качестве младших партнеров, не допуская его значительного усиления и привлекая норвежцев, имевших право торговать в сельской местности, одновременно в качестве своих агентов вдобавок к тем, что имелись в ганзейских конторах, располагавшихся в каждом крупном норвежском городе.
Попытки восстановить прежние отношения, например, с той же Англией, также стремившейся найти способы давления на Любек через Священную Римскую империю, а также через герцогство Саксонское [1, bd. XIX, s. 217–218, 220–222], Норвегия предпринимала [1, bd. XIX, s. 219–220]. В данных условиях дополнительный маневр мог быть обеспечен лишь за счет присутствия на норвежских рынках других иностранных купцов на паритетных началах с местными и прежде всего немецкими негоциантами. Но промахи во внешней политике стали причиной недоверия, которое росло в отношении Норвегии со стороны других ее соседей и возможных внешнеторговых партнеров.
Так, Регентский совет (королева-мать Ингеборг, канцлер Бьярни сын Эрлинга, барон Аудун сын Хюглейка) при малолетнем Эйрике II, стараясь направить доходы от торговли в казну, лишил ганзейцев прежних привилегий, ввел новые пошлины (1282 г. ) [11, bd. III, s. 12– 16], что, как уже говорилось, привело к торговой блокаде страны, окончательно попавшей в зависимость от внешних поставок. Третейский суд во главе с королем Швеции Магнусом Амбарный Замóк решил дело в пользу Ганзы (1285 г.), возвращавшей свои права в Норвегии, от которой немцы получали также и контрибуцию; Берген становился членом Ганзы [1, bd. XXIII, s. 1–3]. Затем вдовствующая королева Ингеборг втянула страну в войну за причитавшиеся ей как дочери датского короля Эрика V (ум. 1286 г.) лены на ее родине (1286– 1287 гг.) [1, bd. IV, s. 7–8], чем спровоцировала заключение антинорвежского союза Дании со Швецией [1, bd. III, s. 23–24; bd. V, s. 14–15]. Целью последнего было не допустить проникновения на Балтику еще одного конкурента. Доброго реноме не добавила норвежской внешней политике и авантюра Аудуна сына Хюглейка, который в 1295 г. в обмен на огромную сумму денег пообещал королю Франции Филиппу IV для войны с Англией большой флот и войска́, которыми Норвегия на самом деле не располагала [1, bd. XI, s. 6–7; bd. XIX, s. 436–448].
Перемена проанглийского курса внешней политики Норвегии, заигрывавшей одновременно с постоянными оппонентами англичан – Францией и Шотландией – и необязательность агентов норвежской короны в Англии привели к конфликту между двумя странами (1310– 1315 гг.) [1, bd. XIX, s. 578–582, 587–591, 593–594, 603–604, 605–618]. В итоге правительство Эдуарда II запретило пребывание норвежских судов в английских портах, что на долгое время положило конец англо-норвежским официальным контактам [10, s. 7–254]. Единственное послабление было сделано норвежской церкви: торговые агенты архиепископа Нидаросского Эйлива допускались в Англию при условии не торговать с шотландцами [14, bd. III, s. 292].
В период между заключением двусторонних договоров между Норвегией и отдельными ганзейскими городами в 1294–1296 гг. до начала эпидемии чумы в 1349 г. норвежские власти издали целый ряд т.н. «улучшений права», вводящих новые правила торговли для иностранных купцов. Их рассмотрение помогает увидеть, какие именно препоны на протяжении двух десятков лет вырастали перед иноземцами, заставляя их обходить запреты, казавшиеся им незаконными, вступать в конфликты с местными властями и церковью и в результате просить местные власти придерживаться ранее установленных правил. Объединяет эти постановления то, что они обращены не непосредственно к негоциантам, а к чиновникам на местах. Таким образом, королевская власть уходила от официальных контактов с иностранными купцами, хотя принимаемые решения касались непосредственно их.
Королевские указы обязывали иностранных купцов пломбировать все свои товары у местных властей (за что, естественно взималась плата), выплачивать лейданг (общегосударственный налог с имущества), а также пошлину за выход в море на ловлю рыбы. Штраф за выход на путину без разрешения местного чиновника наказывался самым высоким из предусмотренных законом штрафов [11, bd. III, s. 55– 56]. Отдельные постановления вступали в противоречие с двусторонними договорами, существенно ограничивая ассортимент, разрешенный к свободной купле-продаже. Кроме того, вовсе запрещалась торговля с кораблей, а также вывоз из страны масла и сала, если только они не обменивались на муку (зерно). Цены преференциальных закупок лично для короля в отношении половины иноземных купцов снижались на треть. В то же самое время вводились дополнительные акцизы на экспортируемые из Норвегии отдельные товары, а любой неопломбированный местными властями товар изымался в пользу короля с дополнительной уплатой максимального штрафа. Неуплата пошлин также грозила иноземному негоцианту конфискацией всего имущества [11, bd. III, s. 118–120]. Причем к заключению контрактов допускались лишь специально приглашенные негоцианты, а закупки должны были совершаться в конкретно отведенные сроки. Лишь на этот срок горожане имели право сдавать иностранцам в аренду постройки, в противном случае они, как и товары иностранных купцов, конфисковались в пользу короля [11, bd. III, s. 122–128].
Заключение шведско-норвежской унии (1319–1355 гг.), повлекшие перестановки в государственном управлении не дали ганзейцам воспользоваться гарантиями, даваемыми норвежскими властями тут же наряду с введением ограничительных мер, в том объеме, на который они, вероятно, рассчитывали. Напротив, правящие элиты скандинавских королевств и сама королевская власть отличались завидным непостоянством в отношении немецких негоциантов. Периодическое дарование привилегий доказывает, что королевская власть, признавая реальную зависимость внешней торговли Норвегии от Ганзы, не считала себя обязанной четко придерживаться в отношении немцев тех уступок, на которые она сама неоднократно шла [1, bd. VII, s. 151–153]. Ганзейцы по-прежнему стремились укрывать налоговые выплаты, в частности, торговую пошлину, которую провинциальные казначеи норвежского государя требовали в качестве вступного платежа (т. н. «вендская пошлина») за право торговать на легальных норвежских рынках [1, bd. I, s. 212]. Документ от 9 сентября 1343 г. возобновлял привилегии ганзейцев относительно уплаты торговой пошлины в Норвегии, полученные ими еще в царствование Эйрика II [1, bd. VIII, s. 156–157]. Об этом королю Магнусу Эрикссону еще раз напомнили три года спустя [1, bd. V, s. 146].
Список использованных источников и литературы1. Diplomatarium Norvegicum/ Utg. Chr. C. A. Lange. C. R. Unger, H. J. Huitfeldt-Kaas, G. Storm, A. Bugge, Chr. Brinchmann, O. Kolsrud, H. Magerøy, F. L. Næshagen, T. Ulset. Christiania, Kristiania, Oslo, 1847–2011. 23 bd.
2. Gullbekk S. H. Pengevesenets fremvekst og fall i Norge i middelalderen. København, 2009.
3. Hákonar saga Hákonarsonar: etter Sth. 8 fol., AM 325 VIII, 4o og AM 304 4o / Utg. M. Mundt. Oslo: Forlagsentralen, 1977.
4. Helle K. Under kirke og kongemakt: 1130–1350 (Aschehougs Norgeshistorie. Bd. 3). Oslo, 1995.
5. Hellerud S. V. Bysamfunn og kongemakt i seinmiddelalderen // Norsk Historisk Tidskrift, 1997. Bd. 76. S. 336–349.
6. Lunden K. Korn og kaup. Studiar over prisar og jordbruk på Vestlandet i mellomalderen. Oslo, 1978.
7. Lunden K. Money Economy in Medieval Norway // Scandinavian Journal of History, 1999. Vol. 24. P. 245–265.
8. Lunden K. Mynt, andre pengar og politisk-økonomisk system i mellomalderen // Norsk Historisk Tidskrift, 2007. Bd. 86. S. 7–34.
9. Myhre B., Øye I. Norges landbrukshistorie. Bd. I. Oslo, 2002.
10. Nedkvitne A. Handelssjøfarten mellom Norge og England i høymiddelalderen // Sjøfartshistorisk årbok 1976. Bergen, 1977.
11. Norges gamle Love indtil 1387 / Utg. R. Keyser, P. A. Munch. Christiania, 1848. Bd. II.; 1849. Bd. III.
12. Norske middelalder documenter / Utg. S. Bagge, K. Helle, S. H. Smedsdal. Bergen, Oslo, 1973.
13. Pettersen G. I. Handel og priser i Norge i middelalderen // Collegium Medievale, 2000. Bd. 13. S. 203–228.
14. Regesta Norvegica / Utg. E. Gunnes, N. Bjørgo, S. Bagge, A. Nedkvitne, H. Kjellberg, G. I. Pettersen, K. Sprauten, A.-M. Hamre. Oslo, 1978–2015. 10 bd.
15. История Норвегии. / Отв. ред. А. С. Кан. М., 1980.
Исследование подготовлено в рамках проекта «Комплексное исследование коллекции западноевропейских средневековых рукописей в Томском государственном университете», поддержанного Российским научным фондом (соглашение № 17-78-20011) между Российским научным фондом и Новосибирским государственным университетом.
Судьба малого города Северной Италии в политических конфликтах XIII века
Канаев А.Г.кандидат исторических наук, доцент Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. АстафьеваАннотация: Средневековые малые города нередко оказывались втянутыми в различные политические и военные конфликты, определявшие дальнейшую судьбу этих поселений. В статье прослеживается судьба малого города Форново, ставшего жертвой политической борьбы в Северной Италии в XIII в.
Ключевые слова : средние века, Северная Италия, малый город, политическая борьба.
Annotation: Medieval small towns often participated in various political and military conflicts, determined future destiny of these settlements. In the paper autor describes the fate of the small town Fornovo which became the victim of political struggle in Northern Italy in the XIII century.
Key words: Middle Ages, Northern Italy, small town, political struggle
Северная Италия в XIII в. представляла собой арену, на которой происходила борьба различных политических сил как внутреннего, так и внешнего по отношению к этому региону происхождения. Участниками ожесточенных конфликтов были сами североитальянские города и представители итальянской знати, а также постоянно вмешивавшиеся и осложнявшие политическую ситуацию в регионе папство и империя. Но если основные перипетии этих конфликтов и их результаты для основных участников достаточно изучены, то судьбы отдельных небольших поселений значительно реже оказывались в поле внимания исследователей.
Попытаемся на основе сохранившихся и опубликованных документов на примере одного малого города Кремонской округи – Форново – проследить, какую роль играли такого рода поселения в политических отношениях, а самое главное – каковы были последствия политических событий и конфликтов для их дальнейшего развития.
Поселение Форново часто встречается в кремонских документах, начиная с IX в. Что касается рассматриваемого периода, то к 1218 г. относится документ, в котором Форново упоминается в связи с его ближайшим соседом – коммуной Караваджо. В документе говорится, что Роглерий де Юдисцибус, капеллан кремонского епископа Гомобона, от его имени «на общем собрании, созванном через скороходов и колокольный звон» (in publica contione coadunata per correrios et campanas) разрешает жителей Караваджо от церковного отлучения, «под которым они были за вред, нанесенный местности и территории Форново» [1, p. 233; 2, с. 269–270]. К сожалению, в документе не говорится, какой именно ущерб был причинен Форново, но ясно, что речь идет о нападении. Не можем мы узнать и точной даты, когда Форново подвергся нападению со стороны соседнего поселения, и его побудительных мотивов, но очевидно, что произошло оно раньше, чем был составлен этот документ. Эти два местечка были очень близко расположены друг от друга – расстояние между ними составляло не более 5 км, и, возможно, причиной таких событий послужили противоречия между жителями коммун, соперничавших в распространении влияния на ближайшую деревенскую округу. Так или иначе, но столкновение интересов двух поселений, вылившееся в прямое нападение, явилось, как мы увидим, звеном в целой цепи событий, результат которых был для Форново неутешительным. С точки же зрения политических взаимоотношений перед нами иной вариант соперничества и борьбы – между самими поселениями, то есть борьбы междоусобной, внутренней.
Буквально через 9 лет после снятия отлучения с жителей Караваджо из-за их враждебных действий по отношению к Форново в кремонских актах вновь появляются отголоски печальных для этого городка событий. В 1227 г. в Милане кремонские послы Генрих Адвокатус и Анзелерио Ольдоини предъявили официальный протест миланскому подеста и совету города по поводу того, что миланские вооруженные отряды во главе с Видоном де Пресвитеро и Пативольдом де Пативольдо напали на местность Форново (in terra et loco Fornouo) и учинили там «грабеж и другие злодеяния», причинив большой вред местности и проживающим там людям. Причем, по словам послов, миланцы не только угоняли скот (быков, коров и лошадей), но жестоко избили и ранили двоих людей и даже «младенцев выбрасывали из колыбелей». Послы потребовали возмещения ущерба, на что совет и подеста Милана согласились и постановили создать комиссию для «справедливого разбора дела», в которую должны были войти двое миланских «мудрых мужей» и двое кремонцев [1, p. 258].
Как известно, Кремона в начале XIII в. традиционно придерживалась гибеллинской позиции, и ее помощь Фридриху II, тогда еще королю, вызвала войну между ней и Миланом. Несколько лет продолжались столкновения между ломбардскими городами (с одной стороны – Кремона, Парма, Реджо, Модена, с другой – Милан, Пьяченца, Комо, Лоди, Павия), пока за дело мира и всеобщего согласия не взялся такой искусный политик, как кардинал остийский Уголино (с 1227 г. – папа Григорий IX).
Но, судя по приведенному выше документу, заключение официального мира не мешало миланским рыцарям совершать набеги на кремонские земли, при этом, естественно, больше всего страдали пограничные поселения, в данном случае – Форново.
Через 3 года Форново вновь появляется в документах, на этот раз – в связи со строительством там замка, который начали строить некие графы Камиксано. Из более ранних документов известно, что Камиксано являлись знатным феодальным родом, имевшим земельные владения не только в кремонской области. Впервые имя графов Камиксано встречается в документе, датированном 1184 г. [1, p. 160]. Из него и последующих документов мы можем определить, что большая часть земель графов Камиксано располагалась вокруг Кремы, то есть в Кремонской округе. Необходимо отметить, что острота ситуации состояла в том, что в период гвельфско-гибеллинских войн второй половины XII в. Крема традиционно поддерживала Милан, в котором она видела защитника от постоянных претензий со стороны Кремоны.









