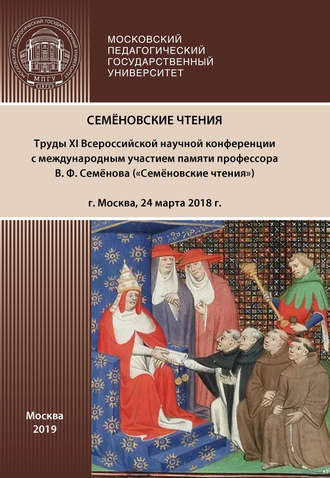 полная версия
полная версияСемёновские чтения
Возможно, именно этими обстоятельствами объясняется тот факт, что в документе, относящемся к 1235 г., графы Камиксано названы горожанами Милана [2, с. 73–74]. Можно предположить также, что если первоначально эта семья владела землями в самой в Креме и ее ближайшей округе, то в «смутное время» подчинения Кремы и ее владений Кремоне, то есть в начале XIII в., графы могли разными способами, в том числе и прямым захватом, распространить свое влияние на земельные владения непосредственно в кремонском дистрикте, в частности в Форново.
Сведения о том, что графы Камиксано строят в этом самом Форново замок, обнаруживаются в жалобе, которую кремонский епископ Гомобон подает в 1230 г. папе Григорию IX (1227–1241 гг.) и императору Фридриху II. В ней заявлено, что графы незаконно строят замок в Форново на территории, принадлежащей кремонской епископии. Возникает вопрос, почему епископ обратился с жалобой не только к папе главе как церковной корпорации, но и к императору? Скорее всего, существуют две причины. Во-первых, Кремона не вошла во вторую Ломбардскую лигу, созданную в 1226 г. и действовавшую против императора. Она долгое время продолжала считаться верной сторонницей гибеллинской партии. Во-вторых, этот период итальянской истории характеризуется попыткой соглашения между императорами и папами, и обращение к тому и другому могло оказаться действенней, чем к кому-то одному.
В ответ на жалобу Григорий IX назначил для рассмотрения этого дела епископа пармского Грация, а император Фридрих II подтвердил назначение епископа и, в свою очередь, назначил для разбирательства пармского горожанина Лаврентия де Гвадзоне. Судя по грамоте, составленной епископским нотарием, 13 и 14 декабря 1230 г. во владениях графов Камиксано послом пармского епископа Фомой Соскальком графам (упомянуто четырнадцать имен) были зачитаны два послания от епископа Грация, первое из которых содержало текст папской буллы, а второе – текст императорской грамоты. Ясно, что посол действовал сразу от имени и светской, и церковной верховной власти.
Документ подтверждает наши предположения, что графы Камиксано имели в то время весьма большие владения в кремонской округе: посол пармского епископа зачитывал послания в нескольких местах тем или другим представителям графской семьи – например, в поселениях Колонья, Казалис и в самой Креме [2, c.65–67]. Как очевидно из описанной процедуры, и римский папа, и император, к которым обратился кремонский епископ с жалобой на незаконные действия со стороны графов Камиксано, приняли сторону епископа. При этом папа Григорий IX занял достаточно жесткую позицию по отношению к нарушителям прав епископа, а следовательно, и прав церкви в целом. В булле он грозил принять очень суровые меры – применить отлучение от церкви не только индивидуального порядка (excommunication), но и в массовом отношении, видимо, к жителям графских владений (interdiction) в том случае, если графы Камиксано не возместят тот ущерб, который они нанесли владениям кремонского епископа.
Германский император повел себя подобным же образом: назначил своего представителя, которому поручил рассмотрение этого дела и, кроме того, обещал кремонскому епископу не допускать к своей аудиенции никого из графов Камиксано [2, c. 65–67]. Графам Камиксано давался десятидневный срок для «сердечного» раскаяния и возмещения убытков кремонскому епископу.
Но из документов более позднего времени удается выявить, что столь сильные угрозы не повлияли на настойчивое стремление графского семейства обосноваться в Форново. И через полгода с небольшим начинается новый виток конфликта между феодальными сеньорами и епископией. Для упрочения своего положения кремонский епископ добивается официального объявления и подтверждения своих прав на земли в Форново, ставшие объектом интереса графов. Епископ делает все, чтобы доказать, что земли, занятые под строительство замка, давно принадлежат кремонской церкви. В кремонский дворец епископа 2 августа 1231 г. приглашается Видзард, сын Уригона де Карария, и дает свидетельские показания, что тот участок земли, на котором графы Камиксано построили замок, а именно – пашня, луг и виноградник, всего три югера земли, на самом деле была феодом, который семья де Карария держала от кремонского епископа, и вернул его епископу [2, c. 67–68].
Но, несмотря на несомненность этих прав, графы Камиксано, повидимому, не собирались выполнять требования кремонского епископа и отказались подчиниться епископу пармскому, которому, как было выше сказано, папа поручил рассмотрение этой тяжбы. Поэтому среди документов кремонской епископии мы встречаем новую грамоту, которая на этот раз была составлена в Милане (дело в том, что графы Камиксано как миланские граждане подлежали, прежде всего, юрисдикции миланского архиепископа). И 10 августа 1231 г. в Милане, в церкви блаженного Лаврентия в присутствии множества свидетелей и при звоне колоколов архиепископ миланский Гвильельм объявил об отлучении от церкви сразу двадцати представителей семьи Камиксано. Причиной такой суровой меры стало неповиновение пармскому епископу, которому римским папой было поручено разобрать дело между кремонским епископом Гомобоном и графами Камиксано [2, c. 68–69].
Казалось бы, после этого непокорный род должен был смириться и вернуть кремонской епископии занятые им земли. Но конфликт не разрешился, и через четыре года папа Григорий IX вынужден был вновь в него вмешаться. Чем была вызвана такая твердость и настойчивость графов Камиксано при отстаивании своих интересов, на чем она основывалась, если они не побоялись даже церковного отлучения? Проигнорировать такую серьезную меру можно было, только рассчитывая на какие-то особые обстоятельства, например чье-либо высокое и надежное покровительство. В связи с политическими событиями в Италии тех лет возникает одно предположение. Дело в том, что в 1231–1232 гг. в Северную Италию с войском в очередной раз пришел Фридрих II, и, возможно, именно с этим фактом связана такая уверенность графов Камиксано. Но это только предположение: ведь именно к германскому императору обратился в свое время кремонский епископ с жалобой на графов, и тот обещал кремонской церкви свою поддержку и даже назначил своего представителя, Лаврентия де Гвадзоне, для рассмотрения этого дела.
Так или иначе, но 30 мая 1235 г. папа Григорий IX был вынужден издать еще одну буллу, теперь в Перудже, касавшуюся тяжбы между кремонской епископией и графами Камиксано [2, c. 73–74]. Эта булла была направлена аббату монастыря де Колумба, находившегося в диоцезе Пьяченцы. В булле папа подробно излагает историю конфликта, в частности объясняет причины, по которым кремонский епископ обратился к нему с жалобой, весьма многоречиво описывает ущерб, причиненный владениям епископа. Далее он упрекает графов в том, что, несмотря на отлучение от церкви в течение года, они не только не покаялись, но и заявили в свое оправдание, что отлучение было наложено без предварительного увещевания. Между прочим, Григорий IX обвиняет и настоятеля монастыря де Гизальбо в дистрикте Бергамо в том, что он, оказывается, поддержал графов в их нежелании явиться на суд пармского епископа и, более того, советовал снять с них отлучение от церкви как наложенное «без разумной причины».
К сожалению, мы не располагаем другими документальными сведениями об этом, судя по всему, противоречии уже непосредственно внутрицерковного характера. В булле папа сообщает о том, что графы Камиксано после отлучения продолжали «протягивать свои нечестивые и грязные руки к другим владениям церкви» (ad alia bona eisdem ecclesie extendunt manus suas) и, видимо, с этим связана встретившаяся только в этом документе информация о просьбе приора монастыря де Маркария и настоятеля монастыря св. Агаты к мантуанскому епископу об отлучении графов Камиксано и их владений от церкви. Итак, еще одно отлучение и опять в связи с земельными владениями. Очевидно, графы Камиксано были очень сильны и позиции их надежны, если они, будучи единожды отлученными, продолжали неотступно выполнять свои планы по расширению владений перед угрозой вторичного отлучения.
За всем этим угадывается серьезная борьба различными политическими силами, претендующими на власть и влияние в Северной Италии. И объектами этой борьбы часто становились земли в небольших местечках и городках, что не могло не сказаться на их судьбах.
В заключение своей буллы папа Григорий IX упрекает подеста, совет и коммуну Милана в том, что они «закрывали глаза на большую вину графов», и поручает аббату монастыря де Колумба убедить миланского подеста, совет и коммуну в том, что следует призвать к порядку графов Камиксано и обязать их удовлетворить требования кремонского епископа по возмещению его убытков и ущерба. В случае же невыполнения этих требований римский папа рекомендует применять к нарушителям спокойствия самые строгие наказания.
К большому сожалению, данный комплекс источников не содержит материалов о развязке этого конфликта. Так и не удается узнать, были ли выполнены требования папы римского к коммуне Милана и кремонского епископа относительно графов Камиксано. Самый общий свет на вопрос может пролить документ, датированный 1340 г., то есть отстоящий от рассматриваемого периода времени на целое столетие. По этому документу графы Камиксано (всего перечисляется двадцать шесть имен) признают себя вассалами кремонского епископа, держащими в качестве феода четвертую часть десятины территорий Камиксано и Ботаксано, расположенных в кремонском дистрикте [3, c. 168–170]. Кроме этого, графы Камиксано назначили двоих членов семьи, Иоанна и Францескина, своими представителями при кремонском епископе для ведения всех дел, касавшихся их феода.
Что касается так долго длившегося конфликта между двумя крупными феодальными сеньорами, то остается предположить, что после периода открытой вражды, которую мы уже рассмотрели, видимо, был найден определенный компромисс, который смог удовлетворить обе стороны. В результате такого компромиссного решения, судя по выше приведенному документу, были признаны (подтверждены) верховные права кремонского епископа как сюзерена графов Камиксано. Мы не знаем, как решилось дело с землями в Форново и с замком, но с территорий Камиксано и Ботаксано, давних владений графов, как, очевидно, и с других, даже полной десятины епископии не поступало: она была урезана на четверть под видом феода.
Что касается судьбы Форново, все эти перипетии в жизни городка привели к тому, что это поселение, скорее всего, потеряло свое прежнее значение и влияние. По крайней мере, со второй половины XIII в. мы практически перестаем встречать упоминания в документах об этом поселении. Можно отметить, что известное произошедшее в 1495 г. в ходе Итальянских войн сражение при Форново имело место возле другого существующего и поныне поселения Форново-ди-Таро в регионе Эмилия-Романья.
Возможно, что хозяйственное значение Форново как центра местного обмена и сосредоточения обслуживающего ремесла в конце XII – начале XIII вв., впоследствии перешло к его ближайшему соседу и, как мы видели, сопернику – Караваджо, поскольку количество документов, связанных с этим поселением, на протяжении XIII–XIV вв. остается стабильным и вообще это поселение в провинции Ломбардия существует до сих пор. Это позволяет сделать предположение, что маленькие городки очень сильно зависели не только от экономической конъюнктуры, но и от политических событий, в центре которых они оказывались.
На примере судьбы малого года Форново можно выделить основных субъектов политической борьбы за эти поселения. В качестве таковых выступали кремонские епископы и коммуна Кремоны, представители феодальной знати и городского нобилитета, соседние североитальянские города и поселения самой Кремонской округи.
Борьба между епископами и коммуной Кремоны продолжалась в конце XII в. за усиление своего влияния в малых городах Кремонской округи. В частности, в Форново эта борьба выражалась в строительстве епископом замка и в предоставлении коммуной различных налоговых льгот жителям этого поселения. Форново подвергается нападению со стороны своего ближайшего соседа, небольшого полуремесленного местечка Караваджо, причиной чему стала, возможно, борьба между этими поселениями за влияние на близлежащую сельскую округу. Все тот же Форново становится жертвой многовековой вражды между Кремоной и Миланом, выразившейся в вооруженном нападении миланцев в 1227 г. Наконец, именно из-за этого маленького городка разгорается долгий конфликт между кремонскими епископами и представителями феодальной знати – графами Камиксано, развернувшийся в первой половине XIII в., в который оказались вовлечены и германский император, и римский папа.
Список использованных источников и литературы1. Codex diplomaticus Cremonae. 715–1334 / ed. a L. Astegiano. Tomus I. Taurinorum, 1896. Р. 5-380.
2. Акты Кремоны X–XIII веков в собрании Академии Наук СССР / под ред. С.А. Аннинского, О.А. Добиаш-Рождественской. М.-Л., 1937.
3. Акты Кремоны XIII–XVI веков в собрании Академии Наук СССР / под ред. Л.Г. Катушкиной, В.И. Рутенбурга, Е.Ч. Скржинской. М.–Л., 1961.
Реформа армии Карла Смелого в свете вооруженных конфликтов вт. половины XV века
Киселев А.С.магистрант Московский педагогический государственный университетАннотация : В данной статье рассмотрены характерные особенности военной реформы Карла Смелого и то, как она повлияла на его завоевательную политику. Выявлена и проанализирована тенденция в развитии военной мысли второй половины XV века на примере устройства армий трёх стран: Франции, Бургундии и Швейцарской конфедерации.
Ключевые слова: медиевистика, XV век, устройство Бургундской армии, военные реформы Карла Смелого, ордонансные роты.
Annotation: This article examines characteristic features of the military reform of Charles the Bold and how it influenced his aggressive policy. The tendency of the development of military thought of the second half of the 15th century has been revealed and analyzed using as an example the armies of three countries: France, Burgundy and the Swiss Confederation.
Key words : medieval, the 15th century, the construction of the Burgundian army, the military reforms of Charles the Bold, ordinance companies.
Пятнадцатый век является периодом начала формирования наций и образованием централизованных государств в Европе. Этот процесс был тесно связан с такими правителями как Людовик XI во Франции, Генрих VIII в Англии, Филипп II в Испании.
Людовик XI Валуа стремился объединить страну под своим началом и пресечь политические притязания феодальных сеньоров, самым могущественным из которых был герцог Бургундский. В противовес королю Франции в 1465 году создаётся Лига общественного блага, участники которой не желали лишаться своих феодальных привилегий. Карл Смелый, как молодой и амбициозный правитель Бургундского герцогства, желал независимости от французской короны, мечтая создать собственное королевство, располагающееся от Северного моря до Юрских гор, от реки Соммы до реки Мозель, таким образом, занимающее одновременно территории Франции и Священной Римской империи.
До начала военных реформ Карла Смелого бургундская армия при Филиппе III Добром была организована по принципу феодального ополчения, базирующегося на вассальной присяге, феодальном праве и натуральном хозяйстве. Такое войско созывалось правителем только при необходимости, а его услуги оплачивались только тогда, когда организовывался поход. В остальное время солдаты денег не получали, а сами вассалы охраняли только свои владения, полученные от сеньора, тем самым охраняя страну в целом. Недостатками такого войска были: долгие сборы, недисциплинированность, плохая организация и оснащённость.
Во главе таких вооружённых сил стоял самый крупный и главный сеньор со своим баннером – гвардией. При нём находился совет из крупнейших феодалов и их баннеров. Каждый баннер состоял примерно из 25–80 «копий». «Копьё» являлось низшей организационной и тактической единицей. На момент XIV в. состояло из рыцаря, оруженосца-экюйе («Щитоносец», человек благородного происхождения, служивший рыцарю до собственного посвящения в рыцари), от 4 до 6 лучников, от 2 до 4 пеших воинов.
Ядром армии были латники, которых можно поделить на шевалье-баннерэ (крупное дворянство, имеющее право собирать свой баннер и выставлять 25–50 латников), шевалье-башелье (рядовые рыцари со своим «копьём»), оруженосцев-экюйе, которые даже могли командовать своими отрядами и кутилье. Кутилье просто находились при жандарме в качестве вооружённых слуг, которые не входили в состав копья, как и пажи [2, с. 686] и, видимо, их могло быть неограниченное количество. Хотя в исследовании Филиппа Контамина говорится, что кутилье – это вспомогательный воин [7, с. 220], а также, судя по спискам вербовки, их количество равнялось количеству жандармов. Практика вооружённого слуги следовать за господином в бой стала нормой во второй половине XIV века [5, с. 2033].
Феодальное ополчение располагало следующими родами войск: гвардия, знать со своей свитой, ополчения от городов и наемники. Весь этот контингент делился на французский манер: тяжеловооруженная конница – рыцари, дворяне, профессиональные воины; легкая конница – конные лучники и кранекинье – арбалетчики из дворянских свит и пехота – городские и цеховые ополчения, а так же те, кто входил с состав копий феодалов.
Пехота не существовала как хорошо сплочённое тактическое формирование. Средневековый пехотинец хоть и воевал в строю, но, всё же, не был частью хорошо дисциплинированного отряда, а существовал сам по себе. Эта категория исполняла роль вспомогательных войск на поле боя и изначально не предусматривалась как главная сила. В её задачи входило отвлечение внимание противника на себя и его удержание до того момента, пока собственная рыцарская конница не перегруппируется для очередного удара. Пехота действовала плотными и глубокими построениями, насчитывающими большое количество линий в колонне. Вне сражения же пехота являлась важной частью армии – например, во время осады [5, с. 2033]. Исключением из этой тенденции стали ополчения горожан [10, с. 181], которых отличала четкая цеховая организация и сплоченность. Солдаты в бургундской армии были родом из обоих Бургундий, Брабанта, Фландрии, Артуа, остальные – союзники или наемники.
После смерти Филиппа Доброго, третьего герцога Бургундии, к власти приходит его сын Карл Смелый, получая вместе с землями и феодальное войско со всеми его недостатками. Конечно же, энергичного молодого правителя, стремящегося создать собственное королевство, такое положение дел не устраивает, что и служит причиной его военной реформы.
За основу для своей новой армии он взял французскую модель ордонансных рот 1445 года. То есть, организацию постоянной наёмной армии, воюющей тесно сплочёнными компаниями – ротами, содержащимися на налоги с населения. Ордонансная рота подразумевает под собой военное формирование, существующее по приказу. Такое устройство армии отвечало принципам средневековой тактики: в каждой роте было 100 копий по 4 бойца и 2 слуги в каждом, причём конные и пешие роды сосуществовали единой массой. Во главе роты стоял свой капитан, а кормилась она за счёт провинции, в которой располагалась [9, с. 158]. Однако Карл Смелый не остановился на этом, продолжая издавать всё новые указы по улучшению организации армии.
Для начала, всем дворянам, находящимся в постоянной боевой готовности, он выплачивал регулярное небольшое вознаграждение [5, с. 2345]. Следующим шагом является создание ордонансных рот с четко прописанными требованиями по вооружению. Первыми указами, начавшими череду преобразований, были Абвильские ордонансы от 29 июня и 31 июля 1471 года. В них указывается следующий перечень войск: жандармы, кутилье, которые находятся при жандармах; конные лучники, пешие кулевринье, кранекинье и пикинёры. К слову, реформы герцога Шароле не затронули организацию городских ополчений, выставляющих одного вооружённого воина от нескольких очагов [7, с. 269].
Жандарм, согласно ордонансам Карла Смелого и мемуарам Оливье де Ла Марша, представляет собой тяжеловооружённого конного воина, который настолько материально обеспечен, что может позволить себе дорогостоящую экипировку (так называемый «белый доспех») и содержание 3 лошадей. Большинство жандармов бургундских ордонансных рот не являлись рыцарями [4, с. 90].
Армия стала состоять из 12 рот общим числом 1250 «копий» [4, с. 90], содержащихся за счёт государства. Одна рота равнялась сотне «копий» под командованием наёмного командующего – кондюкто, дававшего присягу на верность герцогу. У него в подчинении была своя камера (chambre) из 9-ти жандармов, под начальством у каждого из которых личное «копьё», состоящее из 6-ти человек (3 конных лучника, 1 пеший кулевринье, 1 арбалетчик и 1 пикинёр). В роте помимо его командирской камеры есть ещё 9 дизаней (dizenier). Каждая дизань состоит из 2-х камер и управляется дизанье: первая камера состоит из 5 x «копий» и командует ими сам дизанье со своим шестым «копьём», а второе шамбрэ из 4-х и под началом лейтенанта, выбранного из этих 4-х жандармов.
Так Карл Смелый начал с того, что обозначил боевые тактические единицы со своими командирами, в основе формирования которых находился принцип «копий», сохраняющий единство пехоты и кавалерии.
Пехота в своём большинстве состояла из людей не привилегированного сословия – мало обеспеченных простолюдин [8, с. 153] и набиралась из всех желающих участвовать в военных действиях с тем лишь условием, что они должны быть опытны в военном деле [2, с. 687], а их обмундирование должно соответствовать требованиям ордонанса [2, с. 688]. В случае, если кандидат оснащён не подобающим образом, ему могли выдать другое удовлетворительное снаряжение [2, с. 693]. В самой армии все солдаты обеспечивались жильём и едой [2, с. 689]. Отменялись сословия и статусы. В частях вводилась чёткая должностная иерархия. Теперь комбатанты обязаны были подчиняться друг другу в зависимости от своих званий [2, с. 689]. За нарушения дисциплины предусматривались санкции. Все наказания для солдат делились на личные и должностные. Они исчислялись денежными штрафами или оставались на усмотрение командира – вплоть до смертной казни.
Видимо система копий начинает мешать управлению армией, поэтому все дальнейшие действия по реформированию пытаются решить эту проблему. Так ордонансом от 13 ноября 1472 года, изданным в Боэне-ан-Вермандуа общее число «копий» в войске сокращается до 1200, отделяется личное копьё дизанье от общей массы войска, а все лучники и кранекинье под командованием жандармов из своих камер на время боя переходят под знамя кондюкто [2, с. 694]. Это нововведение начинает нарушать систему дизаней, камер и «копий». Командные должности дизанье и шефов камер становятся полезными только во время сбора армии и в решении административных и бытовых вопросов. Управление же самими тактическими единицами осуществляют специально назначенные жандармы.
Из-за образовавшейся путаницы среди командного состава и появления нескольких начальников одновременно в октябре 1473 года в Трире издаётся Сен-Максиминский ордонанс, организовывающий в роте 4 дизани вместо 10. Каждая дизань теперь делится на 4 камеры по 6 «копий» в каждой. Последнее «копьё» (96 «копьё») принадлежало лично кондюкто. Эти нововведения отделяют конницу от пехоты, формируют в роте подобие взводов как единых тактических групп, вводят единообразие среди флагов, которое обеспечивает более ясную картину в управлении, выделяя из общей массы командиров и отряды, тем самым ускоряя процесс перегруппировки солдат. Вся пехота в бою организовывается в копья из 6 человек (2 пикинера, 2 кулевринье и 2 кранекинье), затем в тридцатки, а потом в отряды по сто человек со знаменосцем и жандармом – сотником. Лучники с этого момента окончательно выходят из-под руководства жандарма и управляются отдельно. Уменьшение числа дизаней приводит к сокращению командного состава высоких чинов и увеличивает количество средних. Однако у солдат роты всё так же остаётся несколько непосредственных начальников, что затрудняет управление: одни командуют во время боя, другие в быту и на марше, третьи отправляют в отпуск. Армия организовывается по принципу «копий», а в бою действует совсем другими формированиями [3, с. 665]. Решение этих административно-тактических проблем заключается в необходимости отхода от системы «копий» (которая сохранится до 1477 года) и разделении комбатантов на 3 административно независимых рода войск – кавалерию, лучников и пехотинцев, что мы увидим более отчётливо только в майском ордонансе 1476 года, когда что-либо менять было уже поздно.
Под впечатлением поражения при Грансоне в мае 1476 года издаётся последний крупный военный указ – Лозанский ордонанс, согласно которому пехота и лучники выводятся из состава роты. Пехота образовывает отдельные отряды, насчитывающие 4 корпуса по 10 сотен в каждом. Одна такая сотня делится на 4 кварты по 4 камеры. Камера состоит из 6 человек (2 пикинёра, 2 кранекинье, 2 куливринье). Лучники организовывались похожим образом, составляя 3 сотни (288 стрелков), хоть формально числились в составе роты. Итого рота начитывает 4 дизани, а в её состав входят жандармы, кутилье и лучники. Жандармы сводятся в «копья» из 3 человек (жандарм, кутилье, паж). 6 «копий» образуют камеру. 4 камеры составляют дизань. Всего общая численность армии равняется 1536 комбатантам. Тем самым наблюдается смещение приоритета в сторону пехоты, разделение армии по родам войск, устранение путаницы среди командных должностей и отказ от «копий» (которые остались только у конных отрядов).









