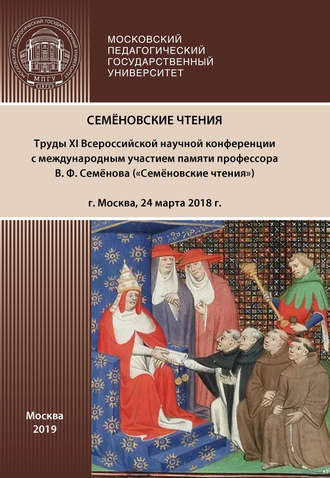 полная версия
полная версияСемёновские чтения
Датой образования Древнепольского государства принято считать крещение князя Мешко I из рода Пястов в 966 г., которому предшествовала его женитьба на чешской княжне – христианке Дубравке.), дававшем ему возможность совершать грабительские походы, сопровождавшиеся захватом богатой добычи и пленных. «Как свидетельствуют его деяния, – повествует Козьма Пражский, – Болеслав был самым победоносным из победителей в сражениях… Самое большое богатство он усматривал в военном снаряжении, самой его большой страстью было оружие. Ибо твёрдую сталь и оружия треск больше любил он, чем золота блеск, ко всем достойным был он мил, людей никчёмных не любил, снисходительно он относился к своим людям, для врагов же был грозным» [3, c. 76]. Однако уже к концу правления Болеслава II могущество Чехии стало ослабевать, о чём свидетельствует вспыхнувшая в стране в 995 г. кровавая усобица, в ходе которой был физически истреблён род Славниковичей, осмелившийся бросить вызов Болеславу II и отложиться от его власти [3, c. 71–73].
Обострение внутренних противоречий в Чешском государстве было, как нам представляется, в значительной мере обусловлено внешнеполитическим фактором – усилением соседей Чехии. Венгрия к концу Х в. полностью оправилась от последствий катастрофы 955 г. и шла навстречу объединению под властью Иштвана I Святого (1000– 1038 гг.), утвердившего своё верховенство над венгерскими племенами в 998 г. короновавшегося в рождественскую ночь 1000 г. королевской короной. В Польше князь Болеслав I Храбрый (992–1025 гг.) правил с 992 г., племянник чешского Болеслава II и один из самых знаменитых завоевателей в истории средневековой Европы.
Усиление соседей влекло за собой сокращение возможностей захвата военной добычи, которая являлась одним из главных источников обогащения чешской военно-служилой знати. Именно поэтому Чехия, пережив период стремительного подъёма внешнеполитического могущества во второй половине Х в., раньше других стран Центральной Европы испытала глубокий внутренний кризис, сопровождавшийся ожесточённой борьбой различных группировок военно-служилой знати и её самоистреблением.
После смерти Болеслава II усобицы внутри княжеского рода и чешской знати в целом приобрели крайнюю остроту, поставив под вопрос само дальнейшее существование Чешского государства. Как сообщает хронист: «Князь Болеслав (III Рыжий, сын Болеслава II – А.Г.) был схвачен и ослеплён (в Кракове на пиру у Болеслава I Храброго – А.Г.); людей, сопровождавших его, или умертвили, или посадили в темницу. Между тем и домашние недруги князя Болеслава, из ненавистного и коварного рода Вршовцев, стали творить мерзкие преступления, неслыханные испокон веков» [3, c. 80].
Последнее едва не было поглощено вступившим в период быстрого военного усиления Древнепольским государством: Болеслав I сначала овладел Краковом, а затем и вступил в Прагу, вынашивая идею создания обширного государства в Центральной и Восточной Европе: «Разве он не подчинил Моравию и Чехию, занял в Праге княжеский престол и отдал его своим наместникам. Кто, как не он, часто побеждал в сражении венгров и всю страну их вплоть до Дуная захватил под свою власть? Неукротимых же саксов он подчинил с такой доблестью, что определил границы Польши железными столбами по реке Сале в центре их страны» [2, c. 33], – вопрошал хронист Галл Аноним.
Правитель Священной Римской империи Генрих II Святой (1002– 1024 гг.), с трудом сдерживавший натиск Болеслава Храброго, приложил немало усилий для восстановления и укрепления Чешского государства. Князю Яромиру, который, как отмечает хронист Титмар Мерзебургский, «по приказу короля был отправлен в Прагу с лучшими рыцарями из наших» [6]. Завершить дело восстановления Чешского государства удалось брату Яромира Ольдржиху (правил в Чехии в 1012– 1034) при поддержке того же Генриха II [4, c. 9–10].
Военные успехи, в том числе – вмешательство в княжескую усобицу на Руси (Повесть временных лет рассказывает об образе действий Болеслава на Руси, обычном для похода в чужие земли: «Болеслав же побежал из Киева, забрав богатства, и бояр Ярославовых, и сестер его, а Настаса – попа Десятинной церкви – приставил к этим богатствам, ибо тот обманом вкрался ему в доверие. И людей множество увел с собою, и города Червенские забрал себе, и пришел в свою землю» [5]) – позволяли Болеславу Храброму содержать огромное по меркам рубежа Х и ХI вв. войско.
Хронист пишет: «В самом деле, какой знаток арифметики мог бы точно сосчитать ряды его воинов или описать его бесчисленные победы и триумфы? Ведь в Познани он имел 1300 рыцарей с 4 тыс. щитников, в Гнезно – 1500 рыцарей и 5 тыс. щитников, в городе Влоцлавке – 800 рыцарей и 2 тыс. щитников, в Гдече – 300 рыцарей и 2 тыс. щитников; все они во времена Болеслава Великого были очень храбрыми и искусными в битвах воинами… Но, чтобы вам избежать скуки при перечислении, я покажу число воинов, не подсчитывая их точно. Король Болеслав имел рыцарей больше, чем в наше время имеет вся Польша щитников; во времена Болеслава почти столько же насчитывалось рыцарей, сколько людей всякого рода имеется в наше время» [2, c. 38].
Думается, далеко не случайно хронист, писавший свой труд в начале XII в., сообщает о многочисленности дружины Болеслава Храброго. Вероятно, десятилетия спустя жили воспоминания, как о времени правления знаменитого завоевателя, так и о вспыхнувших после его смерти кровавых столкновениях, ставших неизбежными в среде военно-служилой знати после прекращения завоевательных походов.
1025 год – год коронации Болеслава Храброго королевской короной и год его смерти стал кульминацией роста внешнеполитического могущества Польши, вслед за которой польское государство повторило судьбу Чехии, причём кризис польской государственности, разразившийся в середине 1030-х гг., оказался гораздо более глубоким: здесь дело не ограничилось всплеском борьбы внутри военно-служилой знати, а вылилось в охвативший широкие массы населения мятеж, имевший целью разрушение государства, искоренение христианства и восстановление язычества. В последнем нашло отражение явление, типичное для начального периода государственности у западных и восточных славян, когда сбор дани с входивших в государственное объединение территорий напоминал военный поход в соседние страны.
Чешский князь Бржетислав I (1034–1055 гг.), воспользовавшись создавшимися условиями, совершил в 1039 г. поход вглубь польских земель, дошёл до первой столицы Польши Гнезно и увёл в Чехию всё остававшееся там население, забрав мощи св. Адальберта – первоначально пражского епископа, выходца из рода Славниковичей, ещё до расправы с ними покинувшего Чехию и погибшего во время миссионерской деятельности в землях язычников-пруссов [3, c. 102– 104].
Вероятно, Бржетислав I надеялся установить своё верховенство над польскими землями, однако другие соседи Польши – Священная Римская империя, Русь и Венгрия – предприняли целенаправленные усилия для восстановления Польского государства. С их помощью к 1040 г. новый правитель Польши – Казимир I Восстановитель (1039– 1058 гг.), столицей которого стал Краков, утвердил свою власть над польскими землями [2, c. 50–51].
Таким образом, к середине XI века окончательно сложилась система центральноевопейских государств, способных самостоятельно, а в случае необходимости – с помощью соседей, защищать свои границы. Последнее сделало невозможным рассчитывать на грабительские походы в соседние страны как один из главных источников обогащения военно-служилой знати и заставило правящий слой перейти к созданию такой модели общественного и государственного устройства, которая основывалась на систематическом налогообложении трудящегося населения собственной страны.
Хронологическая синхронность такого рода поисков наряду с тесным географическим соседством и нередким переходом территорий из одних рук в другие (помимо иных, фундаментальных факторов цивилизационной общности) способствовали тому, что в странах Центральной Европы (Чехии, Польше, Венгрии) сложилась самобытная, отличная от западноевропейского феодализма, принципиально единая модель общественного и государственного устройства, которую в специальной литературе принято называть системой градской организации [7, c. 134–141].
В пору своего расцвета (середина XI – середина XII вв.) она обеспечивала высокий авторитет княжеской (королевской) власти и функционирование гибкой, многоступенчатой военной организации, что обеспечивало важную роль Чехии, Польши и Венгрии в международных отношениях в Европе этого времени, характеризуемого глубокой феодальной раздробленностью в странах Западной Европы.
Список использованных источников и литературы1. Видукинд Корвейский. Деяния саксов / вступит. ст., пер. Г.Э. Санчука. М., 1975.
2. Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских / предисл., пер. и примеч. Л.М. Поповой. М., 1961.
3. Козьма Пражский. Чешская хроника / вступит. ст., пер. Г.Э. Санчука. М.,1962.
4. Королюк В.Д. Польша и Германская империя в системе международных отношений Центральной. Восточной и Юго-Восточной Европы во второй половине Х – первой половине XI в. // Международные связи стран Центральной. Восточной и Юго-Восточной Европы и славяно-германские отношения. М., 1968. С. 5–14.
5. Повесть временных лет // [Электронный ресурс] URL: http://knigosite.org/library/read/77814 (дата обращения: 06. 03. 2018).
6. Титмар Мерзебургский. Хроника // [Электронный ресурс] URL: http://testlib.meta.ua/book/316494/ (дата обращения: 06. 03. 2018).
7. Тржештик Д. Средневековая модель государства периода раннего феодализма // Этносоциальная и политическая структура раннефеодальных славянских государств и народностей. М., 1987. С. 134–141.
8. Тржештик Д., Достал Б. Великая Моравия и зарождение чешского государства // Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI – XII вв.). М., 1991. С. 87–106.
Кнут Великий, папство и Священная Римская империя
Поляков С. А.аспирант Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. ЧернышевскогоАннотация: Правление Кнута Великого в Северной Европе в XI в. характеризовалось созданием единого государства. Оно включало в себя Англию, страны Скандинавии и некоторые другие. Держава Кнута на определённом этапе стала достаточно заметной, чтобы контактировать со Священной Римской империей и папой римским. Поиск союзников и установление династических связей привело к признанию власти Кнута на международном уровне. Англия стала активнее, чем при англосаксонских королях, контактировать с Европой. Скандинавия стала контактировать с Европой в качестве христианского региона. Среди стран, с которыми взаимодействовал Кнут, была также Русь.
Ключевые слова: Англия, Скандинавия, Священная Римская империя, Франция, Рим, дипломатия, Русь.
Annotation: The rule of Canute the Great in Northern Europe in the XI century was characterized by the creation of an unified state. It included England, the Scandinavian countries and some others. The power of Canute at a certain stage became sufficiently noticeable to contact the Holy Roman Empire and the Pope. The search for allies and the establishment of dynastic ties led to the recognition of Knuth's reign at the international level. England has become more active in contacting Europe than with Anglo-Saxon kings. Scandinavia began to contact Europe as a Christian region. Among the countries with which Knut interacted, there was also Rus.
Key words: England, Scandinavia, Holy Roman Empire, France, Rome, diplomacy, Rus.
Король Кнут Великий (1016–1035 гг.) известен, прежде всего, как правитель Англии и Скандинавии, объединитель Северной Европы. Тем не менее, с самого начала своего правления в 1016 г. он уделял большое значение взаимоотношениям со странами континентальной Европы, действуя через церковь и датско-немецкие связи. Уже тогда им были установлены первые контакты с римской курией и европейскими дворами. В 1026 г. завершились примирением споры английской церкви с Гамбургско-Бременским архиепископством, а из Рима архиепископом Кентерберийским Этельнотом был получен паллий. В 1026 г. Эльфрик, архиепископ Йорка, отправился в Рим, где получил паллий, и английская церковь получила, таким образом, новое свидетельство признания апостольским престолом.
Не менее важным направлением внешней политики Кнута Великого были отношения с правителями Священной Римской империи. Для Дании отношения с Германией (как главной частью Империи) были тем направлением, которое во многом определяло её внешнюю политику на протяжении всей средневековой истории. Во второй половине X в. германо-датские отношения находились в состоянии динамического равновесия, приобретая различный характер – от добрососедских до откровенно враждебных.
К 1026 г. успехи завоевательной политики Кнута на Севере Европы превратили его в правителя европейского значения. Единственным государем, могущество которого было сопоставимо с создателем Северной державы, был император Священной Римской империи.
После успешных походов в страны Скандинавии король решил лично отправиться в континентальную Европу, чтобы встретиться c папой римским и императором Империи. Его внешний облик во время этого путешествия походил на тот образ, который пристало иметь благочестивому путнику: скромное одеяние и посох. Однако внешнее облачение не вводило в заблуждение современников – король с собой вёз множество драгоценностей и золота [1, p. 192]. Паломничество в Рим было предпринято в 1027 г., когда можно было с уверенностью сказать о достижении англо-датским королём определённого влияния на европейской арене.
Доказательством признания могущества Кнута было его присутствие на важнейшем событии того года – коронации императора Священной Римской Империи Конрада II. Для этого Кнуту пришлось преодолеть большой путь. Во время своего путешествия король посетил Фландрию, Францию (Западно-Франкское королевство) и Италию. Повсеместно правитель Англии стремился предстать в образе щедрого покровителя и защитника церкви. В Северной Франции он посетил город Сент-Омер и находившиеся там монастыри Нотр-Дам и Сент-Бертен. Здесь король усердно поклонялся святыням, нередко проливая обильные слёзы. Он передал богатые дары монастырям, особенно ценные – для главного алтаря каждого из них. Кнут не был скуп и по отношению к беднякам, которые встречались ему в городах [7, II. 21]. Находясь во Франции, король вёл переговоры по важному церковному вопросу – о платежах с пилигримов, державших через Францию путь в Рим. Итогом переговоров стало то, что размер платежей был снижен вдвое, для чего королю пришлось выкупить половину образовавшегося к тому моменту долга [2, VI. 1035].
В конце концов, Кнут Великий добрался до Рима и лично встретился с папой римским Иоанном XIX. Переговоры прошли плодотворно: король договорился об освобождении английской церкви от значительной части церковных налогов. Связано это было, скорее всего, с тем, что Англии нужно было восстанавливать хозяйство после потрясений предыдущих десятилетий (причиной которых, кстати, был, собственно король Кнут, вступивший на престол благодаря военной силе). Помимо этого, король совершил важное символическое действие – поклонился гробнице апостолов, что являлось публичным покаянием и молитвой в искупление грехов [3, 1031] (Ряд средневековых авторов ошибочно указывает дату поездки – 1031 г.).
Коронация императора Конрада II и его жены Гизелы состоялась в церкви Санти-Апостоли 26 марта 1027 года [4, s. 302]. Помимо Кнута Великого на церемонии присутствовал король Бургундии Рудольф III, а также многие представители высшего духовенства, включая архиепископов Кёльна, Майнца, Магдебурга, Равенны и Милана. Кнут был одним из тех, кто сопровождал короля во время церемонии и даже вёл его под руку. Это следует считать прямым свидетельством признания королевского достоинства и могущества бывшего викинга.
Присутствие короля Англии на таком значимом событии позволило ему встать в один ряд с правителями ведущих держав тогдашней Европы: Франции, Германии, Италии. При этом можно отметить, что статус Кнута Великого оказался более высоким, чем положение бургундского короля Рудольфа III, для которого присутствие на данной церемонии было обязательным. Бургундия входила в сферу влияния немецких императоров, а после смерти Рудольфа окончательно вошла в состав Империи. Встреча правителя Англии и Дании с императором была важна для них обоих.
Кнут укреплял свой авторитет, договорившись об уступках паломникам. Как сообщает один скандинавский источник (Сага о Кнютлингах), он основал в Риме госпиталь для паломников из Скандинавии [4, s. 307]. Ещё более важной целью Кнута было признание европейскими правителями легитимности его власти над Англией. Главным свидетельством того, что и на этом направлении король добился успехов, было соглашение о браке дочери Кнута Гунхильды и наследника Конрада Генриха (император в 1039–1056 гг.) [2, VI. 1035].
Для императора Конрада союзнические отношения с Кнутом были в сложившейся политической ситуации исключительно важны. Влияние немецкой церкви на Скандинавию с началом правления Кнута ослабло в связи с усилением английского влияния, что приводило к конфликтам в церковной сфере. После церемонии можно было говорить о признании верховенства императорской церкви в датских землях: когда казалось необходимым, Кнут был готов поступиться интересами англосаксонской церкви. Вскоре епископ Роскилле Авоко был посвящён в сан архиепископом Гамбурго-Бременским Либентом.
Для империи было важно заключить мир с Кнутом в связи с необходимостью установить прочные основания взаимоотношений со странами Скандинавии, на значительной части которой он уже утвердил своё господство. Северная граница стала относительно спокойной, что позволяло правителям Империи заниматься другими направлениями политики, прежде всего, внутри самой Германии.
Говоря об интересах Конрада на западных границах империи, следует обратить внимание на его сложные отношения с Нормандией. Связь Кнута с Нормандией могла предотвратить возможные осложнения для Империи. Наконец, Кнут и император определили «зоны влияния» в Полабье, где у каждой сторон были свои интересы. Связь славянских племён с Данией сохранилась, но влияние Германии на регион продолжало в дальнейшем нарастать [4, s. 312, 318]. Земли полабских славян находились по соседству с Польшей и их столицей Гнезно. Как раз в то время Конрад вёл борьбу с воинственным Болеславам Храбрым, так что встреча с Кнутом была призвана создать для её успеха благоприятные условия.
После завершения торжеств Кнут отправился в пределы своих владений. Прежде чем вернуться в Англию, он посетил Данию, дабы заняться неотложными делами. Прибыв на родину, король направил оттуда послание английским прелатам и всему народу Англии. Это письмо содержало и объяснение тех действий, которые предпринял король в последнее время, и формулировку новых задач королевской власти.
Внешнеполитические интересы Кнута не были непосредственно связаны с событиями на континенте, однако после поездки в Рим и церемонии коронации императора степень его вовлеченности в европейскую политику заметно возросла.
В 1024 г. Кнут подарил искусно украшенную книгу герцогу далёкой Аквитании Гильому V Великому. При этом главными союзниками в Европе для англо-датского короля были император Конрад II и король Бургундии Рудольф III. Графство Блуа в центральной Франции под властью Эда II выступало против союза Конрада и Рудольфа. Герцог Аквитании был союзником графа Блуа, так что Кнут, отправляя свой дар, возможно, пытался установить контакт с противником своих союзников. Однако на стороне Эда находился и король Франции Генрих I, только вступивший на престол в 1024 г [4, s. 323, 324]. Это обстоятельство объясняет отсутствие непосредственных контактов между английским и французским дворами в это время.
Анализ данных источников может представить интересные факты, касающиеся контактов с ещё более далёкой страной. Выясняется, что сестра Кнута Эстрид (Маргарет), бывшая замужем за нормандским герцогом Ричардом и ярлом Ульфом, была замужем за русским князем! [5, Схолия 39] В это время на Руси шла борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Главными претендентами на киевский престол был Ярослав и Святополк Окаянный. Ярослав женился на дочери Олава Шетконунга Ингигерде. Как раз в это время Ярослав поставил в Новгород своего сына Илью (рождённого от другого брака), и на короткий промежуток с 1018 по 1019 гг. был заключён брак между Ильёй и Эстрид. Брак оказался недолгим из-за ранней смерти Ильи [6, с. 188].
Имеющиеся сведения о внешней политике Кнута Великого дают основание для ряда выводов. Она обозначила важный рубеж в истории международных отношений эпохи Средневековья. До Кнута англосаксонские правители поддерживали лишь спорадические контакты с правителями Европы, в то время как скандинавы в эпоху викингов чаще выступали как деструктивная, нежели созидательная сила. Внешняя политика Кнута способствовала тому, что Северная держава стала восприниматься как крупное государство, объединившее в своих пределах весь европейский Север. Фактически была создана вторая средневековая империя после Священной Римской империи, пытавшаяся встать с ней на равную высоту. Было достигнуто международно-правовое признание Северной державы.
Дипломатические успехи Кнута имели разные последствия для Англии, и Скандинавии, которые после смерти Кнута стали развиваться обособленно друг от друга. Для Скандинавии момент вхождения в состав Северной державы ценен тем, что впервые этот регион, представлявший для Европы интерес почти исключительно как важный перекрёсток торговых путей, превратился в самостоятельный фактор международных отношений. По сути дела, признание Дании, Норвегии, Швеции как части христианского, европейского мира произошло именно в правлении Кнута Великого.
Для Англии это был момент окончательного превращения в одно из наиболее влиятельных государств Европейского Запада, до этого поддерживавшее лишь спорадические контакты с континентальной Европой. Это едва ли могло произойти без того импульса, который был приобретён благодаря объединению со скандинавскими королевствами. При этом важно иметь в виду и то, что именно в правление Кнута окончательно сложилась та конфигурация отношений между Англией и Францией, которая существовала на протяжении многих последующих веков – соперничества и вражды.
Список использованных источников и литературы1. Bartlett W. B. King Cnut and the Viking Conquest of England 1016. Stroud, 2016.
2. Henry of Huntingdon. Historia Anglorum / Ed. by T. Forester. London, 1853.
3. John of Worcester. The Chronicle of John of Worcester / tran. by T. Forester. L., 1854.
4. Morawiec J. Knut Wielki: krol Anglii, Danii I Norwegii. Krakow, 2013.
5. Адам Бременский. Деяния архиепископов Гамбургской церкви / пер. И. В. Дьяконова, Л. В. Разумовской // Славянские хроники. М., 2011.
6. Назаренко А. В. О русско-датском союзе в первой половине XI в. // Древнейшие государства Восточной Европы: 1990 год. М., 1991.
7. Панегирик королеве Эмме [Электронный ресурс] – URL: http://www.ulfdalir.ru/sources/43/592/594 (дата обращения: 02.12.2017).
Основание Гнезненского архиепископства и отношения с папством и империей
Лушина М.Г.аспирант Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. ЧернышевскогоАннотация : Статья посвящена проблеме учреждения архиепископской кафедры в великопольском городе Гнезно и анализу роли этого исторического события. Автор признает особую роль церковного института в судьбе всей страны. В статье отмечается значимая роль становления архиепископства, а также делается предложение, что данное событие значительным образом влияет на возвышение польского города Гнезно.
Ключевые слова: Средние века, Великая Польша, Гнезно, архиепископство.
Annotation: The article deals with the problem of the establishment of the Archbishop's chair in the Great Poland city Gniezno and the analysis of the role of this historical event. The author points to the special role of the Church Institute in the fate of the whole country. The article notes the significant role of the establishment of the Archdiocese, as well as the proposal that this event significantly affects the elevation of the Polish city of Gniezno.
Key words: the Middle Ages, the Great Poland, Gniezno, archbishopric.
Историю Средних веков невозможно представить без истории церкви. Церковь проникала практически во все сферы жизни средневекового человека, влияла на политическую историю, способствовала изменениям в культуре и образовании. Так и для первой столицы Великопольского города Гнезно имела огромное значение для развития его церковная история. Гнезно рано стал религиозным центром, в котором государственная власть и церковная организация были неразрывно связаны.









