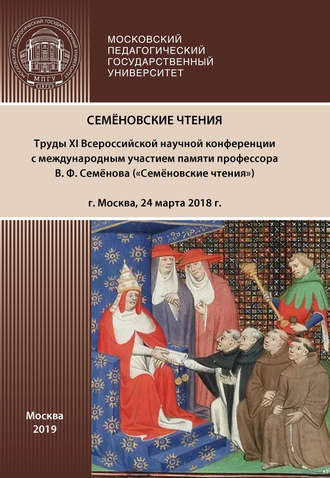 полная версия
полная версияСемёновские чтения
Гнезно с самого начала был религиозной (языческой) столицей. Принятие же христианства способствовало тому, что именно этот фактор стал особенно значимым.
Процесс распространения христианства в стране и городе особенно усилился при знаменитом военачальнике и правителе Болеславе I Храбром, который «уверенно восстановил границы Польши, утерянные прежде. Он заложил шесть кафедральных соборов, из них первым – познаньский, где после смерти он и покоится в середине костела; затем гнезненский, мазовецкий, который теперь называется плоцким, краковский, вроцлавскнй и любушский … также заложил, построил и наделил имуществом много монастырей» [2, c. 66]. При Болеславе I складывается сеть епархий, которая стала одним из важнейших элементов управления [6].
Важную роль в судьбах страны и церкви занимает деятельность прибывшего в конце Х века в Польшу святого Адальберта или Войтеха (956–997 гг.). В Чехии миссия Адальберта была отвергнута. И он, с позволения Болеслава Храброго поселятся в Польше. Из жития святого следует, что «Болеслав относился к Адальберту благожелательно и дружелюбно» [4]. Адальберт отправляется обращать в христианство пруссов, но эта миссия в Пруссии не увенчалась успехом, а сам Войтех был убит. Князь Болеслав, узнав от вернувшихся спутников Адальберта о мученической кончине миссионера, направил в Пруссию несколько человек с целью выкупить тело епископа.
Существует также рассказ о том, что «было запрошено у князя Болеслава столько золота, сколько весит тело» [4]. Когда стали взвешивать тело, оно оказалось совершенно невесомым. Это было чудо святого Адальберта, И пруссы, испугавшись, вернули тело святого без выкупа. В конце концов, тело Адальберта привезли в Гнезно и захоронили в базилике святой Богородицы за алтарем.
Сообщения о чудесах, связанных с телом святого не случайны. В это время в Польше не было национальных святых, требовалось создать некую опору с помощью подобного религиозного культа. Кроме того, мощи святого были также важным фактором в социально-экономическом развитии города.
29 июня 999 года состоялась канонизация Адальберта. Столь быстрое решение о канонизации вызвано тем, что римский папа Сильвестер II имел дружеские отношения с Адальбертом, и канонизация в те времена сводилась к простой записи имени святого в особом списке.
События Х века повлияли на дальнейшую историю Гнезно. Город превращается в центр польской церкви, и с притоком паломников и количественным ростом духовенства становится более многолюдным. Однако завершающим аккордом церковной истории и символом силы и влияния Гнезно будет являться учреждение архиепископства.
Болеславу I удалось добиться от папы римского создания в 1000 г. польского архиепископства в Гнезно, подчиняющегося непосредственно папе. Создание национальной церковной организации и религиозная политика Болеслава I существенно повысили престиж Польши на международной арене.
В 1000 году император Священной Римской империи Оттон III посетил Гнезно и поклонился гробу святого Адальберта, «которого он при жизни очень почитал» [2, c. 67]. Скорбь императора, как сообщают современные хронисты, была безгранична. В Гнезно приехал Гауденций, брат Адальберта, который сопровождал императора до святого гроба. Тогда же Гауденций принял Гнезненское архиепископство.
По рассказу средневекового хрониста Галла Анонима, «увидев славу, мощь и богатство польского князя, римский император воскликнул с восхищением: «Клянусь короной моей империи, все, что я вижу, превосходит то, что я слышал». По совету своих магнатов в присутствии всех он прибавил: «Не подобает называть столь великого мужа князем или графом, как одного из сановников, но должно возвести его на королевский трон и со славой увенчать короной».
И, сняв со своей головы императорскую корону, он возложил ее в знак дружбы на голову Болеслава и подарил ему в качестве знаменательного дара гвоздь с креста Господня и пику св. Маврикия, за что Болеслав, со своей стороны, подарил ему руку св. Адальберта. И с этого дня они настолько прониклись уважением друг к другу, что император провозгласил его своим братом, соправителем Империи, назвал его другом и союзником римского народа» [3, c. 38].
Помимо религиозного значения, отметим светскую сторону учреждения архиепископства. Польша освобождалась от дани, которую был обязан выплачивать с Западного Поморья императору отец Болеслава Мешко I, и таким образом Польша освобождалась от какой-либо зависимости Германской империи.
Действия императора можно объяснить не только религиозными, но и политическими соображениями. Власть Оттона III в Священной Римской империи была не столь прочна, по сравнению с правлением Оттона I. И если римский папа стремился к христианизации, то император Оттон III рассчитывал на поддержку Польши как в борьбе против язычников, так и в борьбе против мятежных германских князей и феодалов.
Вероятно, может возникнуть вопрос, почему учреждение первого архиепископства произошло именно в Польше. К этому времени Чехия представляла собой сильное государство. Но Польша была нужна германскому императору как союзник, особенно учитывая факт ее географического положения (Чехия была ближе к Германской империи, а дальним территориям, особенно если учитывать опасность язычников, требовался больший контроль).
Болеслав, «даровитый полководец» [5, c. 151], по мнению В.Д. Королюка, очень импонировал императору Оттону, «аскету, мистику и мечтателю» [5, c. 151]. Именно в Болеславе император увидел наиболее подходящего соратника в исполнении своих несбыточных планов по созданию универсальной монархии со столицей в Риме, в которую на равных правах должны были войти Италия, Германия, Галлия и Польша, представляющая всех славян [5, c. 134]. Исходя из стремлений императора, Болеслав I мог в дальнейшем рассчитывать на получение королевской короны.
Гнезненское архиепископство стало мощным стимулом дальнейшего развития города и страны: оно способствовало консолидации польских земель, а также международному усилению Польши, служило распространению славы Гнезно как паломнического центра.
В то же время, вероятно, основание архиепископства в Гнезно могло сыграть ключевую роль в обретении статуса столицы у данного города, а не других. Однако данное замечание может вызвать недоумение: в большинстве монографий и обобщающих работах содержится однозначный вывод о том, что первой столицей Польского государства был именно город Гнезно. Но вопреки учебникам и академическим трудам профессор Познанского университета Ханна Кочка-Кренц [1, c. 13] полагает, что первой столицей Польши была Познань, так как город занимал выгодное географическое положение, был центром ремесла и торговли.
Но именно Гнезно сохранился в памяти потомков в качестве первой столицы Польши и даже спустя тысячелетие сохраняет свой статус в массовом создании. Главным аргументом в пользу Гнезно, на наш взгляд, стало основание архиепископства в 1000 г., слава о котором разнеслась не только по Польше, но и по всей Европе, поскольку в акте основания архиепископства приняли личное участие император Оттон III и папа Иоанн ХIХ. Важную роль сыграло также первоначальное захоронение в Гнезно останков одного из самых знаменитых святых Западной Европы эпохи Раннего Средневековья – святого Адальберта (Войтеха).
Сформировавшиеся представления, закреплённые в трудах средневековых хронистов, на долгие годы сделали непоколебимым признание Гнезно первой польской столицей.
Список использованных источников и литературы1. Hanna Kócka-Krenz. Najstarszedzieje. Poznania, 2004.
2. Великая хроника о Польше, Руси и их соседях / текст В.Л. Янин, Л.М. Попова, Н.И. Щавелева. М., 1987.
3. Галл Аноним. Хроника и деяния князей польских / вступит. ст.‚ пер. и коммент. Л.М. Поповой. М.‚ 1961.
4. Житие святого Адальберта [Электронный ресурс] // Житие святого Адальберта. URL: http://www.klgd.ru/city/history/gubin/adalbert.php (дата обращения: 25.12.2017).
5. Королюк В.Д. Древнепольское государство. М., 1957.
6. Тымовский М., Кеневич Я., Хольцер Е. История Польши. М., 2004 // [Электронный ресурс]. URL: http://www.e-reading.club/bookreader.php/1036241/Tymovskiy_-_Istoriya_Polshi.html (дата обращения: 22.04.18).
Дипломатические контакты Карла Великого с англосаксонскими королевствами в историописании «долгого XII века»
Мереминский С.Г.кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Центр истории исторического знания Институт всеобщей истории РАН; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФАннотация: Фигура Карла Великого занимала исключительно важное место в исторической и политической мысли средневековой Европы, не исключая и Англию «долгого XII века». При этом английские историки того времени не имели почти никаких источников о контактах Карла с современными ему англосаксонскими правителями. Лишь Вильгельм Мальмсберийский, используя письма Алкуина, попытался реконструировать отношения Карла и короля Мерсии Оффы. В отсутствие достоверных источников на первый план порой выходила эпическая традиция, представленная в «Песни о Роланде» и других chansons de geste. В этой традиции Карл изображался как завоеватель Англии.
Ключевые слова: Средние века, международные отношения, Англия, Карл Великий, Оффа, Алкуин, Песнь о Роланде.
Annotation: The figure of Charlemagne held a singularly important place in the historical and political thought of medieval Europe, not excluding England of the ‘long twelfth century‘. However Anglo-Norman historians had virtually no information concerning the contacts of Charlemagne with his contemporary Anglo-Saxon rulers. A notable exception was William of Malmesbury, who through the analysis of Alcuin‘s letters tried to reconstruct the relations between Charlemagne and Offa, king of Mercia. The absence of reliable sources made the historians to look towards epic tradition, represented in the ‘Song of Roland‘ and other chansons de geste. There Charlemagne was described as a conqueror of England.
Key words : Middle Ages, international relationships, England, Charlemagne, Offa, Alcuin, Song of Roland.
Карл Великий принадлежит к числу исторических деятель, образы которых продолжали приковывать внимание потомков на протяжении множества поколений, подвергаясь различным трансформациям и мифологизации. Хотя Британские острова не входили в державу Карла, существует немало свидетельств, что в Англии в эпоху королей из Нормандской династии и первых Плантагенетов (с 1066 до 1216 года, в современной историографии этот период нередко обозначается, как «долгий XII век») Карл и некоторые из его потомков занимали важное место в исторической и политической жизни, часто рассматриваясь как выразители идеала христианских правителей [2]. Так, автор 1-й половины XII века Генрих Хантингдонский в «Истории англов», посвященной истории острова Британии, все же счел необходимым не просто упомянуть о восшествии на престол Карла, но и отметил, в духе концепции «translatio imperii», что в результате этого события «начала меняться десница Всевышнего. Ибо Римская империя, которая столь много лет была величайшей, покорилась великому королю франков Карлу» [11, c. 198]. Вместе с тем, о прямых контактах Карла с Англией ни Генрих, ни большинство других английских историков «долгого XII века» почти ничего сказать не могли. Это объяснялось содержанием доступных им источников. Так, в составленных не позднее конца IX века «Начальных анналах» Англосаксонской хроники событиям правления Карла Великого посвящены лишь два скупых известия: под 780 (правильно – 782) годом «Тогда старые саксы сражались с франками» и под 812 (правильно – 814) годом «Тогда король Карл умер, и он правил 45 зим» [10, с. 61, 63]. После Нормандского завоевания 1066 года в Англию были привезены рукописи многих исторических сочинений эпохи Каролингов. В их числе «Хроника» Адона Вьеннского, «История» Фрекульфа из Лизьё, «Римская история» и «История лангобардов» Павла Диакона, «Жизнь Карла» Эйнхарда, «Старшие Мецские анналы» и др. [12, с. 360–361] – однако и в этих трудах практически ничего не говорится об отношениях Карла с современными ему англосаксами.
Между тем, исследования современных учёных убедительно продемонстрировали значительную вовлеченность Карла в дела англосаксонских королевств, особенно Нортумбрии [4; 6; 8]. Этот вывод был сделан на основе анализа главным образом не нарративных источников, а капитуляриев, папских грамот, но главное – эпистолографии, в особенности обширного собрания писем англосакса Алкуина (ок. 735 – 804 гг.), который с 780-х годов входил в окружение Карла, сперва как глава дворцовой школы в Ахене, а затем как аббат монастыря в Туре. Письма Алкуина были известны в Англии «долгого XII века», но лишь один историк попытался собрать разбросанные по ним кусочки информации, чтобы реконструировать взаимоотношения между франкским правителем и Оффой, королем Мерсии (правил в 757–796 гг.). Вильгельм Мальмсберийский в «Деяниях английских королей» (1-я версия завершена ок. 1125 года) пишет: «Между тем, Оффа, дабы не пострадать из-за того, что сурово обходился со своими подданными, стремился повсюду дружить с королями и заключать договоры. Бриктрику, королю уэссексцев, он отдал в жены свою дочь Этельбургу [правильно – Эдбургу]. Благодаря частым посольствам он добился дружбы Карла Великого, короля франков, хотя в характере Карла нашел мало сходного со своим собственным. Прежде они вздорили даже до того, что в обеих сторон происходило немалое волнение, вплоть до того, что были запрещены поездки купцов. Есть письмо Альбина [Алкуина], которое об этом свидетельствует, и я приведу здесь часть из него как свидетельство великодушия и мужества Карла, который всю свою жизнь воевал против язычников, восстававших против Бога» [9, с. 132–134].
Далее Вильгельм цитирует письмо Алкуина о том, как полководцы Карла одержали победы над «старыми саксами», славянами, аварами и сарацинами, «освободив большую часть Испании». Алкуин с сожалением отмечает «возбужденную дьяволом» ссору между королем Карлом и королем Оффой, приведшую к прекращению торговли, предполагает, что его могут послать как посредника. После этого Вильгельм делает отступление об изменении баланса сил между сарацинами и христианами в Средиземноморье со времен Карла до его времени. Затем возвращается к теме франкско-мерсийских отношений и цитирует уже письмо самого Карла Оффе (оно так же сохранилось среди корреспонденции Алкуина). Вильгельм приводит лишь начальную часть послания: приветствие Карлом Оффы, упоминания о беспрепятственном проезде паломников по франкским землям при этом те, кто путешествуют ради наживы, то должны платить пошлины), гарантии безопасности купцов. Дальше мальмсберийский историк сразу переходит к заключительной части письма – упоминанию о дарах, которые Карл послал английским епископам, а также самому Оффе: пояс, «гуннский меч» и два шелковых паллия (очевидно, трофеи, добытые франками при захвате столицы Аварского каганата в 796 году).
В то же время, Вильгельм опускает содержащуюся в письме информацию о некоем «пресвитере Одберта», бежавшем из Британии на континент. Современные исследователи убедительно предположили, что имеется в виду претендент на престол Кента Эадберт Прен (praen – древнеанглийское «священник»), изгнанный мерсийцами, но в том же 796 году (возможно, как раз при поддержке Карла), вернувшийся в Кент и поднявший там восстание, подавленное к 798 году [4, c. 141–142]. Вильгельм знал историю Эадберта Прена по Англосаксонской хронике, но, очевидно, не сопоставил его с «Одбертом» из письма Карла. Мальмсберийский историк также опускает упоминание о неких «черных камнях», которые Оффа просил у Карла (имеются в виду либо мельничные жернова из майенской лавы, либо, более вероятно, римские колонны из порфира), и о претензиях Карла к размеру плащей, которые англосаксонские купцы привозили на продажу [4, c. 142]. По-видимому, эти сюжеты показались Вильгельму либо непонятными, либо слишком незначительными.
Далее историк поясняет причины, по которым решил включить в свое сочинение этот материал: «Я извлек эти слова из письма, с некоторыми пропусками, и переписал их сюда, чтобы потомки знали, какая дружба была между Карлом и Оффой. Полагаясь на эту связь, Оффа, хотя его ненавидели многие люди, окончил свои дни в мире и покое, добился, что его сын Эгфрид был помазан как король еще до его смерти, и оставил его наследником» [8, c. 136]. Следует пояснить, что к Оффе Вильгельм был настроен весьма враждебно, считал врагом Церкви и, в частности, разорителем земель Мальмсберийского монастыря, а также тираном и убийцей короля Восточной Англии святого Этельберта, почитаемого как мученик. Вильгельм недвусмысленно показывает, что его симпатии в данном случае полностью находятся на стороне Карла. Вместе с тем, любые контакты англосаксов с франками мальмсберийский историк рассматривал как безусловно позитивное явление, поскольку считал франков «первыми среди всех народов Запада и в проявлении силы, и в утонченности нравов». Вильгельм прямо указывал как проявление Провидения на то, что будущий король Уэссекса Эгберт (дед Альфреда Великого) был изгнан своим соперником Бриктриком и бежал во Францию, где «научился искусству управления» [9, c. 152].
Другим автором, располагавшим сведениями о контактах Карла с англосаксами, был современник Вильгельма Мальмсберийского, Симеон (умер около 1129 года), регент (архикантор) собора в Дареме. В начале XII века в библиотеке Дарема имелась копия (ныне утраченная) исторического сочинения монаха Биртферта из Рэмзи (жила на рубеже X–XI веков), который включил туда материал из хроники (известна под условным названием «Йоркские анналы»), составленной в Нортумбрии на протяжении 2-й половины VIII в. (обрывается на 802 годе). Эти источники Симеон использовал в собственной компиляции, так называемой «Истории королей англов» [12, c. 241]. К «Йоркским анналам», в составлении которых возможно участвовали ученики Алкуина, восходит приводимое Симеоном Даремским уникальное известие о том, что в 792 году Карл послал в Британию некие «соборные книги» («sinodalem librum») – акты VII Вселенского собора в Никее (787 год). Эти акты были известны Алкуину, который написал против них опровержение и отправил Карлу.
Кроме того, в составленных Симеоном кратких записях на полях рукописи с пасхальными таблицами (известны под условным названием «Линдисфарнские и Даремские анналы») под 797 годом приведено еще одно уникальное известие: «Эардульф правил 10 [лет]. Он женился на дочери короля Карла» [3, c. 483]. Исследователи традиционно сомневались в достоверности этой информации, считая её либо ошибкой, либо выдумкой Симеона [8, c. 170]. Вероятность сознательной выдумки в данном случае невелика – все без исключения остальные известия в «Линдисфарнских и Даремских анналах» основаны на хорошо известных и сохранившихся источниках, поэтому резонно предположить, что и в случае с упоминанием брака Эардульфа Симеон откуда-то взял соответствующую информацию. Более вероятна ошибка самого даремского архикантора или, скорее, автора источника, которым тот пользовался. В целом, представляется вероятным, что Эардульф был действительно женат на франкской принцессе, хотя едва ли на дочери самого Карла Великого [6, c. 156–157].
Наконец, весьма любопытная заметка о Карле Великом и Британии читается в рукописи с еще одним сочинением Симеона, его «Книжицей о начале и преуспевании церкви Дарема». Эта рукопись (ныне она хранится в Кембриджской университетской библиотеке под шифром Ff.1.27) была создана в Дареме, но спустя несколько десятилетий после кончины Симеона (вероятнее всего, около 1188 года). Между перечнем глав и началом основного текста «Книжицы» (на страницах 128–1130) в этой рукописи помещен ряд заметок исторического и географического содержания (перечни королей Нортумбрии, графств и епископств Англии [7, c. 217–222]). Географическое описание «английской Британии» (Anglica Britannia) заканчивается так: «Остров исключительного размера, всех прочих [островов] краса и слава. Каковую провинцию, изобилующую всяческими благами, Карл Великий некогда называл своей сокровищницей». По-видимому, неизвестный автор этой заметки считал, что Британия входила в державу Карла как полноправное, причем особо ценное владение. В английских латиноязычных исторических сочинениях мне не удалось найти параллелей этому утверждению (безусловно неверному с исторической точки зрения).
Источник, к которому восходит утверждение автора даремской заметки, оказался совсем иного рода – это знаменитый старофранцузский героический эпос «Песнь о Роланде». В ней Англия дважды фигурирует в числе владений Карла Великого: когда их перечисляет сарацин Бланкандрен (строка 373) и когда Роланд, обращаясь перед смертью к Дюрандаль, вспоминает, какие земли покорил для Карла с ее помощью (строки 2331-2332): «Jo l‘en cunquis e Escoce e Irlande / E Engletere, que il teneit sa cambre» [5, c. 45–46]. Стоит отметить, что лучшая и самая ранняя рукопись поэмы была создана во 2-й четверти XII века в Англии (или, возможно, в Нормандии; ныне хранится в Бодлеанской библиотеке в Оксфорде, шифр Digby 23, part 2). Примечательно, что в основанной на «Песни о Роланде» латиноязычной «Истории» Псевдо-Турпина нет сравнения Англии с «сокровищницей» Карла, следовательно автор даремской заметки основывался на старофранцузском оригинале, который читал или слышал. Таким образом, мы имеем дело с довольном ранним и примечательным проникновением в латиноязычную монашескую историческую культуру материала из старофранцузского эпоса, обычно изучаемого в совершенно ином контексте. Что касается причин возникновения легенды о завоевании Британии Карлом Великим, то представляется резонным предположение Д. Дугласа о том, что оно рассматривалось как один из прецедентов Нормандского завоевания. В этом контексте нормандский герцог Вильгельм, захвативший Англию и сделавший ее своим владением (словом camber в данном случае вероятно обозначены личные владения, домен государя, доходы с которого поступали прямо в его казну), выступал как преемник и наследник легендарного франкского правителя [1, с. 101].
Список использованных источников и литературы1. Douglas D. 'Song of Roland' and the Norman conquest of England // French Studies, 1960. Volume 14. P. 99–116.
2. Hoofnagle W.M. The Continuity of the Conquest: Charlemagne and Anglo-Norman Imperialism – University Park, 2016.
3. Levison W. Die "Annales Lindisfarnenses et Dunelmenses". Kritisch untersucht und neu herausgegeben // Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 1961. Bd. 17. S. 447-506.
4. Nelson J.L. Carolingian Contacts // Mercia: An Anglo-Saxon Kingdom in Europe / Edited by M. P Brown and C. A. Farr – London; New York, 2001. P. 126–143.
5. Rickard P. Britain in medieval French literature, 1100-1500 – Cambridge, 1956.
6. Story J. Carolingian Connections: Anglo-Saxon England and Carolingian Francia. Aldershot, 2003. С. 750–870.
7. Symeonis Monachi Opera et Collectanea / Edited by J. Hodgson Hinde – Surtees Society. Vol. 51. London, 1868.
8. Wallace-Hadrill J. M. Charlemagne and England // Idem. Early Medieval History – Oxford, 1975. P. 155–180.
9. William of Malmesbury. Gesta Regum Anglorum: Volume 1 / Edited and translated by R.A.B. Mynors; completed by R.M. Thomson and M. Winterbottom – Oxford, 1998.
10. Англосаксонская хроника / пер. с др.-англ. З. Ю. Метлицкой. СПб., 2010.
11. Генрих Хантингдонский. История англов / пер. с лат., вст. статья, прим., библ. и указ.. С. Г. Мереминского. М., 2015.
12. Мереминский С.Г. Формирование традиции. Английское историописание второй половины XI – первой половины XII веков. М., 2016.
Развитие форм норвежско-ганзейской торговли на раннем этапе (1250–1350 гг.) в контексте проблемы экономического кризиса в Норвегии
Агишев С.Ю.кандидат исторических наук, доцент Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова.Аннотация: Экономический кризис в Норвегии второй половины XIII – первой половины XIV вв. был порождением не только внутренних, но и внешних факторов, главным из которых были взаимоотношения норвежских властей с ганзейскими городами. Политика официальных норвежских властей на международной арене и внутри страны в отношении иностранных негоциантов привела к «замыканию» внутреннего рынка страны, превращению Норвегии в сырьевой придаток Ганзы, к сокращению торговых связей внутри страны, что значительно сократило производственные возможности сельского хозяйства, попавшего в зависимость от немецких купцов.
Ключевые слова : Норвегия, Англия, Ганза, средние века, торговля, экономический кризис XIV в.









