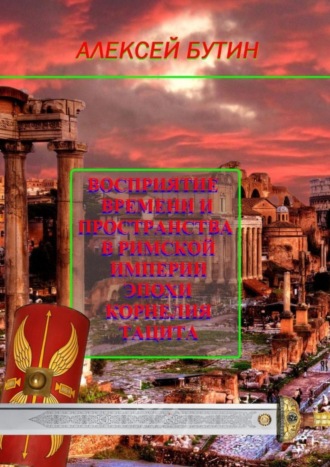
Полная версия
Восприятие времени и пространства в Римской империи эпохи Корнелия Тацита
оценивалось в эпоху Империи в контексте его политических обстоятельств. Для политика оно могло оказаться важнее и прошлого, и будущего, например, когда политические обстоятельства заставляли его брать верх над древними обрядами: «Отон был уже совсем готов к походу, но ему советовали почтить древние обряды и повременить… он же и слышать не хотел об отсрочке и говорил, что подобное промедление сгубило Нерона» («Fuere qui proficiscenti Othoni moras religionemque nondum conditoruin ancilium adferrent: aspernatus est omnem cunctationem ut Neroni quoque exitiosam») [Hist.,I,89]. В данном случае, если окружение Отона следовало традиционному отношению к прошлому, то сам он символизировал пренебрежение к прошлому ради настоящего и будущего, так как именно ради достижения своих политических целей Отон был готов отказаться от почитания традиций древности. О предпочтении настоящего прошлому говорит Тацит и применительно к части знати, поддержавшей диктаторские замашки Юлия Цезаря и предавшей республиканское прошлое Рима: «Прочие из знати, которая была очень щедро одарена могуществом и почетом в виду нового порядка вещей предпочла обеспеченное настоящее, а не опасное прошлое» («Сeteri nobilium, quanto quis servitio promptior, opibus et honoribus extollerentur, ac novis ex rebus aucti tuta et praesentia, quam vetera et periculosa, mallent») [Ann.,I,2]. Настоящее
Сам же Тацит далеко не в восторге от окружающей его действтельности. На страницах его сочинений множество описаний испорченности нравов не только полководцев, но и простых римских солдат. Легионеры то и дело забывают о воинской доблести, предаваясь развлечениям. Один из лагерей вителлианской армии напоминал Тациту «скорее о ночных пирушках или о вакханалиях, чем о воинском лагере». А вслед за этим следует описание «шуточной» борьбы двух солдат, переросшей в побоище, в результате чего были перебиты две когорты войск [Hist.,II,68]. Все это вселяет в Тацита подавленность и растерянность: «Когда-то воины состязались в мужестве и умеренности, сейчас – в дерзости и разнузданности» («Ut olim virtutis modestiaeque, tunc procacitatis et petulantiae certamen erat») [Hist.,III,11]. Солдатами на войне движет уже отнюдь не стремление приобрести себе славу доблестного воина и обеспечить мощь и богатство государству – ими руководит лишь жажда личной наживы. Флавианцы перед штурмом Кремоны думают, что в темноте им будет легче грабить город: «Дождемся дня… за всю кровь достанутся нам только пустая слава, да никчемное звание великодушных воинов, а богатства Кремоны прикарманят префекты, да легаты. Каждый знает: если город взят, добыча принадлежит солдатам, если же сдался – командирам» [Hist.,III,19]. Как мы видим, испорченность нравов военных проявляется и в крайне низком моральном облике римского солдата. Именно на падение нравов солдат Тацит указывает чаще всего, этот показатель, по-видимому, и является для него одним из главных в шкале деградации общества: «Силы и доблесть разрушались вопреки дисциплине и общественному устройству прошлого, при которых Римская республика покоилась на доблести больше, чем не деньгах» («Et vires luxu conrumpebantur, contra veterem disciplinam et instituta maiorum, apud quos virtute, quam pecunia, res Romana melius stetit») [Hist.,II,69]. В этих словах видна тоска о республиканском народном ополчении и критика наемнической армии. Мощь римского государства связывалась, таким образом, с моральными добродетелями предков – в этом была основа величия Рима.
Большинство римлян пугались , как, впрочем, и другие древние народы. Тацит, в частности, упоминает о реакции римлян на наводнение в начале 69 г.: «Sed praecipuus et cum praesenti exitio etiam futuri pavor, subita inundatione Tiberis» («Исключительным событием [ставшим причиной] предчувствия печального исхода и даже [вселившего] страха будущего был внезапный разлив Тибра») [Hist.,I,86]. Римлян привела в ужас внезапная потеря контроля над стихией, непредсказуемость ее дальнейшего поведения, что актуализировало связанные с будущим печальные настроения. Именно поэтому, желая найти ориентиры в неизвестном им будущем, они постоянно обращались к гадателям. К ним прибегали все, вплоть до императоров: «Urgentibus etiam mathematicis, dum novos motus, et clarum Othoni annum, observatione siderum, adfirmant» («Наблюдения за созвездиями, утверждали астрологи, показывают, что стоит ждать новых поворотов [в судьбе государства], и это будет славный год для Отона») [Hist.,I,22]. Именно страх перед неизвестностью будущего побуждал римлян искать способы обретения контроля или власти над ним. будущего
Будущее предсказывалось по знамениям, о которых знало большинство (если не все) римлян. Например, полет орла в небе предрекал армии Фабия Валента скорую блестящую победу [Hist.,I,62]. Кроме того, будущее предсказывали внутренности жертвенных животных.
Думается, объяснение этим верованиям следует искать в знаниях о символическом параллелизме между всеми частями мира, характерном для сознания человека древности. Обитатели древних цивилизаций пытались смоделировать в своем микромире пространственно-временные структуры, подобные макромиру. Это предпринималось человеком древности с той целью, чтобы иметь возможность влиять на макрокосмические силы. Тацит упоминает, к примеру, что в храме Венеры Пафосской самыми верными считаются «прорицания по внутренностям молодых козлят» (Hist.,II,3). На будущее указывало также расположение космических объектов. Например, люди из окружения Веспасиана, уговаривая его стать императором, «побуждали его прислушаться к словам пророков и к соотношению движения небесных светил» («hortari, responsa vatum et siderum motus referre») [Hist.,II,78]. 123
Грядущее можно было узнать и посредствам видений. Оракул храма Сераписа ответил Веспасиану именно этим способом. Будущий император «увидел» человека по имени Басилид в храме, когда тот был в восьмидесяти милях от Александрии. «Тогда [Веспасиану стала понятна] важность взгляда прорицательницы, ведь толкование имени Басилида было ее ответом» («Tunc divinam speciem et vim responsi ex nomine Basilidis interpretatus est») [Hist.,IV,82]. 124
Оракул, впрочем, мог ответить и в стихах, как это делал прорицатель Аполлона Кларосского, к которому обратился Германик, путешествовавший по средиземноморью. Причем, по словам Тацита, «жрец обращается [к пришедшим] и хочет услышать только их число и имена, после спускается в пещеру, черпает воду из тайного источника, по большей части, не знающий ни грамоты, ни стихосложения, в складной стихотворной форме объявляет ответы на вопросы, которые каждый мысленно сформулировал» («sacerdos numerum modo consultantium et nomina audit: tum in specum degressus, hausta fontis arcani aqua, ignarus plerumque litterarum et carminum, edit responsa versibus compositis super rebus, quas quis mente concepit») [Ann.,II,54].
Будущее можно было предвидеть и с помощью обращения к магам, как сделал это Либон, о чем и написал в одном из своих писем [Ann.,II,30].
Вера в гадания была основана, прежде всего, на восприятии человеком своей судьбы как некой предзаданности, предначертанности богами, а также – на представлении о тесном слиянии мира людей и мира богов, которые не могли существовать автономно.
Восприятие коллективным сознанием времени как некой предопределенности, благодаря чему становилось возможным предсказание судьбы, доказывается верой римлян в предсказания гаруспиков [Hist.,I,27], авгуров, а также восточных халдеев. Например, за помощью к халдеям обращались императоры Тиберий и Нерон. И тому, и другому они предсказали в будущем получение власти [Ann.,VI,21 – 22].
Предвидение, или предсказание, будущего могло произойти и через обращение к сфере воображаемого, каким было, например, время сна. В этот момент происходило нарушение последовательности смены времен, откуда и появилась вера в вещие сны: карфагенянин Цезеллий Басс, совершив ошибку в своих расчетах на нахождение сокровища, изумился, так как «non falsa ante somnia sua, seque tunc primum elusum» («раньше его сны не были ложными, они обманули его впервые») [Ann.,XVI,3]. Следовательно, нарушение порядка течения времени могло произойти в состоянии изменения сознания. Последнее свидетельствует о том, что древним миросозерцанием окружающий мир не воспринимался как абсолютная и объективная реальность, он лишь мыслился, представлялся, творился самим человеческим сознанием. 125
В сны верил и император Август. Причем он не просто верил в вещие сны, но и, по утверждению автора «Жизни двенадцати царей», даже общался с богами в этих снах: «Сновидениям, как своим, так и чужим, относящимся к нему, он придавал большое значение. В битве при Филиппах он по нездоровью не собирался выходить из палатки, но вышел, поверив вещему сну своего друга; и это его спасло, потому что враги захватили его лагерь и, думая, что он еще лежит в носилках, искололи и изрубили их на куски. Сам он каждую весну видел сны частые и страшные, но пустые и несбывчивые, а в остальное время года сны бывали реже, но сбывались чаще. После того, как он посвятил на Капитолии храм Юпитеру Громовержцу и часто в нем бывал, ему приснилось, будто другой Юпитер, Капитолийский, жалуется, что у него отбивают почитателей, а он ему отвечает, что Громовержец, стоя рядом, будет ему привратником; и вскоре после этого он украсил крышу Громовержца колокольчиками, какие обычно вешались у дверей [Suet. Aug., 91].
Но в целом отношение римлян к знамениям и вообще любым предсказаниям будущего нам необходимо назвать амбивалентным. Отметим, в частности, что на страницах сочинения Светония немало описаний пренебрежения и прямых насмешек Цезаря над знамениями: «Когда же он внес законопроект о земле, а его коллега остановил его, ссылаясь на дурные знаменья, он силой оружия прогнал его с форума. [Suet. Iul., 20]. Цезарь часто проявлял крайнюю непреклонность относительно достаточно веских для других римлян знаков судьбы – гаданий: «Никогда никакие суеверия не вынуждали его оставить или отложить предприятие. Он не отложил выступления против Сципиона и Юбы из-за того, что при жертвоприношении животное вырвалось у него из рук. Даже когда он оступился, сходя с корабля, то обратил это в хорошее предзнаменование, воскликнув: «Ты в моих руках, Африка!» В насмешку над пророчествами, сулившими имени Сципионов в этой земле вечное счастье и непобедимость, он держал при себе в лагере ничтожного малого из рода Корнелиев, прозванного за свою распутную жизнь Салютионом» [Suet. Iul., 32].
Цезарь, при этом, оставался хитроумным политиком, и соглашался со знаками судьбы, если это было ему выгодно. Разумеется, он поверил в предсказание ему власти над всем миром: «А лошадь у него была замечательная, с ногами, как у человека, и с копытами, расчлененными, как пальцы: когда она родилась, гадатели предсказали ее хозяину власть над всем миром, и тогда Цезарь ее бережно выходил и первый объездил – других седоков она к себе не подпускала, – а впоследствии даже поставил ей статую перед храмом Венеры-Прародительницы» [Suet. Iul., 51]. Когда обстоятельства складывались в пользу Цезаря, он мог увидеть благоприятные знамения богов практически во всем: «Вдруг ему явилось такое видение. Внезапно поблизости показался неведомый человек дивного роста и красоты: он сидел и играл на свирели. На эти звуки сбежались не только пастухи, но и многие воины со своих постов, среди них были и трубачи. И вот у одного из них этот человек вдруг вырвал трубу, бросился в реку и, оглушительно протрубив боевой сигнал, поплыл к противоположному берегу. «Вперед, – воскликнул тогда Цезарь, – вперед, куда зовут нас знаменья богов и несправедливость противников! Жребий брошен» [Suet. Iul., 32].
На фоне такого непоследовательного отношения Цезаря к судьбе практически как ее насмешка выглядит рассказ Светония о его сне накануне убийства: «А в последнюю ночь перед убийством ему привиделось во сне, как он летает под облаками, и потом как Юпитер пожимает ему десницу; жене его Кальпурнии снилось, что в доме их рушится крыша, и что мужа закалывают у нее в объятиях: и двери их спальни внезапно сами собой распахнулись настежь [Suet. Iul.,81,3].
Тацит, вероятно, согласился бы с Цезарем во-многом. Свою отстраненность от бытовавших в народе представлений о «судьбе», «небесной каре» он не пытался скрыть, противопоставляя свое мнение общепринятому. Так, он не поддерживает народную молву о предстоящем поражении армии Отона, предвестником которого послужил, якобы, разлив Тибра и затопление Марсова поля (Hist.,I,86). Он не обнаружил в стихии огня, «причинившего неведомые дотоле опустошения», влияния злого рока [Ann.,IV,64]. Тацит даже сомневался в правдивости ряда «священных» легенд, к примеру, о происхождении латинов от оставшихся в живых защитников героической Трои. Для него эти рассказы не более чем «недалеко отстоящие от красноречивых древних басен» предания («haud procul fabulis vetera facunde exsecutus») [Ann.,XII,58]. Тацит не поддержал уверенности народа в неуязвимости Марикка из кельтского племени бойев, поднявшего восстание против римлян, в наказание за что его бросили диким зверям, которые не тронули его: «Глупый народ верил, что [он] неуязвим» («stolidum vulgus inviolabilem credebat») [Hist.,II,61].
Таким образом, в восприятии и оценке Тацитом природных и социальных пертурбаций, а также римского мифологизированного прошлого заметны стремления отделить свое мнение от общественного, высказать свою концепцию, противоположную общественному мнению.
Дион Кассий несколько иначе относился к предсказаниям судьбы, нежели Тацит. Он, скорее, склонен верить им. О гонениях Вителлия на «звездочетов»: он говорит, что он «издал приказ покинуть Рим и всю Италию до определенного дня», в свою очередь они «подбросили ему письмо, где велели ему расстаться с жизнью до того же самого дня, в который он действительно и умер». После чего следует ремарка самого Диона: «Вот до какой степени точно предвидели они будущее» [Dio Cass., LXIV. 1 (4)].
Дион рисует нам весьма противоречивый образ Веспасиана, который то игонял астрологов из Рима, то сам охотно пользовался их услугами: «Он также изгнал из Рима астрологов, хотя сам пользовался услугами всех тех, которые среди них были самыми лучшими, и ради некоего Барбилла, человека подобного рода занятий, даже разрешил эфесянам провести священные игры, чего не позволял ни одному другому городу [Dio Cass., LXV, 9 (2)].
* * *
В целом нам необходимо заключить, что все сказанное свидетельствует о прочной, но разнонаправленной связи компонентов горизонтальной структуры «прошлое-настоящее-будущее», так как будущее не всегда могло быть спрогнозировано изначально предшествовавшими ему звеньями во временном ряду.
Как мы видим, римляне свято чтили памятные страницы своего мифологизированного прошлого, но со страхом вглядывались в будущее. Коллективная память римлян бережно хранила узловые события их истории, воздавая почести ее создателям – предкам. В прошлом обитатели Лация видели образец идеального уклада жизни. Идеализация исходного состояния римской civitas, по нашему мнению, привела к восприятию движения вперед как удалению от идеала и нормы и породила популярные в период жизнь Тацита представления о порче времени. Но, идеализируя прошлое, римляне при этом не пренебрегали и реалиями настоящего.
Коллективное сознание римлян конструировало свое будущее как нечто непредсказуемое, пугающее своей неизвестностью. Именно противопоставление неизвестно какого будущего идеализировавшемуся прошлому породило страх перед грядущим временем. Желание реконструкции прошлого в будущем явилось для коллективного сознания римлян попыткой преодоления этого страха. Различными трансцендентными путями оно стремилось обрести власть над ним, исправить его, сгладить его ужасающий образ. Многочисленные способы контактов с божественным миром создавали иллюзию предсказуемости будущего и, тем самым, вселяли надежду на его изменение в лучшую для себя сторону.
2. Проблема направления времени
Интерес к вопросу направления течения времени в его осмыслении римлянами диктуется тем, что именно оно характеризует ориентацию человека на то или иное измерение времени, на отношение человека к современной ему эпохе, влияет на осознание степени ценности наследия прошлого и перспективы будущего.
К примеру, М. С. Каган отметил, что при переходе от циклического восприятия времени к линейному происходит изменение отношения и к будущему, и к прошлому. Для циклического понимания времени его трехфазная структура (прошлое-настоящее-будущее) вообще не проблематизируется, так как при таком подходе «все в мире возвращается». Это положение верно и для религиозного сознания, поскольку земная жизнь рассматривается лишь как преамбула к будущей, вечной жизни. 126
При конструировании моделей времени в сознании обитателей древних цивилизаций исследователи выделяют несколько инвариантов. Они диагностируют нахождение циклической, линейной, спиральной, локально-вариативной, смешанной концепций времени.
В сознании римской интеллектуальной элиты, на наш взгляд, существовали два специфических отрезка времени – так называемые «unius hominis aetas» («человеческий век») и «великий год». Первый равнялся ста двадцати годам; он присутствует в текстах Тацита в словах Марка Апра [Orat.,17] с отсылкой на британского старца, прожившего 120 лет, то есть при исчислении «человеческого века» бралась не средняя долгота жизни индивида, а самая долгая из известных современникам жизнь. Представление о «великом годе» существовало в связи с проведением императором Клавдием Секулярных игр [Ann.,XI,11] в честь восьмисотлетия основания Рима (87 г.). «Великий год» символизировал собой столетие в жизни Вечного города (отмирание старого века и зарождение нового).
В сознании народных масс мы находим проявления цикличного времени, на что указывают некоторые аспекты праздничной культуры Древнего Рима. Древнеримские праздники имели огромную связь со священной стороной жизни человека, о чем говорит, к примеру, то, что практически все они опирались на стойкую религиозную традицию. Следовательно, с помощью праздников реализовывалась священная связь настоящего и прошлого. Священное активно вторгалось в обыденную жизнь римлян: праздник являлся основным разграничителем священного и профанного времени, вводя римлян в резкий, разительный контраст с обычными буднями. Об этом свидетельствуют следующие факты. На время публичных игр, которыми сопровождались праздничные церемонии, прерывались даже судебные заседания [Ann.,III,23]. Тацит передает нам также, что в дни Латинских празднеств назначался особый префект, к которому на это время переходили консульские полномочия [Ann.,VI,11]. 127
Время праздника как одно из проявлений священного времени также являлось цикличным. Ежегодными были, к примеру, священные пляски жрецов-салиев [Hist.,I,89], игры в честь богини производительных сил земли, роста растений и подземного мира Цереры, проводившиеся ежегодно с 12 по 19 апреля [Hist.,II,55]. Каждый год 15 марта – в праздник Анны Перены – народ радостно воздавал почести новому году. По сведениям Тацита, раз в пять лет проводились Неронии [Ann.,XIV,20], цикл той же длины лежал в основе почитания императора Цезаря Августа: каждые пять лет проводились игры в честь его победы при Акциуме. Каждые десять лет ритуально «возобновлялись» полномочия Цезаря Августа, по поводу чего справлялись еще более пышные празднества, а существование самого крупного временного цикла – 100 лет – символизировали Секулярные игры, проводившиеся раз в сто лет по указанию Сивиллиных книг [Ann.,XI,11]. Этот праздник имел особый смысл. Жертвенник, использовавшийся в ходе его, в непраздничное время зарывался в землю, словно римляне «хоронили» прошедшие сто лет и начинали новую «эру». Кроме того, Тацит упоминает, что в ходе Секулярных игр 800 г. от основания Рима (при Клавдии) давалось «троянское представление» на лошадях [Ann.,XI,11]. По сведениям А. Ф. Лосева, Секулярные игры состояли сплошь из жертвоприношений и публичных молитв. Главную роль в них играл император, облаченный в жреческое одеяние. Жертвы приносились всем главным римским богам: Юпитеру, Юноне, Минерве, богиням судьбы Паркам и другим. После этого еще неделю шли различные увеселительные мероприятия. 128 129 130 131 132
Цикличные мотивы присутствуют и в названиях некоторых древнеримских празднеств: 15 июня – Quando Stercus Delatum («Когда выносится навоз»), во время которого все отходы от предшествующих празднеств выбрасывались в Тибр; 27 июня – праздник Века (Aestas); 12 октября – праздник Фортуны Возвращающейся (Fortuna Redux).
Само содержание праздничной культуры римлян доказывает доминирование цикличного начала в осмыслении ими времени. Например, в ходе Сатурналий [Ann.,XIII,15; Hist.,III,78] посредством изменения социальных ролей, общего комизма поведения, нарушения привычного порядка течения жизни (ученики освобождались от занятий, преступники не наказывались) римляне воспроизводили условия жизни в эпоху Сатурна. По всей видимости, ту же цель преследовали так называемые Луперкалии, праздновавшиеся в феврале, суть которых сводилась к тому, что девушки писали любовные письма, а мужчины вытягивали их из урны. Путем такой «жеребьевки» выбирался сексуальный партнер на год. Таким образом, у многих людей этот праздник ассоциировался со свободной любовью. Из шкур жертвенных животных изготавливались бичи, и после пира обнаженные молодые люди брали их и выходили в город пороть женщин. Главной частью Луперкалий были эти голые мужчины, несущие ремни из кожи козла, которые бежали мимо женщин и били их. Женщины охотно подставляли свои бока, считая, что эти удары дадут им плодовитость и легкие роды. В конце торжеств женщины тоже раздевались догола. 133
Время нового года само по себе воспринималось как священное, что указывает на дискретность, цикличность восприятия времени: «Люди всех сословий по обету ежегодно бросали в Курциево озеро монетку за его здоровье, а на новый год приносили ему подарки на Капитолий, даже если его и не было в Риме» [Suet. Aug., 57].
Проявления цикличности времени можно также найти и в особенностях ориентации римлян во времени. В структуре римского временного потока четко выделяются суточный и годичный временные циклы. Годичные циклы позволяют обнаружить реликты идеи цикличности в римском восприятии времени, так как они организовывали свою жизнь, ориентируясь на смену консулов, ежегодные подати, обычай ежегодного принесения присяги императору. По верному замечанию Г. С. Кнабе, наиболее ярко циклические мотивы в осмыслении времени в Древнем Риме проявляются в отношении римлян к январским календам, потому что именно в этот день войска ежегодно присягали императору, а консулы поднимались на Капитолий, чтобы официально вступить в должность. Календарный год, следовательно, являлся одним из видов временного цикла, о чем свидетельствует его завершенность, определимость его начала и конца. 134 135 136
Проявления цикличной модели ориентации во времени были обусловлены влиянием космических явлений, которые легли в основу ориентации римлян во временном потоке: календы – первый день лунного месяца; иды – полнолуние, середина месяца; ноны – девятый день перед идами. Впрочем, в календаре римлян можно найти и свидетельства линейного понимания времени. Уже была отмечена линейная перспектива прошлого-настоящего-будущего. Кроме того, римское летосчисление велось от фиксированной точки отсчета – 753 г. до н. э. Однако заметим, что эта дата являлась поздней договоренностью римских историков, поэтому применительно к коллективному сознанию римлян мы констатируем, что в основе течения римского времени находилась цикличность.
Если принять во внимание то обстоятельство, что у римлян, чтящих традиции предков, существовал ежедневный утренний обычай являться к могущественным и влиятельным патронам с приветствиями [Orat.,6], то можно предположить, что именно сутки воспринимались как наименьший, но значимый для жизни человека временной цикл, в ходе которого действовало не только правило возрождения, обновления времени, но и его смерти, о чем писал М. Элиаде. Ночь – это конец суток, отмирающее время, что и обусловливало характерное – негативное – ее восприятие. Утро, день знаменовали собой обновленное время, которое, соответственно, воспринималось положительно хотя бы потому, что оно вселяло оптимизм и радость преодоления кошмаров ночи. 137
Таким образом, мы находим в коллективном сознании римлян изучаемого периода несколько групп проявлений цикличной модели времени. Нами выявлены циклы разной длительности, различного назначения и содержательного наполнения, а именно: один день, один год, пять лет, десять лет и сто лет. В сознании интеллектуальной элиты существовали так называемые «человеческий век» и «великий год». Праздничная культура римлян основывалась именно на цикличной модели времени. Годичный цикл являлся актуальным при организации общественно-политической жизни, а на лунном цикле основывался римский календарь. Начало любого цикла времени римляне считали гораздо более благоприятным моментом, чем его конец, знаменующий отмирание старого.

