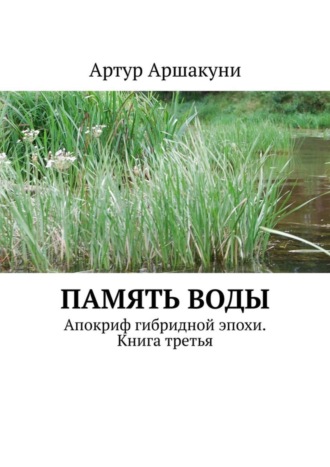
Полная версия
Память воды. Апокриф гибридной эпохи. Книга третья
Жарко?
Он оглянулся. Низина, живущая своей деловитой насекомой жизнью, уже неразличима в сиреневой дымке. Земля студенела от низин, вынуждая ноги выбирать путь по вершинам холмов, от скалы к скале. Наконец, он сел спиной к камню, вбирая его тепло.
Где ты, муравей? Огромные, словно корзины с виноградом, глаза. Глаза, словно египетские пирамиды. Воронки света. Конус. Перевернутый конус. Жара. Холод. Голод. Жажда. Он вздохнул. Завтра. Было. День. Еще день. Еще. Семь дней. Семь – это когда змея. Большой плоский камень в тени. Потом… Конус. Вбирающий в себя солнечный свет. И острым концом своим вставленный в сердцевину головы. Тогда там, в этой точке, заменяющей им мозг, полыхает солнце днем и видны звезды ночью, как со дна пересохшего колодца можно увидеть звезду даже в полдень. Пересохший колодец. С дробящимся о стенки перестуком долго падающего камня. Он не видел меня глазами. Дробящийся, как женский смех. Он видел меня усиками своими, ибо глаза, видящие только солнце, не различают оттенков и полутонов. Слепы суть. Потом падение в расселину. Он сразу снял опухоль. Нога не болит. Голод – не стоит о нем, когда есть солнце. А жажда – это роса по утрам. Сердце как бубен. То глуше, то громче. Запах дыма. Выгорела на солнце трава. Или где-то сидят пастухи. В такую ночь нет надежнее друга, чем мирно потрескивающий костер. Завтра. Потом он разговаривал. С Шахебом, с Азнаваком. С Радой. Или горит занявшаяся по чьему-то недомыслию сухая трава. Дым. Он вспомнил невообразимо далекую отсюда долину. Дым. Знак беды. Только с двумя он не решался разговаривать. С тем, единственным. И с матерью своею. Над головой наливались спелостью гроздья звезд. Глаза приноравливались к иному расположению знакомых созвездий. Он встал, прошелся вокруг камня. Нет. Падет роса, и все будет в порядке. Вокруг головы закружились мотыльки, искорками вспыхивая во мраке. Он свел вместе слабо мерцающие ладони. Мотыльки оценили новую забаву. Потом над холмами взошла луна, полная, как страсть – в отличие от тонкого ощущения, стройного чувства и жилистого желания. Взошла луна, и мотыльки оставили его.
Завтра. Завтра он вернется – куда? У него нет дома. Та долина в горах – ее тоже нет. У него нет ничего. Сердце – это когда больно. Это глаза тех, кого нет. Он ничего не забыл. Не забыл. Он помнит и свои слезы, бессилие и гнев – перед Неведомым, лишающим его опоры каждый раз, когда он делал шаг вперед. Вперед. Куда?
Зачем?
Довольно. Довольно жатвы смерти. Только затем, чтобы он сделал следующий шаг? Камень совсем остыл.
Потому я и ушел сюда.
Довольно. Взмах ножа, предсмертный хрип. Кровь, кровь. Эта земля пропитана кровью на глубину корней, и реки – вздувшиеся вены на руке мясника.
Довольно.
Он откинулся на стылый камень, сдирая с груди накидку. Пот застилал глаза. Бубны в ушах били и били.
Потом раздался смех. А ты помнишь, спросила Рада. Он улыбнулся вымученной улыбкой. Конечно, помню. Картика. Новолуние. Неправда. Ты ничего не помнишь. Помню. Нет. Ты даже не обратил внимания на мой венок из кетаки. Да. Венок. Ночью? Мне тогда больше хотелось дернуть за ленточку, которая… Их было несколько, быстро, за какую? За красную. Вот. Ты никогда не умел лгать и притворяться. Цвет ленточки ты определил. А мне тогда хотелось стукнуть тебя хорошенько, такой ты был бесчувственный. Сейчас я бы сказал, что ты была похожа на осеннюю луну. Молчи. Молчи. Они с Радой у запруды, озабоченно мастерят маленькие плоты с крохотными лампадами. Лампадки дрожат над водой, помаргивая, словно она вдруг обрела лик и прозрела. Рука его касается прохладной и сгущенной черноты; он поднимает руку, подносит к глазам. С пальцев медленно и тягуче, искрясь лампадами пополам с луной, стекают сочные блестки. Нет, говорит он. И потом кричит. Нет. Что ты, спрашивает Рада. Кровь, говорит он. Дурачок, это вода в лунном свете. Нет, говорит он. Кровь. Я не хочу. И он бежит, опрокинув плот с обиженно зашипевшей лампадой, бежит, и ноги сам ведут его тысячи раз хоженой тропой в хижину, где он ежедневно моет посуду, привычно и безнадежно, так, как побитая собака возвращается в свою привычную конуру, и Рада бежит за ним, потому что, не потому что, а что бы я стала делать у запруды одна, и от порога он видит, что в хижине кто-то есть, Азнавак, нет, Азнавак головой упирается в потолок, Азнавак пришел позже, а это небольшой, тщедушный даже человек, Шахеб, да, он знал, что этого Наставника зовут Шахеб, но ничего больше он про него не знал; понимание Шахеба пришло много позже, а тогда он сидел в своем углу, насупленный, как выпавший из гнезда совенок, Рада сердито поджимала губы, словно выбирала, браниться или плакать, неправда, мне просто было страшно за тебя, и я изо всех сил скрывала это, ну, вот, значит, так, вот, значит, ты плачешь, нет, я не плачу, ты плачешь, не знаю, это хорошо, вот, а Шахеб сидел на корточках у очага, протянув ладони к теплу, и отсветы углей ложились на его бронзовое лицо, и молчал, а потом пришел Азнавак, наверное, встревоженный, не найдя их у запруды и обнаружив разбросанные плоты, пришел Азнавак, ты не умеешь рассказывать, неважно, я умею вспоминать, так вот, пришел Азнавак и с проницательностью Наставника оценил и понял состояние и дух присутствующих и промолчал и ничего не сказал, а только ушел вглубь, к сложенным горкой посудинам, и тогда Шахеб негромким и скрипучим голосом начал рассказывать сказку. Притчу. Сказку, Рада, сказку. Детям рассказывают сказки, а притчами они становятся, когда над ними задумаешься. Я помню ее. О том, как Лев встретил раненую Пантеру и спросил ее, кто ее ранил, и она ответила: Человек. Да. Лев удивился, как такую сильную Пантеру мог победить слабый Человек, но она ответила: да, это так. Бойся Человека. Теперь я. Лев пошел дальше и встретил Лошадь в сбруе и спросил ее, кто ее запряг и взнуздал, и она ответила: Человек. Бойся Человека. Дальше Лев встретил Медведя в клетке и Буйвола с отпиленными рогами, прикованного к цепи, и все они сказали ему: бойся Человека. Подожди. Я так славно помню, как Шахеб, рассказывая, все больше воодушевлялся, как горели его глаза, он морщил лоб, изображая удивленного Льва, дышал протяжно, всхрапывая, как загнанная Лошадь, тряс воображаемую клетку, словно разъяренный Медведь, и сопел, наклоняя плешивую голову, словно Буйвол. А Азнавак только прятал улыбающееся лицо, склоняясь над пустыми котлами. Ну, вот. И Лев подумал: я Царь зверей, чт`о мне какой-то жалкий Человек. Наконец, встретил он другого льва, который был пойман Человеком, и другой лев тоже остерегал Льва от сближения с Человеком. И рассердился Лев, и разъярился, и стал рыскать везде в поисках Человека, чтобы сразиться с ним, и угодил в западню, которую устроил Человек. И Человек накинул на Льва веревку и связал его и ушел за помощниками, чтобы вытащить Льва из западни и убить. А в западне оказалась Мышь, которая взмолилась, чтобы Лев не убивал ее, маленькую и малосильную, потому что и от нее может быть польза. Лев только вздохнул, ибо что может сделать Мышь, если сам Лев бессилен. Но Мышь перегрызла веревку и освободила Льва. А потом. Да, Рада. Сказка кончилась. Да. Сказка кончилась. А потом Шахеб лукаво спросил, понравилась ли нам сказка. Но я знала, что сказка с подвохом. Все сказки с подвохом, то есть они рассказывают совсем не о том, о чем в них говорится, а о другом, спрятанном в них, как орех в скорлупе. И я сказала, что здесь не Лев, а сила тела, и не Мышь, а сила духа, и сила духа помогает выжить, а если уповать на силу тела, то станешь рабом, как Лошадь, Медведь или Буйвол. Тогда Шахеб посмотрел на тебя, а ты спросил, почему Человек так коварен и жесток. Шахеб пожал плечами и ответил, что Человек таков, каков он есть. Мир вообще жесток. Нет, закричал ты. Шахеб снова пожал плечами. И ты тогда сказал, тоже пожав плечами: тогда это не тот мир. Шахеб переглянулся с Азнаваком, и оба они уставились на тебя, как будто никогда не видели до этого. А мне, мне снова хотелось тебя стукнуть за твое упрямство, но я только убежала от вас от всех и спряталась, и плакала, плакала, плакала, а почему, я тебе никогда не скажу. Не надо, Рада, не говори. Не буду. Не буду. Не буду. 11 12 13 14
Он поднял голову. Звезды поблекли. Теперь они казались просто звездами.
Он встал. Мышцы сводило. Под ногой захрустела трава, жухлая от заморозка. Он тронул на прощанье камень, на котором провел эту ночь – последнюю ночь, и пошел, огибая его, на запад, в чернеющую еще ночной мглой сторону небосвода.
Резко обожгло ногу.
Он упал.
Нога.
Он потерял ощущение времени. Та же нога, которую он подвернул, когда не увидел расселины. И еще он делил камень со змеей. Или это было после?
Последний день.
– Какая встреча!
Чжу Дэ открыл глаза.
Совсем рассвело. А казалось, он только моргнул.
Груда камней образовывала некое убежище, защиту от ветра и стороннего глаза. Если без помощи рук человеческих, то природа более милостива к человеку, чем он считает.
Логово.
Костер. У костра на камне, устланном звериной шкурой, человек. Стройный, крепкий, ленивый в движениях. Смуглое лицо с небольшой смоляной бородой. Насмешливые жгучие глаза. Рядом, у плеча, женщина с миловидным, но заспанным и от того слегка подурневшим лицом. Она расчесывает человеку гребнем волосы. Еще одна женщина, постарше и пополней, сидит у костра на корточках и раздувает огонь под охапкой по-женски, вразнотык сложенных веток. Дым стелется по земле. От него распущенные по плечам волосы женщины кажутся седыми. Дым. От него все кругом кажется зыбким и нереальным. Но голос – он раздается снова.
– Сорок дней, —
Чжу Дэ узнал его.
смуглый человек зевнул и засмеялся. – О Адонай,
Река и солнце. И голубиный трепет в синеве. И руки, вылизанные струями до прозрачности алебастра, заносят над их головами пригоршни воды.
ради этой встречи мне пришлось исходить всю пустыню!
– Мои бедные ноги! – сказала женщина с гребнем в руке.
Человек лениво повел плечом, и женщина замолчала.
Чжу Дэ сел, поискал глазами, куда опереться. Взгляд его нашел в закурчавившейся от инея траве замерзшего кузнечика.
Кимвал.
– Кто ты?
Чжу Дэ улыбнулся, осторожно взял кузнечика на ладонь, подул. Потом обхватил его губами, согревая. Женщина с гребнем ахнула. Кузнечик зашевелился во рту. Чжу Дэ выложил его на ладонь и переложил
– Сын человеческий.
– Гадость какая, – сказала она неожиданно низким голосом.
Костер затрещал. Она поднялась с корточек, без смущения запахиваясь. За ее спиной взошло солнце. Теперь ее волосы казались не седыми, а рыжими.
– Мясо, Береника! – сказала женщина с гребнем. – Ибо господин наш
Полная и рыжеволосая, которую назвали Береникой, бросила на подругу ревнивый взгляд и
Человек снова повел плечом. Миловидная женщина перестала расчесывать его
Потом освободила волосы от заколки, свободно распустив их по плечам, разделила их гребнем надвое и ловко и привычно стала сплетать в косы.
Капли жира затрещали на угольях.
– Вы забыли про сына человеческого, – сказал человек. – Мясо. И вино.
– Вино, Милка! – улыбаясь, подхватила Береника.
– Вино, – сказала та, которую назвали Милкой, из-под покрывала волос, нагнулась, не глядя, достала из-за камня кувшин.
Смуглый незнакомец отодвинул власяное покрывало, открыв розовое ухо, и пощекотал его. Милка засмеялась.
– И прелесть жен человеческих, – добавил он.
И тоже засмеялся.
– Ну, если ты сын человеческий, тогда я – сын Божий.
– Гиллел! Гиллел! – заохала Милка. 15
Полная же Береника приложила руки к глазам и затем воздела их ладонями к небесам.
– Гость устал в сорокадневных скитаниях по пустыне, – сын Божий оборвал смех и подался вперед. – Как нога?
Чжу Дэ потрогал щиколотку.
– Я думал, будет хуже, – незнакомец поднял брови, —
Чжу Дэ пожал плечами.
Чжу Дэ снова потрогал ногу.
Чжу Дэ с интересом посмотрел на него.
Глаза их встретились на одно мгновенье. Но Чжу Дэ успел снова ощутить силу, исходящую от смуглого незнакомца.
– Сын человеческий, – медленно, словно пробуя на вкус, сказал сын Божий и усмехнулся. – Много я знавал сынов человеческих, и не было среди них никого, кто не склонился бы передо мной – из тех, кто остались живы.
Он с вызовом посмотрел на Чжу Дэ.
– Вот мы сидим, два сына, у костра, – сказал Чжу Дэ. – И Он один над нами обоими. Кто бы чьим сыном ни являлся. Не так ли?
Незнакомец оглянулся на женщин.
– Так, – осторожно сказал он.
– Тогда не равный ли грех ли пред лицем Его мое поклонение тебе или твое – мне? – и Чжу Дэ мягко добавил: – И не благом ли будет сынам равное поклонение Ему?
Береника отняла вертел от костра. Теперь, когда солнце поднялось, волосы ее были уже не рыжие, а иссиня-черные, цвета играющих на свету маховых перьев ворона. Она подала незнакомцу и села слева, споро, по-кошачьи, зевнув. Милка же, справа, разостлала небольшую небеленую холстину, расставила чаши, хлеб и сыр.
– Я не люблю попусту тратить слова, – продолжал сын Божий, состругивая ножом с вертела куски на скатерть. – И не люблю тратить попусту силы. Я пришел в пустыню, ибо так было сказано. И я не виню этих славных мирянок, – он шутливо обнял обеих женщин, – за то, что они последовали за мной, движимые чувством искренней веры.
– Воистину так, господин и учитель наш, – откликнулись женщины вразнобой, выбирая со скатерти куски помягче.
Господин и учитель наполнил чаши. Женщины выпили быстрыми птичьими глотками; глаза их увлажнились; он же медленно цедил вино, окаменев лицом, так что нельзя было сказать, покаянное ему оно или окаянное. Медленно, медленно рука скользнула вниз, выпустив чашу, замерла.
– Вижу, не ешь ты пищи нашей и не пьешь вина нашего, – сказал он, улыбаясь тонкогубым красивым ртом.
Рука его, опущенная долу, скользнула от чаши к ножу, пальцы зряче сомкнулись на рукоятке. Он подцепил не глядя жирный кусок мяса кончиком ножа и поднял. Выждал немного. Затем нож дрогнул; мясной обрезок, сорвавшись с лезвия, полетел к ногам Чжу Дэ.
Так кидают мясо псу.
Чжу Дэ проследил взглядом полет мяса, наблюдая, как вокруг него суетливо забегали рыжие большеголовые муравьи.
Господин и учитель тем временем, так же не глядя, взял чашу с вином, поднял, подержал на вытянутой руке.
А затем чаша полетела в сторону, пущенная неуловимым движением руки, и разбилась о скалу. Женщины взвизгнули. Зацокали по камням осколки; вино же беззвучно приняла земля.
– Не соблюдающий обычаев наших есть пришлец, – сказал он, все так же улыбаясь бескровными губами.
– Брезгует он! – сказала Милка.
– Вон его пища, – хохотнула Береника, ткнув недообглоданным ребрышком за спину. – Саранча да пауки!
– А с иноземца я взыщу, как сказано Господом, Богом моим, – продолжал сын Божий. – Но не сейчас, ибо 16
Он любуется своей речью, как ребенок – разноцветными камушками. Он играет словами. Он играет Словом. По неведению?
О, нет. Он знает цену Слова и потому не дает мне его, не желая и в этом уступать первенства, как тогда, у реки.
– Но что взыскать с того, кто сир, наг и неимущ? – спросил незнакомец у женщин.
– Ничего.
– Воистину ничего, господин и учитель наш.
– Оделим же его от щедрот наших.
И он красивым небрежным жестом опростал над скатертью мешочек, извлеченный из-за пазухи.
Монеты. Много монет, мелких, в основном истертые лепты, несколько дюпондов, несколько ассов, тусклый кодрант. Слепил глаза, затмевая медь, массивный золотой талант.
И совсем неприметным было узенькое колечко, скатившееся в сторону с денежной горки.
Женщины завистливо поглядывали на монеты.
– Деньги, золото… – Незнакомец пересыпал монеты с ладони на ладонь, добродушно посмеиваясь. – О Адонай, держите его, а то он сейчас упадет!
Чжу Дэ покачнулся.
Кровь.
Он поднялся и пересел на камень, подальше от вызывающей необъяснимую дурноту кучки металлических кружочков.
Солнце стояло уже высоко. Блестели рассыпанные по скатерти деньги. Женщины прикрывали глаза ладонью. Незнакомец же продолжал смотреть, не мигая и не заслоняясь от солнца; только глаза его сузились в щелки – жгучие, нестерпимые.
– Ты прав, – сказал он, – в пустыне деньги не нужны. А хлеба ты не ешь.
Наконец, женщины не выдержали и поднялись, занявшись установкой некоего навеса – двух шестов, к которым привязан кусок полотна. Господин и учитель тем временем наполнил свою чашу и выцедил ее.
– Или у вас, иноземцев, иной способ утоления голода, кроме мяса и хлеба? – он беззвучно срыгнул, задумчиво разглядывая чашу, потом перевел взгляд на Чжу Дэ. – Если, конечно, ты не прячешь хлеб за пазухой, не делясь с нами, а? Нет? Тогда эта толстушечка не так уж не права, – хмыкнул он, – насчет пауков. Сыт не будешь, но и не помрешь. Но как насчет того, чтобы обратить эти камни в пищу?
– Есть хлеб и хлеб, – сказал Чжу Дэ.
– Хлеб!
– Хлеб – твари, – негромко сказал Чжу Дэ, —
– Богохульник! – ахнула Милка за спиной господина и учителя.
– Кощун, – сипло подтвердила Береника.
и Хлеб – Бога, человеку же – два, но не один.
– О Адонай, и ты это говоришь мне! Мне! – глаза сына Божьего полыхнули черным. – Нивы тучны и скот обилен на пастбищах Его! Неверные же повержены в прах и обращены в рабов, ибо отвратил Он от них лице Свое!
– Едина печать Его на всех творениях, – сказал Чжу Дэ.
– Едина? – сын Божий выгнул бровь. – Уж не на тебе ли и этом барашке, который скрасил нам существование? Едина? – он расхохотался. – На тебе и мне? И на этих дщерях Сионовых?
Женщины вернулись и сели вместе, поодаль, в тени навеса. Господин и учитель весело оглядел их.
– Сыты ли вы, мои красавицы? – спросил он вкрадчиво. – Довольны ли?
– Да, господин и учитель наш, – Милка потупилась.
– Да, господин и учитель наш, – Береника кокетливо оправила волосы.
– Тогда настала пора развлечь нашего гостя, – сказал он. – Может быть, у него появится вкус к еде – одной из двух!
Он глянул на полную Беренику и негромко хлопнул в ладоши:
– Танцуй!
– Он урод! Кривой урод! – Береника прикрыла лицо краем накидки.
Подруга что-то торопливо зашептала ей. Та выглянула из-за накидки, быстро стрельнула глазами в сторону Чжу Дэ.
– Танцуй! – с нажимом повторил незнакомец.
Береника поднялась и прошлась вокруг скатерти с рассыпанными монетами. В руках у Милки появился бубен и подал голос. Танцующая подняла руки, откликаясь на зов.
Глаза Сына Божьего снова полыхнули черным.
– И ты! – он подскочил к Милке, поднял с места и подтолкнул к танцующей подруге. – Танцуй! Танцуй! О-хи-и-и!
И обратил к Чжу Дэ мгновенную усмешку.
– Едина печать? Каждый ребенок в Иудее знает, что женщина не похожа на мужчину. А ты, нажив такую же, как у меня, бороду, не знаешь того? Едина печать!
Он – раз! – с треском разодрал надвое накидку на Беренике и —
Так знай же, что Господь, Бог мой, отметил женщину
два! – на миловидной подруге ее, Милке, обнажив наготу их.
печатью иной, нежели мужчину. Взгляни же и удостоверься сам!
Он подтолкнул оробевших женщин поближе к Чжу Дэ и сел.
– Танцуй! Танцуй! О-хи-и-и!
Мучнистая, никогда не видевшая солнца кожа женщин сразу стала глянцевой и залоснилась. Глухо, влажно, точно горячий рот, задышал бубен. Господин и учитель снова подошел к танцующим и поднес каждой чашу с вином.
– Танцуй, чтобы покойник возжелал тебя из гроба!
Женщины засмеялись. Милка подняла бубен повыше и крикнула подруге что-то гортанное, напевное, бесстыдное. Полное тело Береники заколыхалось, вторя дыханию бубна. Остро запахло пряным женским потом. Капли пота росли, сливались и ручейками устремлялись в ложбинки. Млела на солнце разгоряченная плоть. Женщина встала напротив Чжу Дэ, пританцовывая и поводя плечами. Бедра и живот ее непристойно двигались. Она высунула горячий язык, облизала масляно заблестевшие губы. Потом подалась вперед. Ладони ее, оглаживая и лаская тело, от первобытного низа живота и бесстыдно раздвинутых бедер, поднялись вверх, приподняли, точно пробуя вес, крупные розные полушария и, сведя их вместе, нацелили на Чжу Дэ.
Бубен хрипел. Милка воздела его высоко над головой, вытягиваясь в лозу. Тело ее, еще сохранившее свежесть, тоже трепетало и колыхалось всеми выпуклостями и складками.
Рада. Где ты, Рада.
– Рада я, ох как рада, – отозвалась Береника еще более сиплым от усталости голосом.
Чжу Дэ вздохнул.
– Нет, не Рада ты, – сказал он, – и не рада, ибо не любовь движет тобою, но страсть к наживе. И потому тягостен тебе труд твой, а не радостен.
Бубен замолчал. Береника прикрылась руками и оглянулась на подругу. Та подошла к смуглому незнакомцу и опустилась перед ним на колени, протягивая ему бубен, словно блюдо с угощением.
– Я танцевала для тебя, господин и учитель мой.
И отшатнулась от молниеносного взмаха руки, разбившего бубен о камни.
Милка вскочила на ноги и в испуге отбежала в сторону. Подруги обнялись и пошли под навес, кутаясь в разодранные накидки. Береника спрятала голову под полой накидки; Милка ткнулась ей в плечо в беззвучном плаче.
– А не заколать ли мне тебя? – весело спросил сын Божий. – Аки жертву за грех? Тем самым совершив угодное Господу, Богу моему, деяние?
– Заколай! Заколай! – заполошно крикнула красивая Милка, впрочем, уже подурневшая от слез.
А они, эти славные мирянки, вернувшись в Иевус, разнесут весть обо мне, добром пастыре.
Нож лег ему в пясть, взлетел и опустился в другую.
Не о том ли в Законе непреходящем:
– Заколай!
Чжу Дэ поднялся с камня.
– Грех поднимать оружие против безоружного, – сказал он.
Руки сына Божьего продолжали играть бранным железом, подбрасывая и ловя его.
– Вот – нож, – сказал он. – Удобный, славный. Мне нравится с костяной рукояткой.
У Чжу Дэ снова поплыло перед глазами. Он покачнулся.
Хочешь, я дам его тебе, если, конечно, ты сможешь взять его.
Внезапно нож полетел по высокой дуге, которая заканчивалась у ног Чжу Дэ. Но сверкающий круг солнца и стали, дойдя до верхней точки дуги, остановился, словно перед незримым препятствием, полетел обратно, повторяя свой путь, и вонзился в землю у ног смуглого сына Божьего.
– О Адонай! – ахнула Милка. – О, господин и учитель наш!
Подруга ее только блестела из-под накидки круглым сорочьим глазом.
Чудо! Я видела чудо, своими собственными глазами! – она приложила ладони к глазам и затем открыла их миру.
Господин и учитель молчал – но только мгновение. Дрогнула линия рта.
– А! – сказал он и засмеялся. – Не взял.
Плеснул себе вина, медленно выцедил.
Игра усложнилась, и он тянет время. Потому что не любит проигрывать.
– Знаешь ли ты Храм в Иевусе? – он небрежно кинул пустую чашу вниз, под ноги. – Впрочем, откуда тебе, сыну человеческому, пришедшему ниоткуда… Да. Так я тебе скажу, что высоки стены его, – снова дрогнула в усмешке линия рта. – Может быть, ты, подобно ножу этому, воспаришь со стены, и ангелы будут поддерживать тебя под руки, если, конечно, так будет угодно Господу, Богу моему.
Он смеялся, но уже не добро, а пьяно, глумливо.
– Ты слишком часто всуе упоминаешь имя Господа, Бога твоего, – сказал Чжу Дэ.
– Моего, – повторил сын Божий и повторил с нажимом: – Моего, – он оживился. – А твоего? Или твой Бог – иной?
Зачем?
Последний день.
Сегодня.
– Поведай же о Нем, – он откинулся, лениво оглаживая смоляную бороду и прищурив жгучие глаза.
Чжу Дэ поднял голову. Не эта борода и не эти глаза виделись ему, а иные, совсем, полностью, напрочь иные.
– В начале было Слово, – тихо, сдерживая волнение, сказал он. – И Слово…
– Было убого! – подхватил незнакомец. —
Он смеялся. Смеялся.
– И «ах!» И «кха! «И «кху!»
Потом закашлялся.
Добрый был ягненок.
Старая сука. Ненавижу.
Потом недовольно,
Довольно! Довольно!
Чжу Дэ взялся за скалу. Кружилась голова.
– Что он говорит? – возмутилась Милка.
– Эй! – сказал сын Божий. – Я просил поведать о Боге.
Береника же приспустила полу накидки и теперь смотрела на него во все глаза.
Чжу Дэ снова поднял голову. Солнце перевалило на вторую половину пути. От набежавших легких облачков посвежело. Глаза его увлажнились.
Он был бы доволен.
– Хорошая сказка, – сын Божий зевнул и тоже посмотрел на солнце. – Но с плохим концом. Потому что благодать – она не на всех, знаешь ли о том? И еще скажу. Нет в твоей сказке врага рода человеческого, а ведь он пребывает, знаешь ли о том? Пребывает… Стало быть, сказка твоя есть ложь и суесловие. Но довольно.
– Он пребывает в мире, но не в Слове.
– Э? – он оглянулся, словно высматривая того вокруг. – В мире? – и махнул небрежной дланью. – Довольно, я сказал.








