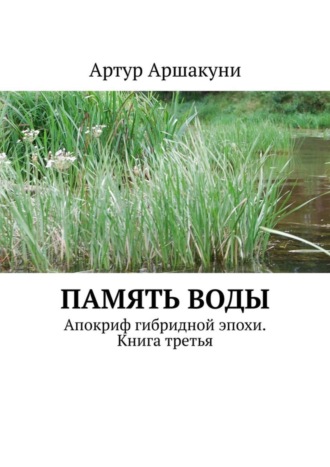
Полная версия
Память воды. Апокриф гибридной эпохи. Книга третья
Я напишу тебе, дружище Флакк, презанятное письмо.
– У них нет мирской власти? В этой несчастной стране людей нет. Все служители Бога. И теперь доблестные римские легионеры должны, задрав туники, гоняться по камням за одним слабоумным на почве веры иудеем?
Хорошо.
– У них есть Четверовластник. Делать ему нечего. Он и так выпил все вино в Иудее на два урожая вперед.
Славно.
Что скажешь, старина Флакк?
Вот пусть он и займется своим же подданным.
– От легата Второго легиона…
– Гай? Лонгин?
– Да, мой господин.
– Я им доволен. Ну?
– Ветераны легиона просят выплатить им положенную еще Божественным Цезарем надбавку за выслугу лет.
Какие грамотные у нас ветераны. Божественный Цезарь мог себе позволить многое. Не то, что…
Что – что?
Виноград чудесный. Что значит много солнца.
– Они ждут выплаты, чтобы уйти в отставку. Здесь, – Приск зашуршал свитком, – тридцать четыре имени. Квинтилий Лупинилл, Гиппарх, Бос, Пантера, Гай Мускилий…
– Гай Мускилий?
Он засмеялся. Сначала про себя, а потом вольно, от души, во весь голос, все больше заходясь в хохоте при виде прищура глаз растерянного Приска.
Довольно. Одышка.
Он поскучнел. Кинул в рот еще пару виноградин, чтобы освежить дыхание.
– Тут у тебя прямо бестиарий. Кого только не вскормила бедная волчица! И этот… как его… твой Гиппарх. 10
– Повелитель коней.
– Это что? Кентавр получается.
– Да, мой повелитель, – согласился Авл.
Один ветеран стоит трех-пяти новобранцев. Да еще из Второго, бывшего Десятого, прошедшего Германию.
– За какой срок им там что-то полагается?
– От пяти до восьми лет, мой господин.
– Ну, пару лет еще потерпят. Эмилию Лонгину отпиши, что я им доволен, но глаз с него не спускаю. Не ребенок, сообразит, что сказать своему зверинцу.
Он вяло похлопал ладонью о ладонь.
– Довольно. Домоуправителя ко мне. Писца оставь.
Приск вышел, забрав с собой свитки, и мгновение спустя впустив худого суетливого домоуправителя с печатью неимоверной озабоченности на скорбном лице.
– Подойди сюда, мой Амфион. Так. Скажи мне, Амфион, кто это?
Амфион растерянно перевел взгляд с хозяина на рабыню и обратно. Чтение оборвалось.
– Это твоя новая рабыня, мой господин, – сказал он осторожно.
– Негодный твой товар, Амфион, – он незаметно подмигнул слуге.
Амфион побледнел, пытаясь понять сложную мысль хозяина.
– Это… мой господин… – начал он, помогая себе руками. – Гречанка, юница, девственница… Знаток поэзии и музыки…
Зря подмигивал. Он поморщился.
Раб – это вещь, умеющая говорить.
– Я буду перечислять, а ты, Амфион, загибай пальцы. Это ты умеешь?
– Да, мой господин.
– Великолепно.
Он отщипнул еще одну виноградину и поднялся.
– Она не может найти по моей просьбе нужное место из стиха…
– Мой господин! – девушка задрожала. – Это не так.
– Вот, – удовлетворенно сказал он, подняв пухлый палец. – Она дерзка… Она прерывает чтение стихов без позволения своего господина…
Достаточно? Нет, еще что-нибудь.
Знаток поэзии? Славно.
– Да будет тебе известно, мой Амфион, что гекзаметр представляет собой шестистопный дактиль с хореическим окончанием.
Видел бы он сейчас себя со стороны. Сейчас это – вещь бессловесная.
А сейчас – телега, или вещь немая.
Дальше, хоть забери меня Маны, не помню. Хотя нет… Как это…
Насчет груди – тонко, тонко. Учись, старина Флакк!
Его даже жалко. Клянусь Марсом, или нет, клянусь сребролуким Аполлоном, его сейчас хватит удар от перенапряжения.
– Пусть выслушает меня мой господин… – рабыня прижала обнаженные руки к груди и протестующе затрясла головой.
Жасмин упал на мраморный пол.
– Сколько получилось, мой Амфион?
– Четыре, мой господин, – Амфион для верности поднял костлявый кулак с отставленным большим пальцем.
– Четыре. Это значит, – он вздохнул, – четыре удара розгами.
Девушка вскрикнула и повернулась к колонне, закрыв лицо руками.
Ах, какие трогательные лопатки.
Нет, дурак не понимает, мигай не мигай.
– Или, – сказал он внушительно, – или продажа. Ты слышишь, Амфион?
– Да, мой господин.
– Нам не нужен плохой товар. Как ее зовут.
– Лев… Левкайя, мой…
– Да. Так вот, и она, как вы все, должна знать, что я строг, но справедлив. И при своем домоправителе я говорю: розги или продажа. А слово свое держать я умею.
Не перестарался?
В самый раз.
Наступило молчание. Неслышно вздрагивали острые лопатки под прозрачной туникой, словно пойманная птица пыталась взлететь от мраморной колонны.
Он подошел совсем близко, встал так, чтобы загородить спиной бестолкового Амфиона.
– Правда, – сказал он вкрадчиво, – я не только строг и справедлив, но и милосерд. И в моих силах облегчить тебе наказание, ибо в этом случае розги будут в руках у меня. А я не люблю наказывать маленьких красивых девочек. Я
Одышка,
Птица перестала трепетать крыльями.
Успокоилась.
Он вернулся к ложу, отщипнул виноградину, кинул в рот, покатал языком.
– Ешь, – сказал он радушно. – Фрукты. Устала после стихов.
Молчание.
Бывает.
У животных это бывает. От страха некоторые из них впадают в оцепенение.
Он подождал еще немного, барабаня по столу.
– Ну? – сказал он наконец.
О боги, как же ее зовут?
– Ты выбрала?
– Да, мой господин, – сказала она еле слышно.
– Говори, говори, я слушаю.
– Продай меня, мой господин, – сказала она еле слышно.
Он машинально раздавил виноградину зубами и с отвращением сплюнул.
Экая кислятина.
– Ну что ж, – сказал он, – ты сама
Посмейся, Флакк, посмейся.
Ты старая лысая обезьяна.
Амфион, уведи ее.
Он прошелся по мраморным плитам, успокаиваясь. Заметил писца, старательно перебирающего свои рукописи.
– Продолжим, – сказал он. – «К Флакку».
И вернулся на место.
Уж того, что я объективен, ты не можешь отрицать.
– Худшим наказанием для хозяина является неблагодарный раб.
Подумал.
– Что? Не пиши этого.
Макрон.
– Пиши: из всех пороков человеческих наихудшим является неблагодарность. Написал?
– … Неблагодарность. Да, мой господин.
Давай отдохнем, старина.
Обезьяна. Но старая.
– Убери «Флакка». Приготовь ежедневник. Так.
Вздохнул.
– День прошел без происшествий. Читал Гомера. Занимался обычными государственными делами. Продал рабыню.
Подумал.
– Нет, про рабыню не надо. Достаточно.
И взмахом ладони удалил писца.
* * *
От Нового города через Предместье к Верхнему городу шла нищенка. Шла тяжело, останавливаясь поминутно и переводя дух не только из-за ведущей вверх, к Сиону, дороги, но и потому что было ей худо.
Мало ли нищенок в славном, богоизбранном Иевусе!
Но эта отличалась от прочих.
Во-первых, она была не местная. Но внимательный наблюдатель не отнес бы ее ни к самарянке, ибо не было на ней простой синей или белой накидки со скромной вышивкой, ни к сирийке при отсутствии покрывала на голове и яркой безрукавки, ни к эллинке, обычно одетой в платье в талию или сарафан с передником и закрывающей голову платком. На ней же была голубая когда-то юбка, сейчас вылинявшая от частых стирок, и голубая же и так же вылинявшая накидка. И никаких украшений, если не считать блеклого высохшего цветка, подколотого простой медной булавкой у левого плеча.
Во-вторых, она не предлагала погадать за деньги или просто кусок хлеба, не рассказывала душераздирающих историй о семерых детях, умирающих от голода и болезней, не читала стихи, не пела на заказ и не танцевала. Она даже не предлагала себя встречным мужчинам, хотя внимательный наблюдатель сделал бы вывод, что до того, как ее коснулась нужда, она была красавицей. Она просто говорила:
– Дай мне хлеба, добрый человек.
И, получив кусок, благодарила, называя подателя воистину добрым человеком. А того, кто отказывал ей, тоже благодарила, хотя добрым человеком больше не называла.
Но чаще она спрашивала о чудотворце, который ходит среди людей и лечит их от разных болезней, лечит бескорыстно, не беря за это ни лепты. Над ней смеялись, ибо считали, что нужда ослабила ее рассудок, и она хочет посредством чуда вернуть себе молодость, красоту, а с ними и достаток. Ее ругали, грозя побить камнями за кощунственные речи в священном городе иудеев. Но обычно презрительно отворачивались и проходили мимо молча.
Чтобы потом обернуться и посмотреть ей вслед.
Что-то в ней было, западающее в душу. Что-то было в ней, отличающее от несчетных других нищенок – с ввалившимися щеками, заострившимся носом, сбитыми в кровь босыми ногами и огрубелыми от работы и холодной воды руками.
И лишь пройдя несколько шагов, прохожий вдруг осознавал: глаза!
Глаза, в которых светилась надежда.
И тогда прохожий останавливался и оборачивался, чтобы посмотреть ей вслед.
Но в этот раз то был не прохожий, так что останавливаться ему не пришлось. Ибо то был слепец, сидящий у рыночной стены вместе со смышленым лобастым щенком, которого поводырем назвать было трудно. Щенок службу нес исправно: потявкивал на одних, принюхивался к другим, а в случае возможной, по его малому разумению, опасности прятался под руку слепца – опаленную солнцем костистую руку с крупной, как лопата, кистью. Предполагаемый наблюдатель обратил бы внимание на то, что щенок не виляет хвостом, не ластится и не выставляет брюшко встречным, то есть не выказывает приязни никому. А вот при беседе хозяина своего с нищенкой щенок повел себя странно: он не полез прятаться под руку, а застыл столбиком, как стоят в пустыне в отдалении караванной тропы суслики, всем видом своим показывая крайнюю степень любопытства.
Тому же предполагаемому наблюдателю было бы непонятно, как произошла их встреча. Потому что только что вот нищенка вышла к рыночной стене, привычно подняла ладони, а потом, словно обжегшись обо что-то, повернулась в сторону слепца. Слепец же, сидящий к ней спиной, начал разворачиваться к ней. Еще два удара сердца, и вот – они беседуют о чем-то, словно знали друг друга всю жизнь.
Щенок беседы их не понимал, но знал точно, что нищенка о чем-то просит его хозяина, а хозяин не соглашается и даже спорит. Голоса их действовали на него умиротворяющее; он ощущал себя словно у теплого брюха матери, окруженный братьями и сестрами. Но потом беседа подошла к концу, и хозяин, крякнув с сожалением, поднялся на ноги и стал показывать нищенке дорогу, уверенно, словно зрячий, поднимая руку к солнцу и отклоняя ее в ту сторону, где оно будет на закате. Потом он вручил нищенке узелок с хлебом и овечьим пахучим сыром и на этот раз остался победителем в новом споре. Наконец, она поцеловала его черную костлявую руку, а он поцеловал ее в лоб, и нищенка ушла, не оглянувшись ни разу.
Щенок побежал за ней, остановился, сделал круг вокруг хозяина, сел, подняв одну лапу и прислушиваясь. Потом подошел к хозяину и ткнулся носом в его ладонь. Ладонь сохранила запах нищенки – удивительный запах моря и горного ветра.
Ладонь хозяина легла на голову щенка.
– Вот так, Лобастый, – сказал хозяин и повторил: – Вот так.
Щенок застыл под его ладонью, боясь пошевелиться.
Хозяин повернул голову с незрячими глазами в ту сторону, куда пошла нищенка.
– Ты Рада, – снова сказал он. – Только я не рад, совсем не рад.
И вздохнул.
Нищенка же шла споро, не всякому мужчине угнаться, а отдыхала несравнимо меньше, так что обычные пять дней пути она преодолела в три, и замедлила шаг, только когда повеяло прохладой с вершины Фавора. Она замедляла шаг еще несколько раз, оглядываясь, словно с сожалением, на плавающий в знойной дымке горизонт, потом снова подхватывала узелок и шла дальше, к белеющим стенам, обозначающим границу между людьми и всеми остальными. Судя по тому, как неохотно встречные отвечали на ее вопросы, как торопливо уходили прочь женщины, словно вспомнившие о срочных делах, и как подозрительно поджимали губы мужчины, каменея лицом, границу эту нищенка не пересекла, хотя и шла уже среди заборов и стен. За ней увязались вездесущие мальчишки, обозвав ее для начала «самарянкой». Молчание ожесточает; затем последовали «нищебродка безродная» и «побирушка приблудная». Самый же из них отчаянный подбежал и дернул ее за рукав платья. Тогда только нищенка обернулась к мальчишкам лицом, выражающим недоумение и боль. Но не слабость, ибо, встретившись с ее глазами взглядом, мальчишки теряли желание придумывать и выкрикивать обидные слова. Потеря обидна; мальчишки перешли поэтому к швырянию камней издалека, но удивительное дело – камни пролетали мимо, далеко от нищенки, что бесило самых настырных, а самых метких приводило в ярость. Нищенка поравнялась с десятком овец, которых загоняла в ворота с распахнутыми створками и со старой, ушедшей в землю скамьей у входа девочка с хворостиной в руках. Камни попали в овец, и начался переполох. Девочка бросилась во двор, крича:
– Бабушка! Бабушка!
Мальчишки разбежались. Обиженные овцы успокоились и сами потянулись в ворота. Оттуда выглянула нестарая еще смуглая женщина, оглядела нищенку и улыбнулась.
– Цела, девочка?
Нищенка почувствовала огромную усталость.
– Ты нездешняя, – продолжала женщина, придерживая высунувшуюся из-за ее бедра девочку с хворостиной в руке, – и не самаритянка, и не сирийка. Даже на эллинку не похожа.
– Не похожа, не похожа, – подхватила девочка.
– Из далеких краев, – продолжала женщина. – К нам или дальше куда?
– Не знаю, – сказала нищенка хрипло.
– Суламитт, принеси гостье воды, – строго сказала девочке женщина и, дождавшись, когда та уйдет, продолжила: – Беда тебя гонит или радость?
– Любовь, – прошептала нищенка.
– Это – великая радость, если она разделенная, – сказала женщина, – и большая беда, если безответная.
Она ждала продолжения, но его не последовало.
Вернулась Суламитт с чашей воды и подала нищенке. Та взяла чашу, долго смотрела на нее, поворачивая из стороны в сторону и шевеля беззвучно губами, потом отпила и с поклоном вернула.
– Ты не скажешь, кто он? – спросила женщина. – Может быть, я могу помочь? Или он тоже нездешний?
– Нездешний, – сказал нищенка.
– Извини, – вздохнула женщина, – но в наших краях таких нет. Чужаки запоминаются. Ты опиши его. Какой он?
– Он? – переспросила нищенка и словно бы удивленно посмотрела на смуглую женщину. – Он… – она задумалась. – Он выше неба, он ярче солнца, он…
– Ты описала его душу, – улыбнулась женщина.
– Он светлый и он красивый, – сказала нищенка и внезапно заплакала.
Она не закрывала лицо, не отворачивалась. Она стояла, прямо глядя перед собой, только по лицу ее горошинами бежали слезы, оставляя на щеках светлые дорожки.
Женщина привлекла ее к себе и мягко склонила ее голову себе на плечо.
– Милая, – сказала она, – хорошая… Сильно же ты его любишь.
Нищенка подняла голову.
– У него родинка на правом плече, – сказала она.
Женщина зажмурилась, словно от яркого света. Лицо ее посерело.
– Что ты сказала? – наконец спросила она.
– У него родинка на правом плече.
Женщина долго молчала. Потом, улыбаясь не к месту, осторожно погладила нищенку по плечу.
– Ягненочек? – глаза ее были обращены внутрь, словно она разговаривала сама с собой. – Светленький, о мой Иошаат? Ягненочек?
Нищенка осторожно сняла руку женщины с плеча и сделала шаг назад.
– Он не ягненок, – тихо сказала она.
Женщина внезапно вскинула на нее глаза и схватила за руку.
– Ты ошиблась, – сказал она. – У него родинка на левом плече.
Нищенка сделала еще шаг назад.
– Да, – сказала она.
– На левом, ты слышишь, на левом! – женщина почти кричала.
Испуганная Суламитт потянула ее за руку.
– Бабушка, пойдем!
– Да, – сказала нищенка, – на левом. Я ошиблась. А теперь я пойду, если ты не против.
Женщина вздохнула.
– Люди говорят, что видели его на берегах Ередана, – сказал она. – Иди вот так, по этой дороге, – она показала рукой, – обойди Фавор и иди дальше, пока дорога эта не раздвоится. Тут как раз Афула, селение в десяток домов и колодцем. Направо будет Эль-Леджун, налево – Наин. Но тебе надо прямо, туда, где Безан, а он-то как раз на берегу Ередана. Это самая короткая дорога. Запомнишь?
– Запомню, – сказала нищенка.
– Безан. Прямо, никуда не сворачивая.
– Благодарю тебя, – сказала нищенка и торопливо пошла прочь.
– Бабушка, бабушка, какая у ягненка родинка на плече? – спросила Суламитт.
– Да, да, – женщина кивала, не слыша Суламитт.
– Бабушка, ты, что ли, не слышишь?
– Да, да.
Женщина внезапно бросилась по дороге, добежала до угла дома, приставила ладонь ко лбу.
Никого.
Она вернулась к Суламитт.
– А почему ты говорила с дедушкой Иошаатом? Ведь он давно умер!
Женщина взяла девочку за руку.
– Пойдем в дом.
И, закрывая за собой ворота, она добавила шепотом:
– Он умер только один раз.
* * *
Зачем?
Подходил к концу срок, отведенный ему в пустыне. Завтра. Завтра.
Пустыня. Она встретила его не гостеприимно, это верно, но и не враждебно. Она встретила его равнодушно, и это было хорошо. Она приняла его – как необходимую данность, как результат сцепления неисчислимого множества случайностей, из которых соткан этот мир, как приняла бы пугливую серну, оставляющую за собой прерывистую цепочку следов от куста к кусту, неподвижную змею на плоском камне, неподвижностью своею опровергающую жалкую мудрость двуногих о том, что жизнь заключается в движении, ибо вживается, живет и выживает в ней не тот, кто движется, а тот, кто не совершает лишнего движения, цена которому и равняется жизни, или ковер из диких тюльпанов, устилающий землю до горизонта весной, когда случается обильная осадками зима, – чтобы так же равнодушно летом предоставить полуденному ветру вымести почерневшие от зноя цветочные трупики.
И он принял ее – земное, от мира идущее бытие; принял привычно и терпеливо. Он пропускал пустыню через себя, впитывал ее запахи подрагивающими ноздрями, глотал раскаленный воздух медленными, в три приема, вдохами, смаковал вечернюю прохладу и утреннюю свежесть и избегал низин во время ночлега, потому что туда раньше пробиралась ледяная сырость и позже уходила. И это был от века идущий способ обретения опоры и смысла в этом мире – смирения и сродства с ним. И тогда не нога огрубелой подошвой ступала на кварцевую россыпь, а окружающие холмы и скалы разворачивались таким образом, чтобы подставить под ногу именно эту россыпь – здесь и сейчас, и не глаз обозревал окрестности, а весь горизонт сгущался и съеживался, чтобы сияющей вспышкой преломиться в хрусталике, спрятанном за выгоревшей от солнца синевой зрачка, и тогда серна не поднимала головы от искрящих кристаллов соли и только пряданьем ушей сообщала, что ведает о нем, и тогда плоского камня вполне хватало двоим, чтобы переждать на нем полуденный зной, двоим – человеку и змее, не мешая друг другу.
Но берегись, человек! Ибо горе тебе, если, сроднившись с пустыней, ты позабудешь о своем человеческом начале. Пустыня сначала разведет костер в твоем горле, вздует веревками жилы на истощенном теле, расплавит твой мозг, а потом выпьет тебя, как выпивает паук приземленную тенетами муху. Что` ты, что` пустыня? Знай это, отдаваясь пустыне, а белеющие кости, где теперь поселились трудолюбивые осы, да послужат тебе предостережением и напоминанием и о тех, кто забыл и не смирился, и о тех, кто смирился и забыл.
Он не забывал этого.
Он со смирением принимал то, что лежало под его ногами. Он с благоговением принимал то, что высилось над головой. Но то в нем, что находилось между землей и небом, донимало и изводило его, не давая покоя, лишая сил и воли.
Зачем?
Он прошел сушу великую и бескрайнее море, преодолел величественные горы, глухие леса и обезвоженные пустыни. Унизанная костяными квадратиками шелковая нить, вернее, не нить даже, а след ее, мерцающая тень на волнах пространства, привели его сюда, откуда он начал свой путь. Как зыбко все. И вот он здесь. Беспомощный, как тот далекий пятилетний мальчик под ногой слона. Только сейчас он не мальчик, а перед ним – и он знает это – не слон, но Левиафан. Как зыбко все.
Он, безвестный, явившийся ниоткуда, всегда был зн`аком перемен, которые преобразят этот постаревший мир.
Знал ли он это?
Да.
Окружающие его люди жили терпеливым ожиданием его чудесного преображения.
Знал ли он это?
Да.
Это знание жило в нем всегда. Он сводил все к шутке или сердился, когда ему говорили об этом. Он уходил – в себя, когда ощущал неколебимую длань этого знания на своих плечах. Он уходил – от себя, от тоски и ужаса перед Левиафаном.
С мечом на белом коне?
Нет, нет, нет!
Обратить мир в руины, чтобы на них воздвигнуть новый мир, сверкающий алмазами?
О, нет.
Он испытал восторг и потрясение, когда это знание ослепительной вспышкой озарило его, излившись в одно-единственное понятие, одно-единственное Слово. Слово, которым можно изменить этот мир. Без насилия и крови. Как семя обращается в росток, кучнеет корнем, наливается силой, и вот – могучее древо, алилуйя пребывшему семечку и осанна грядущим.
Слово – Им же самим.
Словом.
Вот – он здесь. Откуда так давно начался его земной путь.
Если верить шелковой нити с нанизанными на ней кусочками кости.
Если верить словам человека, настолько мудрого и благородного, что порою кажется, что его и быть не могло, и не было, а только приснилось.
Если верить толчкам своего сердца.
Сердце – он знал – это когда больно.
Он здесь.
И ему больно. Завтра.
Занятый своими бедами старик.
Мрачный нелюдим на краю селения. Га… Да. Гариод.
Усталый солдат у ручья. Иноземный. Иноплеменный. Их боятся и называют варварами. Солдаты тоже называют местных жителей варварами и, по-видимому, боятся тоже. Все против всех. Бывает ли Зло совершенным? Безусловно. Мрак – это полное отсутствие света. А Добро? Безусловно нет, ибо у света бесконечно много степеней яркости. Безусловно нет, ибо бесконечно восхождение к нему по ступеням совершенствования.
Солдаты. Крестьяне. Старики. Дети. Люди.
Что` им его Слово?
Сердце – это когда больно.
Он здесь.
Зачем?
Здесь кузнечики – кимвалы. Им несть числа. Их стрекот сливается с жужжаньем ручных мельниц, коим тоже несть числа. Совершенное Зло и несовершенное Добро.
Сочти – и получишь.
Я знаю. Смерть.
Забавно.
Я уже говорю так же. Или я разучился считать?
Хлеб.
Дом.
Сверчок. Уют и покой.
Кизил, отягощенный бременем своим.
Дом.
И мор, и глад, и кара небесная, когда им воистину несть числа.
Дом.
О, матерь моя.
Оскал замершего в полете тигра. Завтра. Тростник поймал порыв ветра. Низко летают чайки над маслянистыми бурунами. Ждет конского копыта дорога. Сырое предгрозовое небо вдавлено в море, как лепешка в миску с растопленным маслом. Жарко. Здесь мой дом.
Здесь?
Здесь я приму смерть.
Старик, омывающий души водою. Старик? Без бороды – лет на пять старше. Старик? Его старит вода. Память воды. Стихийный ведун. Сам, без чужого ведома, шестым чувством – у самого порога. Один шаг.
Жарко.
Зачем?
Он садится на камень в тени. Глаза ушли вглубь глазниц; они теперь совсем черные. Скорпион встал у бронзовой пятки, переступая члениками ног, выгнул упруго жало и озабоченно убежал в камни.
И странный, смуглый, присевший у самой реки. Сильный.
Ждал?
Жарко.
Сорок дней. Завтра.
Откуда?
Египет. Это хранят в Египте. Шахеб говорил. Да. Только по истечении сорока дней и ночей умерший считается безусловно и окончательно мертвым – но не раньше.
Жара – это тот же холод, только наоборот.
Где ты, голый мальчик у проруби, накрытый куском заледеневшего полотна?
Где те звезды?
Сердце – это когда больно.
Он сидит неподвижно, пытливо глядя перед собой. Большеголовый муравей поднялся по ноге к колену, пробежал по накидке, перебрался на запястье, обогнул большой палец и спрыгнул, довольный своей удалью, усатый щекотун.
Потом несколько холодных ночей. Эта ночь тоже будет холодной. Надо идти. Муравей. Завтра. Надо идти. Женский смех. Солнце садится стремительно, как это бывает только на открытых взору пространствах. Медный пыльный диск. Остывающая жаровня. Как быстро свежеет воздух. Только камни хранят тепло. Пустыня – это незаполненность. Свобода. Одиночество. Одинокость. Город – полнота. Несвобода. Полон. Одинаковость. Одинакость.








