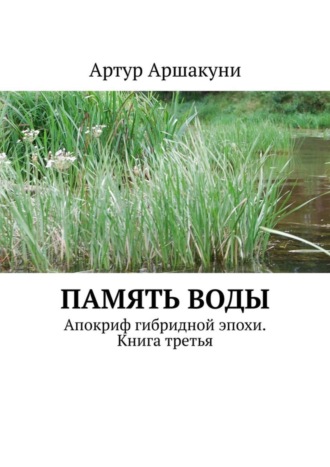
Полная версия
Память воды. Апокриф гибридной эпохи. Книга третья
Оглянулся на притихших женщин.
Вам пора возвращаться в Иевус.
– О, господин и учитель…
Господин и учитель ваш велит вам возвращаться. Срок подходит к концу и, – он понизил голос, хохотнув, – не гоже сыну Божьему являться в мир из пустыни под руки с девами. А потому… Я пришел сюда один, я и вернусь один.
Женщины засобирались, охая и придерживая сползающие обрывки одежды.
Идите вслед за солнцем. К закату выйдете к Ередану, прямо будет мост Адама, а ниже по течению – мост Абд Улла, а за ним – дорога на Пальм. Ну, дальше разберетесь.
Он бросил быстрый взгляд по сторонам, на Чжу Дэ, вниз, на разбросанные деньги.
Вот, берите, это вам.
Он сыпанул горсть монет Милке, зачерпнул еще.
– Нет, – торопливо сказала Береника. – Я не возьму денег.
Она заслонилась рукой от протянутой горсти с медяками и быстро пошла прочь.
– Я возьму за нее, – сказала Милка, скривив красивые губы в злой усмешке, и подставила руки под монеты.
И заспешила вслед за подругой.
Сын Божий сел, отдуваясь. Швырнул на скатерть остатки монет. Вскочил. Бросился за женщинами. Остановился. Сплюнул. Вернулся. Зашел за камни, долго звенел, облегчаясь. Сел на свое место. И снова вскочил.
– Эй!
Он был один.
Сын человеческий ушел. Далеко белела его накидка. Он шел иным путем, правее солнца, беря круче к северу.
– Киннереф, – пробормотал сын Божий.
Поднял кувшин, потряс его и грохнул о камень. Потом напрягся, ухватился за нож. Сторожко, по-звериному повел носом. Встал. Прошел, ступая негнущимися ногами, по скатерти, по разбросанным медякам, кускам мяса и глиняным черепкам, туда, где сидел Чжу Дэ. Пригнулся, принюхиваясь.
– А! – сказал он. – Ладно. Поглядим.
И с силой вонзил нож по самую рукоятку в землю, еще сохранившую слабый запах свежевыпеченного хлеба.
* * *
Он жил среди собственных нечистот, расстояние до которых равнялось длине цепи, к которой он был прикован.
Он пил собственную мочу, когда о нем словно забыли и он несколько дней не получал своей и без того скудной плошки с протухшей водой из ближайшей ямы. Стражники сторонились его, как зачумленного.
Он не замечал этого.
Худо было рукам. Они, иссушенные, растрескались и кровоточили.
Худо было телу. Кожа иссохла, как на дохлой ящерице, исклеванной птицами, и покрылась струпьями.
Накидка его давно уже держалась на нем вопреки представлениям об одеянии и вполне могла назваться чудом, задумайся он над этим. Потом же, когда его брали, и вязали, и волокли на цепи, она превратилась в обычные лохмотья, какие встретишь на любом нищем, а кого в этом мире удивишь нищим?
Он не замечал этого.
Исхудалыми костлявыми пальцами, напоминающими палочки писца, свернутые в тонкие свитки, он перебирал песок под ногами, набирал в горсть и пересыпал его привычными движениями, и шелестящая еле слышно струйка постепенно темнела, набухая, и продолжала вытекать между пальцев, но уже беззвучно.
Он улыбался.
Он сидел посреди нечистот и улыбался.
Был ли он счастлив?
Да, как счастливы живущие в неведении того, что` есть счастье.
Он узрел Его.
Был ли он несчастлив?
Да, как несчастливы осознающие всю малость отмеренной им меры – упований и надежд.
Он не узнал Его.
А потому давно был готов встретить муки и смерть.
Смерти не было. Смерть являлась прихотью тех, сокрытых за дворцовыми стенами, наделенных властью, облаченных в виссон, странным условием странного торга, в котором к праведности прикладывалось количество служек в Храме, а покаяние следовало разделить на тук приносимой жертвы.
Торг затягивался. Это не было мукой – это было подготовкой к мукам, смакованием, неторопливым предвкушением их.
Мукой были собственные мысли его.
И сны. Сны, в которых мертвый голубь носился над темными водами и глядело на него в упор из обезображенной глазницы чудом уцелевшее око.
Он с радостью отказался бы от света солнца, он согласился бы отречься от имени своего, он скрежетал бы зубами и выл одичалым псом, но провел остаток жизни без воды, – только чтобы узнать, точно узнать: на кого он излил влагу очищения в тот день?
Кто ответит?
Ученики?
Раз в день ему приносили еду – окаменевшую лепешку, которой погнушался бы и вечно голодный раб. И питье в кособокой плошке, неудаче гончара или шутке его из остатков глины, на три глотка, для забав детворы. Иногда, а в первые дни постоянно, сюда сбегалась дворцовая челядь посмотреть, как безумный отступник будет есть. Осколки выбитых при поимке зубов кровоточили, как пальцы его, и не справлялись с каменной лепешкой.
Не назвал ли он сам себя Предтечей, приуготовляющим пути Тому, кто идет за ним? Ученики – это устрояние, быт, лад. Чинопочитание. Любимцы и ослушники.
Вымачивать ее – было жалко воду. Он ломал лепешку птицам. Они ели, гадили. А воду… Тут и начиналась потеха. Потому что безумец набирал воду в рот, совсем как птица и долго катал ее во рту и ласкал языком, склонив голову и вслушиваясь в себя. Поношение?
То, что было так ненавистно ему и от чего он ушел.
Посмешищем – да, был, особенно первое время, так что страже пришлось отгонять чернь голосом и пинками. Потом это приелось, как приедается черни все, что не связано с едой и продолжением рода, и он остался один на солнцепеке в углу двора, если не считать неотступного стражника.
Ушел? Ведь они были, как он ни противился этому. Он не желал быть ни овцой в стаде, ни пастырем. А они приходили – глазеть, как и эта чернь. Он рвал голос, мыча, вымучивая наболевшее, словно роженица плод свой. Они слушали. Потом уходили. Оставались те, кому идти было некуда и терять нечего. Зато как велик выигрыш! О, искус. Паршивые овцы. Есть, есть на скрижалях небесных Его прописание о том, что на зов откликаются прежде всего лихие и лукавые, а тихие робеют и остаются в стороне.
Хозяевам дворца он тоже не давал покоя, хотя и не вышли во двор ни разу. Правда, он невольно замечал, как, словно невзначай, колеблется занавес в окне. Пустое! Пустое!
Не так ли в котле при варке мяса образуется пена, которую рачительная хозяйка убирает вон? Не так ли при волнении вод на поверхность всплывают грязь и сор? Ученики.
– Ха-Мабтил.
Он не пошевелился. Ветер играет в бороде. И в ушах.
– Ха-Мабтил.
Стражник.
Стражник?
Он отследил глазами тень. Тень поплясала на зловонном полукружье, двинулась дальше и остановилась у его ног.
– Я слышал тебя там, у Ередана, Ха-Мабтил.
Зачем ученики Предтече? Если Он явился, Предтече уходить. Что` тогда ученики? Если нет Его, Предтече уходить все равно. Ученики? Чему он может их научить?
– Ты смелый человек, – торопливый шепот, тень речи, был подобен той, что скользила по песку у его ног. – Я же трус. Ты прикован к цепи. Я же охраняю тебя.
Он, отступник, отринувший все пребывшее учение?
Мне жаль тебя, верь мне, да. Остальные стражники смеются над тобой, но мне жаль тебя.
Тень дрогнула и двинулась дальше по кругу.
Терпению. Терпению и гневу. Терпению, гневу и памяти воды.
И снова закачалась у ног.
– Там, у дворцовых ворот, двое, с виду братья. Оба губастые, рослые, рукастые. Я видел их подле тебя. Не бойся, – заторопился голос, – я не выдам. Я могу им передать от тебя слово.
Тень снова двинулась по кругу.
Тень двинулась по кругу, а он вспомнил. У стражника меткий взгляд. Рослые, рукастые. И губастые вдобавок. Да. Старший – огонь. Чуть что – за нож. Что кому привычнее. Слово. Плуг. Камень. Деньги. Вот – нож. Шеммах. Младший – вовсе молчун. Даже имени не сказал. Что же у него за прошлое, если даже имя его тяготит?
Ученики.
– Я жду, Ха-Мабтил, – мерно, в сторону, в такт своим шагам проронил стражник.
Пусть спросят.
Нет.
Нет.
Спасенному – спасену быть.
– Пусть уходят, – сказал он трудно, ворочая языком по кровоточащим осколкам зубов. – И живут промыслом родителя своего.
– Я передам, – шепнул стражник и тут же зашипел: – Идут! Сюда идут!
Это была она. Царица. С толпой приближенных, мамок, нянек, рабов и рабынь, с целым выводком наглых и уверенных в своей наглости кошек.
Это была царица, но не она. Ибо не узнать было в этой раздавшейся человеческой самке, прячущей за птичьими перьями зоб, а за камнями, правлеными в металл, – увядшие млечники свои, ту, о которой шушукались в Риме, ту, которая возревновала к другой, жившей задолго до нее, царице иного царства, слывшей непревзойденной красавицей, ту, прихоти которой легко преступали законы, и тем покоряли – до тех пор, пока это были законы естества, а не неба.
Волчица.
Сытая волчица.
Мановением руки она остановила слуг и подошла одна – к кругу, образованному человеческими испражнениями, не замечая их, как и стражника, выпучившего от усердия глаза.
– Какая встреча! – сказала Ирида. – Как будто ничего не изменилось.
В руке у нее был серебряный кувшин тонкой индийской работы.
– Мне решать твою судьбу, – сказала она и покачала сыто булькнувший кувшин, – как участь этой воды.
Она слегка наклонила кувшин. Драгоценная влага жаркой струйкой пролилась, дробясь и прыгая каплями в пыли.
– Ну?
Она сильнее наклонила кувшин.
– Слово – вода. Слово – жизнь.
Пела вода. Пела, смеясь, свое, вечное – о мимолетности всего сущего.
– Ну?!
Он улыбался.
Последние капли впитал алчный песок. И тогда он издал непотребный звук. Чтобы не осквернить уста.
Лицо Ириды пошло пятнами. Она схватилась за грудь.
– Клянусь лоном своим, ты умрешь! – сказала она. – Ты умрешь, но я сделаю так, что твоя смерть отныне станет поучением всем безумцам и маловерным.
И увела с собою свиту.
Вышла – царица.
Говорила с ним – человечица.
Ушла – дьяволица.
Он долго сидел, раскачиваясь, и придерживая цепь, чтоб не мешала жлезословием своим иной боли, зреющей внутри. Души не было. Была бездна. И боль носилась над бездною мертвым голубем. И когда боль прорвалась наружу, он простонал:
– Ты ли Тот, Кого мы ждали?
Снова сидел, окаменев.
Потом лицо его просветлело. Он поднял голову. Он встал. Он был готов. Он улыбался. Он запел – неумело, неуклюже, но старательно, возмещая неумение громкостью. Разве не глас Господа прогремел над водами, над водами многими? Итак, он громко запел. 21
* * *
Иногда бывает, что мелкое и невзрачное в жизни преисполнено житейского шума и показного блеска. Переживаешь, суетишься, чтобы удостоиться громокипящего, а на поверку оно сравнимо разве что с овечьим горохом. Бывает и наоборот, когда важное и значительное вступает в жизнь человеческую незаметно и тихо. Умудрись разглядеть в пестроте дня сегодняшнего. Оглянешься спустя много лет на свое прошлое и вздрогнешь – вот же где оно было, оно, то самое, твое, твое истинное!
Не умение ли различать первое от второго является наиболее важным для человеков?
А было так.
Чжу Дэ обошел Киннерефское озеро с востока, пройдя землями Десятиградия и Трахонита. Скалы и камни. Изрезанная линия горизонта не была похожа ни на что им виденное до сих пор. Суровая, дикая природа обладала странным очарованием. Места здесь были глухие, разбойные. Несколько раз он слышал в ночи посвист, и тут же за ним – ответный, за спиной. Раз из камней к нему вышли неприметные личности, оглядели с ног до головы и спросили, кто таков. Чжу Дэ ответил, улыбаясь, что он – богач и может поделиться с ними. Его окружили, стали требовать показать свое богатство. Чжу Дэ сказал, что богатство его нельзя увидеть, ибо оно – у него в голове. Главарь приказал отпустить блаженного и на прощанье оделил парой медяков и куском хлеба.
В Десятиградии было повеселее. Ровные поля, ухоженные сады. Разные племена и народы населяли его. Иногда встречались целые селения эллинов, сирийцев, иудеев и снова эллинов и сирийцев. Определенной цели у Чжу Дэ не было. Он просто шел, смотрел, отдыхал. Его не останавливали. Иногда давали хлеб. Он, поблагодарив, брал. Встретилась шумная свадебная процессия. Его угостили вином. Он поклонился людям.
Потом слева бирюзовой полосой сверкнуло озеро. Потянулись иудейские поселения. Чжу Дэ шел, размышляя, почему народ, получивший Откровение о Боге, совершенное, незамутненное, очищенное от всяких ненужных, земных и потому пребывающих подробностей, в котором нет образа, нет формы, а есть только суть Его, – почему народ этот столь ревностно скрывает Его и делит все человечество на своих, приобщенных к Нему, и чужих, варваров, погрязших в идолопоклонстве? Он вспомнил разговоры с Шемаимом. Да, для рассеянного по свету народа вера в своего Бога – единственное, что спасло, помогло устоять, сохраниться, не сгинуть в пыли веков. Да, это так. Тем более, что были рабство, плен, исход. И снова рабство, плен, исход. И все же… Одним этим не объяснить закрытость народа. Как можно поймать и удержать в горсти солнечный луч? Отгородившись ото всех незримой стеной, не рискует ли народ – целый народ! – оказаться в положении человека, запертого в тесной и душной комнате, без притока свежего воздуха? Откровение? Да. А затем – толкование Откровения? А затем – толкование толкования? А затем – пояснение к толкованиям? А затем – толкование к пояснениям толкований? Ах, Шемаим, Шемаим! Славно можно было бы сейчас поспорить. Хотя, что тут спорить? В этом пространстве, окруженном незримой стеной отчуждения и неприятия любой инаковости, в этом безвоздушном пространстве чахнут ростки нового. Мысль продолжает ходить по кругу. Не отсюда ли напряжение в людях? Не отсюда ли ожидание конца и Страшного суда? Не отсюда ли душевные муки? Шемаим! Бог – един и неделим. Как можно спрятать Его среди одного народа?
Снова потянулись дома. Тишина. Редко выглянет пожилая женщина и, увидев обезображенное шрамом лицо, поспешит прикрыть ворота. Мальчишка с горстью вяленых фиников. Чжу Дэ спросил его, что это за город. Мальчишка скрылся за смоковницей и оттуда только ответил: Тель-Гум. Чжу Дэ подмигнул ему здоровым глазом и пошел дальше.
Дорога вывела на площадь с приметным зданием из белого камня. У входа стоял люд, сидели несколько нищих. Чжу Дэ подошел ближе.
Из-за угла показался худо одетый старик, маленький, словно внезапно постаревший ребенок. Он шел, опустив голову и стараясь не смотреть по сторонам.
– Наум! Наум идет, – послышалось в толпе. – Эй, Наум!
Старик затравленно замер, не поднимая головы. В толпе засмеялись.
– Идет Наум, смеется Тель-Гум! – закричали мальчишки.
– Скажи нам, Наум, небо – синее-синее?
– Небо синее-синее, синее-синее, – тихо прошелестел старик.
– Бог – далеко?
Старик задрожал.
– Нет! Нет! Близко-близко.
– Ты ошибаешься, Наум, – с игривым сожалением сказали из толпы, – бесы близко.
Старик дрожал все сильнее. Потом он упал на колени и пополз ко входу в здание. Там стояли – довольные, уверенные в себе люди.
– Куда же ты, Наум? – смеялись. – Тебе нельзя в бет-ха-кнессет. Разве ты чист? 23
– Чист-чист! Чист! – старик ударил себя невесомым кулачком в грудь. – Чист!
– Бесы кругом, а ты чист? Так не бывает, Наум. Бесы!
– Бесы! – старик задергался. – Бесы!
Он попытался еще раз пройти в здание.
– Да уведите же его! – раздался чей-то укоризненный голос.
Но было поздно. Старик упал в пыль под ногами людей и завыл.
– Бесы!
Слюна длинной клейкой нитью стекала на бороду и пузырилась в углах оскаленного рта.
– Бесы!
Он катался по земле. Толпа расступилась. Он оказался под ногами у Чжу Дэ, встретился с ним бессмысленным стеклянным взглядом и вдруг замер.
– Глаз! Глаз! – исступленно выкрикнул он. – Небо синее-синее. Близко-близко. Бог! Бог!
Чжу Дэ нагнулся над ним, удерживая его взглядом на месте. Люди приблизились, заинтересованные неожиданным продолжением.
Вот она – невидимая стена.
Как же должны сузиться эти стены, чтобы превратить человеческий ум в жалкое посмешище! Один шаг – за стены.
Вера?
Вера ли для жизни? Или жизнь для веры?
Чжу Дэ смотрел в упор, не мигая, в глаза старика. В них на мгновение мелькнуло осмысленное выражение.
– Не смотри так! – тонко заверещал он. – Оставь…
Чжу Дэ выпрямился, продолжая удерживать взглядом взгляд старика, и вот – старик медленно приподнялся на локте и сел в пыли.
– Прежде чем войти, ты должен выйти, – негромко сказал Чжу Дэ. – Знай это отныне.
Он сложил пальцы, накладывая на старика защитные вибрации, – раз, и другой. Тот зашевелился, подтягивая под себя разбросанные ноги, а потом как-то внезапно и по-детски заплакал. Это было неожиданно. Толпа волной подалась вперед, отхлынула назад и разбилась на кучки.
– Вы видели? Нет, вы видели?
– Что он сказал?
– Он сказал: выйди.
– Науму?
– Открой глаза и посмотри. Наум – вот он. Куда ему выходить?
– Куда?
– Э, что с тобой говорить? Еще один Наум.
– Бесам.
– Что-о?
– Ты что говоришь, дурачок!
– Вы видели? Неужели же не видели?
– Он повелел бесам выйти.
– Он?
– Кто он?
Плакал Наум.
Чжу Дэ поклонился людям и пошел дальше. Несколько старцев потянулись было следом, но потом остановились и, негромко переговариваясь и качая бородами, смотрели вслед. Мальчишки, вездесущие мальчишки увязались за ним. Чжу Дэ узнал среди них того, кто ел финики, хоронясь от него за дерево. Снова подмигнул ему. Тот смущенно улыбнулся в ответ и стремглав побежал с приятелями вперед.
Тель-Гум прощался с ним – садами и просторными полями, сбегающими к прибрежным скалам. Тонконогими пальмами, словно девочки, застигнутые порывом ветра. Тель-Гум заканчивался здесь – или начинался – постоялым двором. За двором этим кривился небольшой овраг, куда сваливали мусор и отбросы человеческие и постоянно крутились чайки. Спиной к нему сидела нищенка в окружении чаек, в голубой накидке, подол которой трепал погожий ветер с озера. Нищенка, которой недоступны кров и еда на этом постоялом дворе. Все как обычно.
Чжу Дэ поднялся на холм и оглянулся на Тель-Гум в последний раз. Россыпью камней белели далекие дома; постоялый двор был ближе, но и он отсюда казался таким же камнем, только покрупнее. Голубело пятнышко накидки нищенки в окружении чаек.
Чжу Дэ пошел дальше.
Из разговоров со встречными он знал, что самым приметным местом здесь считается гора Фавор. По ней отмеряют расстояния в Галилее. Значит, Фавор… В нем зрело и наливалось силой ощущение, вернее, не ощущение даже, а спокойное знание, что и гора, и озеро эти важны для него в совсем близком будущем, но еще не решил для себя, в какой последовательности в этом будущем войдут в его жизнь гора и озеро.
Гора.
И озеро.
Чжу Дэ тряхнул головой, отгоняя непрошеные воспоминания, и оглянулся. Тель-Гум уже скрылся за холмом. Чжу Дэ пошел дальше, но через несколько шагов остановился.
Голубая накидка.
Она не местная, нет.
И не сирийская. И не эллинская.
Иудея – перекресток мира. Здесь могут встретиться любые говоры, нравы и одеяния.
И не египетская. И не…
Довольно.
Чжу Дэ сделал еще шаг. И снова остановился.
Дело не в накидке. И не в голубой накидке.
Чайки.
Да, чайки. Они не кружили и не кричали, не дрались и не бранились, как это всегда бывает в местах, где есть пища, но ее не хватает на всех. Они сидели вокруг нищенки в голубой накидке молча.
Так не бывает.
Он шел назад, продолжая размышлять о странном поведении чаек, и уже издалека увидел, что голубое пятнышко на месте, а чайки по-прежнему окружают его. Да, они сидели молча, как будто все это ему привиделось во сне, но не обычном, а весьма странном сне. Он подходил к нищенке сзади, со спины, и видел сначала ее плечи, по которым прыгали под порывами ветра черные волосы. Потом то ли дорога вильнула, то ли его повело в сторону, но он оказался не сзади, а сбоку, и увидел, что у нищенки на коленях чайка, и нищенка что-то делает с ее крылом, а чайка сидит у нее на коленях спокойно, выставив крыло, а вся чаячья ватага молча наблюдала за происходящим.
– Излечивая птицу, ты окрыляешь свою душу, – весело начал Чжу Дэ.
Нищенка повернула голову. И время остановилось.
Это была Рада.
* * *
– Пресветлый, вызванный тобою центурион…
– Зови, – Эмилий Лонгин раздраженно махнул рукой охране.
Полог просторной палатки легата колыхнулся.
Вошедший Пантера хорошо владел собой и ничем не выразил своего удивления, хотя в глазах его заплясали рыжие искры.
Потому что легат Второго легиона, любимец солдат, покровитель и заступник, по приказу которого каждый из пяти тысяч легионеров не колеблясь шагнул бы в воды Леты, прославленный Гай Эмилий Лонгин предстал перед Пантерой обнаженным.
– Садись.
Сказав это, Эмилий Лонгин отбросил свиток, с которым расхаживал, и тоже сел.
Перехватил взгляд Пантеры.
– Жара… – вяло сказал он и прикрыл чресла полой туники.
– Это верно, – согласился Пантера.
Палатка легата, даже несмотря на размеры (а в ней можно было вольготно подкинуть и поймать пилум, не боясь за полог), не спасала от иудейского солнца.
Они смотрели друг на друга. Командир и подчиненный.
Тридцать лет – это хороший срок. За это время младенец вырастает в мужчину и вольготно подкидывает к солнцу своего ребенка. Что же говорить о двух мужчинах, избравших своим ремеслом войну и неплохо им овладевших, если этот срок исчисляется тремя десятками лет и еще не вышел?
Командир и подчиненный.
Жизненный путь Гая Эмилия Лонгина ни для кого не был тайной. Какое! Вся тайна умещалась на ладони каждого безусого новобранца, путающегося в ремешках калиг и не знающего своего места в строю. Дед его, простой ремесленник из Затиберья, выдвинулся в Первую галльскую войну и получил от Цезаря перстень. Внука он воспитал в преклонении перед славным именем Отца отечества и серебряным орлом. Лагерь, палатка, бивак – ничего больше внук не знал, но уж это он знал отменно. Его заметил Германик и дал ему в командование легион – великая честь для такого молодого и неродовитого всадника. Легион стал его плотью, его женой, его любимым чадом. Маленький, сухощавый, всегда взъерошенный, он успевал везде. Многодневные походы он совершал нога в ногу со своими солдатами, а принимал пищу и отдыхал только после них. Солдаты молились на него. Германский поход стал бы началом карьеры для любого легата – кроме Эмилия Лонгина. Он был слишком простодушен, слишком прямолинеен, слишком честен для того, чтобы задуматься о своей дальнейшей судьбе. Честный и плут – оба нуждаются в могущественном покровителе. Германик, солдатская душа, умер, потому что солдаты оказались не нужны волчице. Бывает. Пришла мода на льстецов и дворцовых шаркунов, то есть на политиков. Политиком Эмилий Лонгин никак не был. Родись он раньше – был бы при Цезаре наместником где-нибудь в Испании или Ливии. Родись позже – солдаты на своих щитах донесли бы его до императорского трона. Воистину, всему свое время. Это так, но, добавим, воистину, счастье – это жить и быть. А потому не благо ли было для прямого, как римский гладий, Эмилия Лонгина не поспешить и не опоздать? 24
Сейчас, три десятка лет спустя, он остался таким же подвижным и взъерошенным. Седые волосы топорщились в разные стороны, вопреки указаниям небольшого, но острого, словно наконечник стрелы, носа. Только лицо посерело от пыли, снега и ветра. А может быть, просто время припорошило его. Наискосок через грудь и живот белели шрамы – память о Германии.
Глаза Пантеры сузились. У него тоже сохранились отметины о том походе.
– Что? – Эмилий Лонгин перехватил взгляд Пантеры и невольно прикрыл шрамы ладонью.
– Ничего, – хмыкнул Пантера. – Фортуна – прекапризная бабенка. Часто и не поймешь, улыбка на ее лице или ухмылка.
Отец-командир не понял, но на всякий случай нахмурился. Пантера промолчал. Только у глаз собрались лучиками морщины – так он теперь улыбался, когда хотел улыбнуться. Ну не объяснять же этому седому ребенку, что, конечно, всем на свете управляет рок, но шрамы-то им оставили люди, причем, мерзавцы и подлецы, и утверждать обратное – что это все-таки рок, а не мерзавцы и подлецы – значит, слишком смело трактовать время, в котором мы живем.
В этом они были похожи – при всем своем внешнем различии. И хоть Пантера и был вдвое больше и вчетверо крепче, хоть седина почти и не замечалась среди выгоревших, коротких и жестких, как осеннее жнивье, волос его, в нем тоже сидел ребенок – мальчишка, дитя улицы, маленький пройдоха – и все-таки ребенок.
Командир и подчиненный.
Сейчас он терпеливо ждал, пока отец-командир кончит ворчать насчет отсутствия субординации у подчиненных и общего падения уровня дисциплины среди легионеров. Терпению он был обучен. Армия – это терпение. Иногда периоды терпения сменяются войной, когда нужно быть не терпеливым, а вдвойне терпеливым, вот и все. Слишком хорошо он изучил легата за эти годы и потому знал, что причина его ворчания не в Пантере, а в самом легате. И, скорее всего, причина паскудная.








